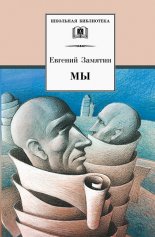Седьмое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху Купер Рамо Джошуа

Позже Уиснер вспоминал напряженность, царившую в Каире, когда он туда прибыл. Беспокойство города было таким, какого он прежде не видел. Он приземлился и почти сразу же отправился на встречу с президентом. Мубарак уверял Уиснера, что ситуация обязательно нормализуется. Скоро. За несколько дней до этого он уволил почти весь Кабинет. Он пообещал провести реформы и начал выяснять, с чего лучше начать и когда. Он намекнул Уиснеру, что слухи о переходе власти к его сыну Гамалю были не совсем безосновательны. Но Мубарак еще не собирался никуда уходить.
Уиснер попробовал поступить иначе: он спросил, не хотел бы президент покинуть страну. Быть может, за лечением? Мубарак отклонил эту идею, сославшись на то, что видал ситуации и похуже. Мубарак сидел в паре сантиметров от Садата, когда того убили, и сам пережил 6 покушений на убийство. И в итоге он сказал, что собирался выступить на телевидении в этот же вечер. Он собирался прямо обратиться к протестующим. Рассказать и им, и остальным египтянам о своих планах реформ и о постепенной смене власти. Напомнить им о величии национального духа. Об обширности их древней истории. И он не собирался оставить и тени сомнения в том, что он останется, что он умрет на египетской земле. «Можете и Белому дому это передать», – сказал Мубарак Уиснеру. В конце разговора Мубарак пообещал выполнить по крайней мере одно из требований, с которыми был послан Уиснер, и одно из них – никакого насилия. Торжественный уход в какой-то момент. Даже выборы. Но все это – только на его веку.
В те дни, как вспоминал Уиснер, Мубарак был окружен советчиками, которые сами ничего толком не понимали. Вся верхушка властной структуры Египта была убеждена, что ее положению ничего не угрожает. Они, в конце концов, являлись как бы тонкой линией между современным миром и кипящими от злобы исламскими фундаменталистами, алчущими захватить бразды правления. Были арестованы стандартные диссиденты, традиционные каналы связи были перекрыты, что подтверждали информаторы. Ничего. Старые, надежные методы сдерживания не работали. Обстановка накалялась. Нетрудно понять, почему эти высшие лица верили, что они уцелеют. Они никогда не допускали промахов. Мубарак занимал пост президента на протяжении 30 лет. По крайней мере на тот момент силлогистические суждения президента звучали убедительно: «Египту нужна стабильность. Только я могу ее обеспечить. Поэтому Египту нужен я».
Уиснер покинул президентский дворец. Он передал собранные сведения Вашингтону, на этом его работа была окончена, и он направился в аэропорт. В тот вечер он ожидал своего рейса в замызганном холле отеля у дороги, ведущей из города; он сидел напротив телевизора и видел обещанную речь президента. Он выглядел абсолютно уверенно на экране. Это был Мубарак, которого Уиснер знал в 80-х. Этот человек всегда отличался лихой самоуверенностью; она не покидала его и во время той речи, когда он вот-вот должен был столкнуться с неизведанным. Он был тверд, красив и превосходно держал себя. Уиснеру на мгновение подумалось: «Этот человек вытаскивал страну в тяжелые времена. Он выдержит». Шесть покушений. Мубарак всегда выходил сухим из воды.
Уиснер смотрел и понимал, какие испытания ждут этого великого человека. «А Мубарак понимает? – говорил про себя Уиснер. – Он вообще понимает, что вокруг него происходит?» В том, что он произносил свою речь по телевидению перед этим странным революционным движением, распространявшимся через смартфоны Каира, так же как и его улицы, проглядывало следующее: старая власть с трудом справляется с новыми условиями. Уиснер видел записи речей, которые были нацелены на то, чтобы утихомирить толпу, но вместо этого только разжигали ее. Он сознавал, что Мубарак был на самой грани.
Мубарак рассказал на телевидении, что не собирается баллотироваться в президенты снова. Он сказал своим слушателям, что наступят изменения. Но Уиснер видел, что чего-то не хватало. Мубарак должен был обратиться к протестующим, войдя в их положение, дабы показать им, что он понимал, что к чему. «Только одного Мубарак ни в коем случае не должен был допускать, – думал Уиснер, наблюдая за тем, как Мубарак мучился в последующие недели. – Высокомерия. Ему нельзя было обращаться к протестующим свысока, как если бы он говорил с детьми. Так что когда Уиснер, вскоре после того как он покинул Каир, смотрел, как Мубарак в очередной раз выступал, и услышал, как президент сказал своим обычным твердым, немного резким голосом: «Я обращаюсь ко всем вам от чистого сердца, как отец – к своим сыновьям и дочерям», – он лишь разочарованно вздохнул от неизбежности трагедии.
Спустя две недели президент Мубарак подал в отставку.
Представьте на секунду, что вы – Мубарак, – ну или любой успешный автократ начала XXI века. Несколько десятков лет вы держали в своей деснице какую-то одну страну среднеазиатского или североафриканского региона. Возможно, ваша позиция перешла к вам по наследству от отца или дяди. Они обучили вас власти. «Держи все под контролем». «Регулярно сменяй высших лиц». «Время от времени устраняй врагов». Вы воочию увидели все преимущества применения жестких мер. Вы послали своих офицеров учиться в лучшие школы США и Европы, и те научились смягчать свою крепкую хватку (умеренной) гуманностью. Если кратко, то вы освоили применение силы и формирование в народном уме такой установки, при которой ваше имя – будь то Каддафи, Зин эль-Абидин Бен Али, – воспринимается как синоним стабильности процветания и даже служит поводом для гордости. Нынешний порядок вам кажется наистабильнейшим. Вы знаете, что когда-нибудь он может измениться, но это кажется вам слишком далеким, чтобы вызывать беспокойство. Вы откладываете реформы. Вы готовите сына к принятию власти от вас. Тем временем ваши граждане осваивают Интернет и сотовые телефоны. И в один прекрасный день 2008 года во время финансового кризиса, который, впрочем, имел место далеко за пределами вашей страны, вы начинаете замечать тревожные тенденции. На улицах Исландии, Испании, Чили, Израиля, Украины, Турции, Мексики и Нью-Йорка собираются тысячи и сотни тысяч людей. В этих протестах не присутствует ни единого лидера. Эти движения дышат и растут как органическое целое. Недовольство просачивается везде, даже если формула одна и та же: массовые собрания, контроль какого-нибудь важнейшего общественного пространства – площади, фондовой биржи, парка. Оно стройно организовано, причем при помощи совершенно эфемерных средств: СМС, видео, чатов. Подобные движения возникают по всему миру. В Иране, в Италии, в России. «Захвати Уолл-стрит», протест против экономического неравенства и финансовой системы, бушует в Нью-Йорке. Он становится саморекламируемым социальным движением и возникает во множестве городов: «Захвати Вашингтон». «Захвати Сентрал» в Гонконге. «Захвати – как ни странно – Лас-Вегас».
Затем в Сиди-Бузид, тихий тунисский городок вдали от всех этих шаек, попадает искорка. Местный лавочник поджег себя. Полиция (хуже – женщина-полицейский) изъяла у него весы и фрукты, а затем мотала его по различным инстанциям по той лишь причине, что он беден и ничего не может с этим сделать. Декабрь 2010 года. В считаные часы протесты охватывают Сиди-Бузид. Они распространяются до Туниса. Затем – до Триполи. Затем – до Дамаска. Вы видите, как гнев, передающийся по некогда невидимым технологическим линиям видео и текста, подрывает стабильность в Северной Африке. В последующие два года лидеры лишаются власти в Египте, Тунисе, Ливии и Йемене. Их имена, вместо того чтобы быть символами стабильности, в мгновение ока стали олицетворять несправедливость. Другие страны – Сирия, Алжир, Судан, Бахрейн – засасывает в черную дыру гражданского насилия. Некоторые ошибочно видят в этом демократическую революцию. Со временем, однако, становится понятно, что это если и похоже на нее, то очень отдаленно. Нечто куда более сложное проглядывает из мглы насилия. Новые почти что виртуальные группы формируются также и в вакууме власти – смертоносные версии объединенного протеста. Зародилась новая форма политической энергии – метод объединения людей и идей и легкая в обращении разрушительная сила в одном флаконе. Действует она одинаково как среди маньяков-фундаменталистов, так и среди оптимистической молодежи. Демократическая революция? Нет. Просто революция? Да, определенно.
Несколькими годами позже, когда вас сместили или вы оказались в бегах, после того, как ваша страна пережила переворот, а вас навестил благонамеренный американский дипломат, увещающий вас тихо осесть в Саудовской Аравии, испанский философ Мануэль Кастельс назовет болезнь, свалившую вас. Возможно, Кастельс не вполне подходит для постановления диагноза политического заболевания, охватившего такую большую часть мира начиная с 2008 года. Одевается этот невысокий, шустрый человек с растрепанной шапкой седых волос так, словно работает в какой-нибудь конторе бухгалтером, а благодаря раскатистому испанскому акценту его речь отдает романтикой. Такая комбинация качеств идеально вкладывает в его уста слово «револууция». Кастельс провел десятилетия, самоотверженно трудясь в изучении сетей, занимаясь с таким усердием, с каким, например, антрополог документирует далекое неизученное племя. В конце 1990-х годов его исследование определило рамки мира, в котором мы обитаем: стремительно меняющийся, испещренный коммуникациями и технологиями и необычным образом связанный. «Сетевое общество, – рассуждал он, – это качественное изменение в жизни человечества как такового».
Мало-помалу Кастельса стало интересовать, как это изменение влияет на политику. Выступая в Гарварде весной 2014-го, он представил публике то, что он изучил за последние 10 лет, – и особенно о периоде после 2008 года, когда большую часть времени он проводил, разъезжая по эпицентрам вспышек недовольства. «Мы свидетели рождения новой формы общественного движения», – сказал он слушателям. Информационные технологии создавали массивные и быстрые социальные волны. Такие движения молниеносно переходили из невидимого состояния в неукротимое. Они требовали политических изменений, экономической справедливости или – хотя и странно видеть такое от столь высокотехнологических инициатив – отката к дотехнологическому состоянию. В большинстве этих стран старые организации мало интересовали новое поколение протестующих. Политические партии прогнили. Сфера медиа была в полной власти государства и контролировалась миллиардерами. Поколению, которое привыкло к моментальному проявлению и употреблению информационного воздействия, замедленное течение жизни в сломанных структурах казалось нетерпимым.
В любом случае была одна дополнительная опция. Twitter, Facebook и YouTube ясно дали им это понять. Так, в десятках городов вспыхнули несанкционированные и неконтролируемые восстания. Коллективную деятельность движений последних нескольких сотен лет – от взятия Бастилии до восстаний рабочих – сменила связующая деятельность. Незнакомые люди с разными жизнями и устремлениями связывались между собой через высокоскоростные биты ярости. Вероятно, это можно было предвидеть, ибо это было отражением быстрорастущего динамизма самого кризиса 2008 года. Как заметил служащий центрального банка Великобритании экономист Энди Холдейн, мир никогда прежде не проходил через настоящий глобальный экономический кризис, в котором каждая страна на планете, связанная с остальными посредством сетей финансов и технологий (и страха), кубарем повалилась вниз по наклонной в одну и ту же наносекунду. Всего лишь за один трехмесячный промежуток времени основные составляющие глобальной экономики сократились на 5 %.
Как бы быстро такие катаклизмы, как вышеизложенный экономический, ни распространялись, политические цепные реакции, кажется, двигаются еще быстрее, отражаясь эхом друг от друга и принося еще более громкие и комплексные результаты. ИГИЛ, например, почти весь возник из хаоса цифровой связи и по сути являлся реакцией на управляемое через сеть разрушение, каковым являлась Арабская весна, – а также на произошедший ранее раскол старого порядка в Ираке. Когда Барак Обама наотмашь обозвал ИГИЛ нелепым сборищем террористов и заявил, что Западу беспокоиться не о чем, он руководствовался теми же соображениями, из-за которых прекратилось президентство Мубарака. «Не могут эти ребятишки представлять собой что-нибудь серьезное». Молодость этих групп, то обстоятельство, благодаря которому они как раз таки были чем угодно, но не сборищем, следует также иметь в виду их необычайную сноровку во владении виртуальным пространством, – все это лишь усиливало их энергию и привлекательность. Даже в тех странах, которые по американским меркам были технически «отсталыми», системы коммуникаций буквально форсировали революцию. Они расторопно заняли место нежизнеспособных традиционных медиа и поспособствовали созданию таких необычных групп, как «Сирийская электронная армия» и «Захвати Гонконг».
Обычно длинный перечень безнадежных уязвимостей – отсутствие денег, отсутствие союзников, отсутствие доступа, отсутствие власти – усугублял отчужденность. Но ИГИЛ – это как блогеры в Иране, активисты Нью-Йорка, борющиеся за социальную справедливость, или йеменские хусисты-реваншисты, вызывающе взирающие на людей, обладающих деньгами, союзниками, властью и беспилотниками. Обама, Мубарак и [вставьте любое влиятельное имя или институт] оказались слишком медленными. Они были не в теме. Все их связи оказались неверными. И хотя отдельные части новых сетей – молодые студенты, военные, которые еще не вполне освоились и огрубели, – и были мягкими, с человеческим лицом, и легко нейтрализуемые, они все же продолжали подтачивать старый уклад. Связанные вместе, коммуникационные системы сами по себе были способны на большее, чем их отдельные составляющие.
То, что их связывало, не было лишь одной отдельной проблемой или идентификацией. Их скрепляла дешевая, сиюминутная связь. И они, надо признаться, свирепствовали.
«Старики» тоже были не промах, разумеется. Они попытались блокировать технологию как таковую или метили по важнейшим местам сетей. К примеру, такого рода команды, как «Арестуй или убей любого главаря, которого сможешь найти!», были гарантом восстановления стабильности в Иране. Другие правительства считали, что волю протестующих можно подавить с помощью гонений на их близких. Репрессии на родственников и близких, как выяснилось, были наиболее удобным и быстрым способом, с помощью которого власть могла обратить одну сеть против другой. Египетская армия, например, имела очень серьезный и обстоятельный план действий. Она уступила массовой оппозиции и даже дала волю экстремистским сетям. Но позже оказалось, что это было не чем иным, как прелюдией, целью которой было отследить связи этих групп, с тем чтобы досконально изучить, как они функционировали, и получить сведения о секретных источниках их могущества, влиятельности и денег. А потом, когда египетскому народу опостылели недоисламисты у власти, – словно бы армия знала, что это когда-нибудь произойдет, – за дело взялись генералы.
Скептики бы набросились на Кастельса с расспросами: «Да чего вообще этими несчастными протестами можно добиться?» Что это за такая «револууция», которая не принесла Триполи и Дамаску ничего, кроме пробоин? Достижения их, признавал Кастельс, были в большинстве своем деструктивны. Но в этом-то вся суть. Именно это ломание старых законов, разбивание вдребезги идей власти и контроля, изменило все. Еще это открыло скрытую логику, лежащую в основе сетевых систем коммуникации. «Ничего серьезного?» Это то же самое, что сказать, что на землетрясения и эпидемии не стоит обращать никакого внимания. По тому, как сети выворачивали системы, которые когда-то были нерушимы, можно было сказать, что сетевые общественные движения – вещь более чем серьезная. Они выявили взаимосвязанные сети фатальных ошибок. Они показывали, как группы могли всасывать в себя коммуникативную энергетику сетей по невидимым каналам и приводить себя в движение, точно как если бы они подключались к электросети. Протестующие и террористы хорошо понимали мощь, которая существовала благодаря одной лишь связи. И у них было осознание, которого не было у благоустроенных людей в дворцах. Традиционная реакция высших лиц – «Схватить всех подозреваемых» – не работала, поскольку, как заметил Кастельс, «подозреваемыми были сети». Сеть не арестуешь.
Перед тем как мы углубимся в рассмотрение того, каким образом можно использовать в своих интересах потенциал сетей, нам нужно то, чего не хватает многим недооценивающим ее политикам. Раньше мы накладывали мир на схему «король и подчиненные» или «генерал и его армия», – или даже «газета и ее читатели», – а сейчас нам нужно уметь рассуждать на тему того, как организованы такие компании, как Facebook, Uber или Microsoft cloud, и видеть, как те же самые правила применимы и к финансовым компаниям, и к вооруженным силам. Успешных людей с развитым ощущением глобальных сетей отличает то, что они видят их новые и необычные по устройству структуры. Они понимают, как по ним передается энергия. Джефферсон понимал, как демократия наполняется энергией, и это было одной из причин, по которым он был так настойчив по поводу Билля о правах в разговорах с Мэдисоном. У сегодняшних революционеров похожие идеи. Великолепие дизайнеров серверных кластеров из Google, торговцев на электронных рынках или даже, как ни прискорбно, террористических групп состоит в том, что они видят то, что большинство из нас пока не замечает. Как выглядит сеть? Можем ли мы ее описать друг другу, как мы описываем, допустим, монархию? «Наверху король. Внизу рыцари». Да, сеть нельзя арестовать, как сказал Кастельс. Но можно ли хотя бы выявить ее опасные места? Когда Кастельс говорит: «Энергия перетекает», – что это вообще значит? В этой главе я хочу сделать подробное изображение сети так же, как мы можем набросать структуру монархии с королем и подчиненными. Что общего между толпами исламских пуритан и ИГИЛ? Почему и тех, и других недооценивают? Это изображение – как бы универсальный ключ к пониманию нашей эпохи. Он открывает почти все сетевые замки вокруг нас. В известном смысле он отворяет дверь в мир, где и мы можем начать пользоваться сетями. Среди историков и антропологов бытует мнение, что энергия – способность провоцировать события – определяется строением. Когда я говорю «сверхдержава» (или «сверхсила»), я одним словом рисую картину международной системы. Слово «магистраль» говорит что-то о логистике, грузовиках, экономическом потенциале. Вот почему организационные таблицы значат так много – или так мало – в случаях, когда невидимые человеческие отношения формируют невидимые сети влияния. Представьте энергетическую карту вашей семьи, вашего офиса или вашей страны. Кто принимает решения? Почему? То, как мы связываем наши жизни с компаниями, конгрессами или университетами, оказывает влияние почти на все остальные наши решения. Фирма, директор которой грешит имперскими замашками, и фирма, в которой босс стоит на равных со своими подчиненными, – совершенно разные вещи. Армия с вертикальной иерархией отличается от той, которая живет так, словно она – рыба, а народ – вода, как выразился Мао о китайских партизанах, сумевших завладеть страной в 1949 году. Энергия всегда укладывается в своего рода структуры. Императоры, короли, президенты и правительства являются отражениями определенных договоренностей. Но договоренности изменяются; силовые поля перемещаются. Можно увидеть, как эти постоянные перемены досаждают лидерам: вспомните, как Фридрих Великий, король Пруссии, Иосиф II из Габсбургской династии или Екатерина II пытались совместить новые по тогдашним меркам идеи свободы и старые представления о власти. История, в каком-то смысле, суть не что иное, как повесть о передаче энергии. Когда-то ассирийский царь был явлением новым, так же как и идея президентства или папства. Историей движет возникновение всяческих новых видов и явлений и отмирание старых. Это в той же мере применимо к институтам, как, скажем, к насекомым, но только с одной оговоркой: никто просто так с властью не расстается.
Существуют целые концепции о власти, которые выглядят безупречно разумными, пока в один прекрасный день они вдруг не оказываются полнейшей безделицей. На протяжении тысячелетий идея о том, что одному феодальному можно контролировать тысячи людей, выглядела абсолютно разумной как для лордов, так и для тех, кого они контролировали. Знаменитые слова Джона Мейнарда Кейнса о Египте – «Если вы построили пирамиды, это еще не означает, что вы будете ими пользоваться» – явились камнем в огород целой концепции, которая казалась неоспоримой на протяжении столетий, даже несмотря на то, что функционировала она неоспоримо ужасно. Объекты и явления – рвы, огромные соборы, пирамиды, фабрики – существуют только потому, что энергитические поля распределились таким образом, чтобы допустить, активизировать или вызвать их к жизни. Наша повседневная активность – то, как мы ходим за покупками, в каких местах мы встречаемся с друзьями, политика, к которой мы тяготеем, – образует долговременные структуры, точно так же как фермеры, раз за разом пересекающие поле, в конце концов протаптывают тропу. Торговые центры, демократия, горячие точки – это все артефакты человеческого присутствия.
Уже сейчас можно увидеть, что энергетическое наполнение сетей создает целые новые образования. Появляются новые бизнесы, случаются новые прорывы, образуются новые горячие точки. И это также создает новое яркое пространство, в котором образование, медицина, безопасность эффективно выстроены благодаря новому социальному дизайну. Некоторые из этих структур невообразимы нам сейчас так же, как египетскому рабу никогда не могла прийти в голову урна для голосований. Возможности, которые нам предоставляются, в частности, для радикального и широкомасштабного преображения, пока что подвержены риску забвения, поскольку сейчас просто-напросто трудно их представить, как, например, трудно было представить поисковик в 1985 году. Когда мы говорим, что наша эпоха революционна, то мы вовсе не имеем в виду, что это благодаря возможности смотреть видео на телефоне. Это и благодаря тому, почему мы можем смотреть видео на телефоне, и благодаря тому, что это означает для старых, уже начавших паниковать, структур. Но для выработки картины власти не помешает рассказать о самом феномене власти, а также о том, как она менялась в истории.
До начала Просвещения и Промышленной революции политическая и экономическая власть была в высочайшей степени сконцентрированной. Несколько королей и феодалов контролировали большую часть производства. Священники определяли, кто, как и когда может обращаться к Богу. В сфере финансов доминировало несколько семей, большая часть которых работала в тайных учетных заведениях ранних банковских столиц, таких как Амстердам, Генуя и Лион. Мировое знание – наука, история и даже география – держалось в строгой тайне и было недоступным. За стенами монастырей и в университетских аудиториях цель защиты (и редактирования) мирового знания явно шла вразрез с каким бы то ни было стремлением к новым идеям. В те времена предприимчивое или беспринципное меньшинство определяло экономическую, политическую и интеллектуальную жизнь большинства. Власть можно было бы изобразить сосредоточенной в руках немногочисленной, но преуспевающей элиты.
Временами появлялись трещины. Одна из самых ранних в то же время была одной из самых серьезных: схизма, расколовшая католическую церковь. Во-первых, это была работа молодого немецкого теолога начала XVI века по имени Мартин Лютер. Лютер был человеком, чье мировоззрение, как он неоднократно отмечал на закате жизни, было сформировано одним лишь предложением из Послания к Римлянам, 1:17: «В нем открывается правда Божия от веры в веру, ибо писано: праведный верою жив будет». Послание Римлянам – письмо апостола Павла непокорным и духовно чахнущим римским евреям. Его послание было настолько простым и лаконичным, насколько это возможно: передача и восприятие веры требуют единственно наличия самой веры, не больше. Послание Римлянам учит, что веры в Бога вполне достаточно, чтобы обрести все блага небесные – Божье благословение, вечную жизнь, прощение.
Доступ к этим благам во времена Лютера, однако же, был непрост. Духовный контроль, среди прочего, стал прибыльным бизнесом. Роскошь католической церкви, ее умопомрачительных соборов и одеяний, обеспечивалась возмутительной практикой продажи пропусков в рай в форме индульгенций. Этот беспредел во имя Господа не соответствовал чистой личной вере, передающейся от человека к человеку, которую проповедовал Лютер. Когда он увидел прихожан церквей, которыми управляли священники, без зазрения совести обменивающие индульгенции на деньги, он осознал странное, запущенное лицемерие, царившее в церковной среде. Его возмущение хлынуло через край летом 1517 года, когда он выразил претензии к церкви в виде «95 тезисов», которые он прибил к двери одной местной церкви 31 октября. В 5-м тезисе он написал: «Не важно, сколько вы заплатите папе, он все равно не может повлиять на то, что с вами станет после смерти». А в 65-м тезисе: «Индульгенции – сети, которыми ловят ваше богатство».
При том, что Лютер хотел восстановить чувство личной веры в духе святого Павла, он также намеревался завязать тяжкий спор о власти. Лютер настаивал на том, что наши отношения с Богом – это отношения наши, и не чьи-либо еще. Это не то, о чем можно договориться, и уж точно не то, чем можно торговать. Это не требует роскошных одеяний и соборов или золотых скипетров. Для Лютера первое осознание близости Бога явилось предвестием глубокого духовного кризиса. Оно перечеркнуло все, что он знал о власти. В свои дальнейшие годы он вспоминал об одном моменте 1508 года, когда во время изучения трудов Аврелия Августина он почувствовал возможность непосредственной связи с Богом. «Когда я произнес слова: «О милостливый отец!» – писал он, – мысль о том, что я могу говорить с Богом без посредника, привела меня в несказанный ужас и обратила в трепет». Кто он такой, Мартин Лютер, чтобы говорить напрямую с Богом? С тех пор опыт Лютера с Богом, его заключение о том, что сила проходит через личную веру от человека к человеку, а не через веру в деньги, из денег – в церкви, а из церквей – обратно в веру, – заключение это явилось воплощением еретического взгляда на силу: Откровение доступно и без посредника.
Эта концепция обесценила многие предыдущие доктринальные постановления. Церковь моментально почувствовала угрозу. Она поспешно заклеймила Лютера как еретика, а затем – как умалишенного. Отстаивая то, что католическая церковь со всеми ее завораживающими ловушками веры была не более чем бесполезным заведением, основная специализация которого состояла в поборах, Лютер также пытался найти ответ на вопрос: «Как лучше распределять власть?» Если Лютер был прав, и Бог действительно стремился сделать веру настолько доступной для нас, то поверх этого нагромождались новые вопросы. Можно ли нам иметь прямой доступ к политической власти? К идеологии? К деньгам, земле и контролю над собственным экономическим состоянием? Можно ли утверждение «от человека к человеку» интерпретировать как «от от идеи к идее», «от правды к правде» или – и это покажется еще более смелым – «от гражданина к гражданину»? Церковь была лишь одним из многих институтов, восседавших прочно, надежно, комфортно (и жадно) между людьми и властью.
Лютер, позже выяснилось, был не один. Началась эра трудных вопросов и ответов. Польский астроном Николай Коперник, например, опередил Лютера на несколько десятков лет со своим собственным набором новейших идей. «Те, кто знают, что долгие столетия имела право на существование идея о том, что Земля, находясь в состоянии покоя, является центром Вселенной… сочтут меня сумасшедшим, если я скажу, что это не так», – писал он. Макиавелли, Галилей, Эразм и многие другие мыслители трудились с тем же вопрошающим настроем. Их «сумасшедшие» заявления, находя подтверждение, открывали дорогу к еще большим открытиям. Началось Просвещение. Старые центры власти вели себя как ни в чем не бывало; возможно, искренне веря, что менять ничего не имеет смысла. «Этот собор объявляет, что любой несогласный с его положениями будет проклят», – убедительно провозгласила католическая церковь на Тридентском соборе в 1547 году в ответ на реформаторские взгляды Лютера. Но пути назад уже не было. Как написал немецкий философ Иммануил Кант, девиз эпохи можно было представить таким: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» «Просвещение, – писал он, – не требует ничего, кроме свободы».
Это, как оказалось, было чертовски дорогостоящим требованием.
Спустя годы после «95 тезисов» Европу разорвало на части. Устоявшийся образ власти – сконцентрированной и несомненной – рассыпался. Возник новый образ. Идея личной связи с Господом, подход к религии по образу «один человек, одна молитва», – все это вызвало тяжелейшие потрясения. Авторитет почти любого почитаемого лица и института, существующего за счет контроля над людьми и их решениями, – церкви, королей, феодализма, мифов – стремительно падал. «Знание – сила», – писал в своей взрывоопасной книге «Новый органон» английский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон. Смысл его слов состоит в том, что человеческое знание является силой человечества. Легко представить, какую энергию, какую надежду заключала в себе эта книга, которая на латинском языке была передана сначала Кеплеру в его рабочий кабинет в Линце, а затем – необыкновенно обрадовавшемуся Галилею, в Венеции, за десять лет до его заключения. Этот вопрос о силе человечества – то, что вдохновляло ликующие народные массы Европы эпохи Просвещения, разрывающие основы старых структур. Первым последствием ереси Лютера стали войны Реформации, битвы, втянувшие все европейские королевские семьи в распрю между церковью и государством, а затем – в распрю между собою. Кровопролитная Тридцатилетняя война, первый вооруженный конфликт, охвативший всю Европу, оставила после себя новый порядок, при котором каждый король мог сам избрать веру своих подданных. «Cuius regio, eius religio» («Чье королевство, того и вера»), – было решено в Вестфальском мире 1648 года. Договор принес некоторую стабильность, правда, ненадолго. Ведь эту фразу можно наделить любым смыслом, исходя из своих интересов, и извратить ее до такого вида: «мое королевство, моя вера».
В каком-то смысле это революционное брожение умов было необходимо для того, чтобы перевести власть от сытого, благоустроенного асимметричного порядка, при котором несколько людей контролировали так много, к чему-то более симметричному. Реформаторские воззрения Лютера сделали Бога прямо и непосредственно доступным для любого. (Прямо как научные воззрения Коперника сделали возможным сомневаться в Боге как таковом.) Индивидуумы могли спорить на равных. В действительности, важное понятие о том, что все «созданы равными», становилось все более очевидным с каждым новым поколением, однако установление этого равенства спровоцировало Великую французскую революцию, Гражданскую войну в США и нескончаемый поток национально-освободительных войн.
Демократические политические системы ставили такой баланс превыше всего, меняя монархии, в которых правление даровалось по рождению или по насильственному перевороту, на республики, в которых власть принадлежала большинству. Новое видение власти отразилось и на рынках. Основными вопросами стали: «Хорош ли этот товар?», «Сколько стоит?», «А он востребован?», а не «Какому лорду принадлежит это поле?». Переход власти в трудолюбивые руки бизнесменов, политиков, ученых и артистов означал, что идеи, политические доктрины и инновации конкурировали. Они стали лучше. Они эволюционировали. И сумма всех этих взаимосвязанных элементов породила первый в истории уверенный и полноценный экономический рост. «В коммерческом обществе, – писал Адам Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», – каждый человек живет за счет обмена благ или же сам становится в некоторой мере торговцем». Смит не пытался тем самым сказать, что каждый буквально является торговцем; скорее он имел в виду то, что в мире рынков все мы – наш труд, наши идеи, наш капитал – это товар. Нам дарована свобода, но только ради борьбы. Борьбы за голоса, за рабочие места, за ресурсы.
Если старые религии и институты не выдерживали давления этих мощных, уравнивающих сил, значит, нужно было построить новые. Лауреат Нобелевской премии экономист Дуглас Норт назвал эти построения «строительными лесами человечества». Идея равенства влияния или власти – идея, а не просто зыбкая возможность – требовала новые атрибуты, такие как кабины для голосования, законодательная власть, профсоюзы. Верховенство права было одним из главных постулатов: единый общий код, который мог быть равномерно проведен в жизнь во всем отдельно взятом обществе, предполагающий примат порядка над традиционными привилегиями славы, власти или родовитости. Закон стремился к тому, чтобы сделать всех равными перед судом. Это, в свою очередь, предусматривало новое понимание ступеней социальной лестницы – и к тому же вполне предсказуемую алчность в стремлении улучшить собственное положение. Гюстав Флобер предостерегал в своей трагедии «Госпожа Бовари» о социальном восхождении: «До идолов дотрагиваться нельзя – позолота пристает к пальцам».
Это, впрочем, не отвратило никого от погони за богатством. Это касалось и читателей Флобера, в конце концов: широкое распространение грамотности обеспечило ему читателей. А стандартизация различных величин и зарождение универсальных кредитов и валют стали инструментами для распространения надежды, власти и способов доступа. «Ей хотелось умереть и в то же время хотелось жить в Париже», – писал Флобер о бедной Эмме Бовари, совершенно помешавшейся из-за возможности иметь все больше, больше и больше. Она не была уникальной: музеи были переполнены посетителями. На научных конгрессах умы сталкивались друг с другом во время дебатов. Глобальные индустриальные экспозиции обращали теоретическое знание в промышленную выгоду. Более чем когда бы то ни было стало эффективным использование железа, пара и электричества – это явилось свидетельством произошедшего небывалого кульбита надежд и достижений, связавшего друг с другом лаборатории и рынки, ученых и бизнесменов. Все образы «Бовари» – карабкающаяся по социальной лестнице домохозяйка, алчный наблюдатель, преисполненный надежд изобретатель – присутствуют в нашей жизни и сегодня. Это отражения людей нашего времени.
«Все зафиксированные, замороженные отношения отметаются прочь, а новые устаревают еще до того, как успевают оформиться. Все целостное тает в воздухе, все святое оскверняется», – писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс о скорости этих перемен в 1849 году. Чем больше людей «имели мужество пользоваться собственным умом», тем яснее становилось, что появление противоречивых идей неизбежно. Эволюция, идеи, связанные с электричеством и политикой, – все это привлекало любопытствующую аудиторию. Джон Локк, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин – все они были в равной мере известны как благодаря своим идеям, так и толпам неистово спорящих людей, которые они порождали. Споры были призваны пролить свет на истину, вызвать у людей то ошеломляющее чувство, которое испытывал Лютер, открывая свои будоражащие идеи. Немаловажно то, что эти дебаты были записаны – напечатаны в журналах и книгах и продолжены в письмах.
На протяжении истории знание многое претерпело от воздействия одной нелепой напасти: всегда была вероятность, что какое-то важное открытие потеряется в эпидемии, канет в Лету при повешении еретика, будет сожжено в огне или растворится в военных дрязгах. По этой причине до нас дошли почти все пьесы Шекспира XVI века и почти ничего из поэзии Сапфо VI века до нашей эры. Широкое распространение знаний было словно страховым полисом сохранности величайших идей человечества и изящного искусства. «Я видел дальше других только потому, – писал Ньютон, – что стою на плечах гигантов». Революция Ньютона постоянно требовала столь много книг, сколь гениальными они были. В этом смысле сохранение и развитие знаний, новая симметрия оказалась не только величайшей переменой власти в истории; это также было лучшим, что когда-либо происходило с человеческим родом.
С другой стороны, это, конечно, имело свои негативные проявления. Симметрия имела и темную сторону. Она предполагала, что народы решали стратегические вопросы путем подавления одной массивной, смертоносной силой другой. С каждым годом европейские машины науки и индустрии выковывали орудия небывалой разрушительной силы. Величайшие победы Наполеона были обеспечены столько же промышленной мощью французских артиллерийских заводов, сколько и освобожденным Великой французской революцией народом. Само название французской leve en masse говорило о масштабе того, что может быть сотворено, когда целый народ, а не только наемники и аристократы, выходит на передовую. Когда Британская империя сместила Францию, сделано это было за счет масштаба и доминирования в море. Титанические коммерческие механизмы Германии бросали вызов Лондонскому союзническому владению земным шаром. Размер, масштаб и безопасность стали взаимосвязанными – урок, окончательно подтвержденный американской глобальной гегемонией. Единственным утешением Уинстона Черчилля на протяжении 2 напряженных лет после 1939 года была несомненная сила американской индустрии. «Я знал, что отныне Соединенные Штаты погрязнут в войне по уши и до смерти», – писал он день спустя после Перл-Харбора. «Судьба Гитлера решена. Судьба Муссолини решена. Что касается японцев, они будут сожжены дотла. Остальное – не более чем дело разумного применения силы». Или оборотная сторона монеты: адмирал Ямамото – премьер-министру Коноэ: «Если Вы скажете, что мы должны сражаться, то в первые 6 месяцев войны против США и Англии я напрягу все силы, я продемонстрирую непрерывную череду побед; должен также Вам сказать, что коль скоро война затянется на 2 или 3 года, то сомнения нет – нас ждет решительная победа». Сожжены дотла. Масса на массу. Это была симметрия во всей красе, образ силы, который в своей чистейшей логичности казался несомненным. До этого момента.
Итак, как же нам думать о власти в наше время? Как лучше всего изобразить ее выдающиеся, неотступные требования?
Наверняка приятно думать, что мы оставляем этот мир соперничества «масса-на-массу» позади. Вместе с тем сейчас крохотные разрывы в любом месте глобальных сетей могут вызвать сильнейшее и даже фатальное, разрушительное давление – один умный хакер, один безумный террорист, один фондовый менеджер, замышляющий недоброе, или одна случайная ошибка соединения может причинить огромный ущерб. Никогда еще столько власти над нами не содержалось в системах, столь уязвимых к единичным просчетам. Создается впечатление, что сейчас что-то может разрастаться или слабеть в одно и то же время. Нация может иметь высочайший уровень ВВП, но если она неверно встроена в информационное пространство или ее социальные, юридические или молодежные коммуникации дают осечку, то страна может оказаться куда более уязвимой, чем это может показаться, глядя на ее финансовые показатели.
Но «сила воздействия точечных ударов» – это еще не все. В тот самый момент, когда сеть становится похожей на инструмент, способный наделить малые силы громадным влиянием, мы отмечаем нечто еще: потрясающую, даже историческую концентрацию могущества. Такие платформы, как Facebook, такие операционные системы, как Microsoft, и такие поисковые центры, как Google, массивны и едва подлежат замене. Google отвечает на вопросы более половины населения Земли каждый день. Не самая ли это мощная компания в истории человечества? А Facebook? Можно ли считать их могущество широко распространенным? Или же оно заключено в алгоритмах и облачных базах данных?
Скачок, который нам необходимо совершить в понимании нашей сетевой эпохи, – я под этим разумею не один лишь Интернет, но вообще любую систему коммуникаций, которую можно представить, – начинается со следующей идеи: в глобальных коммуникационных системах их могущество определяется и внушительной концентрацией, и широким распространением. Это невозможно осмыслить с примитивной позиции «либо-либо». Могущество сетей и их влияние в ближайшем будущем станут более централизованными, чем в феодальные времена, и более распространенными, чем в самых продвинутых демократиях. Можно сказать, что могущество сетей заключено под покровом миллиардов взаимосвязанных, жизненно важных, централизованных узлов. Мир необычайно быстрыми темпами заполняется бесчисленными соединенными устройствами и людьми, но мы также создаем интегрирующие компании, протоколы и системы. Биологические исследования такой высокой сложности, когда для их проведения требовались лаборатории, стоящие миллиарды долларов, сейчас осуществляются на лабораторных настольных компьютерах (распространение), связанных с огромными облачными хранилищами генетических данных (концентрация). Вы можете снять видео высокого качества с помощью своего телефона (распространение) и поделиться им с миллионами пользователей через один из централизованных фотосервисов вроде Instagram. Финансовый инженер может спроектировать новый инструмент торговли (распространение), но выгода от этого будет зависеть от возможности мгновенного подключения к торговым сессиям финансовых, ценообразующих рынков (концентрация).
Эта тягучая, как сладкая вата, сеть связей между малым (ваши часы) и большим (объединенные базы данных) постоянно расширяется в пространстве. Так, пожалуй, легче всего можно представить изображение глобальных сетей. Так возникли объединенные толпы людей на площади Тахрир, выросшие как по волшебству на некогда невидимом пространстве, связывающем их телефоны и такие платформы, как YouTube. Ничего удивительного в том, что люди Мубарака пребывали в растерянности. Тем же путем согласованно функционирующие террористические группы возникли почти из ниоткуда и тотчас принялись формировать армию последователей со всего мира через огромные платформы мгновенных сообщений, изумляя премудрых аналитиков фундаментализма, которые были убеждены, что для привлечения маньяков требовались мечети, медресе и хотя бы какой-то личный шарм.
Как сказал нам три столетия назад Адам Смит, коммерческое общество – это такое общество, где каждый должен стать торговцем. В эру глобальных коммуникаций каждый из нас является узлом. Мы находимся на густой, растянутой поверхности между центром и периферией. Это тот самый распорядок, который мы должны держать в уме, произнося: «Коммуникации меняют свойства предмета». «Социальные структуры, – пишут Джон Пэджетт и Уолтер Пауэлл в своем блестящем изучении сложных систем связи – «Формирование организаций и рынков», – следует рассматривать скорее как завихрения в потоке социальной жизни, чем как монолитные здания». Это идея с удручающим подтекстом: се структуры, частью которых мы являемся, – правительства, университеты, компании, в которых мы работаем, даже наше сознание – это не больше чем временные скопления отношений. И, разумеется, отношения эти могут измениться в любой миг.
Напряжение, существующее между концентрацией и распространением, действует как гидравлическое. Оно лишает могущества старые, некогда совершенно законные рычаги управления. Возьмем, к примеру, моего отца. Кардиолог, он является продолжателем медицинской традиции, передававшейся из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, согласно которой врач – центральное звено контроля вашего здоровья. Если бы вас – не дай бог! – привезли в больницу на носилках, то вы должны были бы уповать прежде всего на десятилетия подготовки и практики моего отца. Но теперь почти каждый его пациент – даже тот, которого он буквально вырвал из лап смерти, – перепроверяет его, как только тот покидает помещение. У них еще даже трубки из носа не достали, а они уже «гуглят» свое заболевание, сканируют сайты сомнительной достоверности и вступают в сообщества людей с такой же болезнью. В то же самое время у заключений моего отца касательно его пациентов появляются конкуренты. Уже скоро формирующийся «Интернет ДНК», представляющий собой детализированные собрания историй лечения и взаимосвязанные базы данных медицинских обновлений и открытий, будет изучаться машинными интеллектами, способными ставить диагнозы быстрее и эффективнее, чем он. Постоянная связь между информационными центрами и датчиками, которые мы будем носить на себе (или в себе), только усугубит положение моего отца. Они, эти датчики, будут фиксировать то, на что он никогда не мог и надеяться, – незначительные, но опасные изменения в вашем сердечном ритме, опасные химические соединения, синтезируемые новыми лекарствами, ваше состояние в каждый отдельный момент вашей жизни.
Сети создают и концентрацию, и распределение. Результатом этого является уничтожение многих существующих структур. Взгляните на нашу многострадальную глобальную экономику. Безумное скопление богатства и организация массового найма дешевой рабочей силы функционируют согласно той же самой логике. Точно так же, как роль моего отца в качестве посредника в здравоохранении рвется на куски, так же и мировой средний класс сдавливается со всех сторон одновременно. Его рабочие места ускользают к автоматизированным машинам и вьетнамским фабрикам (распределение). Финансовое приращение в то же время происходит тем быстрее у тех, кто находится в самом центре системы, располагает большей информацией, большими возможностями и – во всех смыслах – большими связями.
Наложение экономики поверх сетевого пространства создает новое, разрушающее давление. «Нас просто-напросто уничтожают», – говорил мне мой друг из Южной Кореи о проседании экономики в его стране. Корейские компьютерные и телевизионные производители когда-то надеялись, что смогут разработать свое полностью независимое программное обеспечение, что их технология промышленного производства не будет иметь себе равных. Но их потребителей с самого момента своего появления начали переманивать к себе такие фирмы, как Google, Facebook и Apple. Местные корейские конкуренты не имели никаких преимуществ – и, следовательно, никаких шансов. Знаменитое корейское превосходство не устояло перед дешевизной китайского и затем вьетнамского производства, поставленных на конвейер. Работа в технологической компании, базирующейся в Сеуле, и работа в кардиологическом кабинете моего отца были странно схожи между собой.
Сейчас практически везде можно усмотреть проявление действия этой схемы сетевого разрушения, происходящего в результате появления мощнейших центров знания и широкого развития коммуникаций. Газеты сместили краудсорсинговые новостные ресурсы и умные ленты новостей в социальных сетях. Неприступные когда-то телевизионные сети времен «Веселой компании» и «Сейнфилда» поглощены дешевыми видеохостингами и другими интернет-платформами.
Bitcoin и другие цифровые валюты первого поколения делают нечто похожее, подрывая некогда неоспоримый авторитет центральных банков. Беспилотники теперь тоже стали порождениями сетевых коммуникаций, парящими среди бесчисленных нитей сигналов GPS, созданных благодаря распространению авиационных технологий и также благодаря ноу-хау. С нашими представлениями о безопасности они сделают то же, что давление сетевых «концентрации-распространения» делает с медициной и финансами: они представляют наши старые обычаи медленными, бесполезным мусором. Самоорганизующийся флот против авианосцев? Пограничных войск? Солдат? Подумайте о том, как барон Осман спроектировал Париж XIX века для обеспечения защиты от характерной опасности эпохи Просвещения – освобожденных, озлобленных граждан. Широкие бульвары, узкие переулки и центральные оси города были расположены таким образом, чтобы помочь полиции быстро окружить восставших. Наши города? Их нужно будет защитить от налетов асимметричных вооруженных беспилотников, самоуправляемых машин «Скорой помощи» и роботизированной полиции. Уже скоро беспилотники вызовут необходимость переоформления наших городов, так же как автомобили вызвали необходимость такого переоформления в прошлом веке. Вот очередное проявление закона силы сетей Конуэя. Виртуальное вторгается в реальное.
Простая и когда-то давно бывшая уместной идея о том, что коммуникации – это освобождение, ошибочна. Быть вовлеченными в сетевое взаимодействие сейчас означает быть заключенным в мощном и динамичном напряжении. Такие балансирующие силы проявляются даже в самом корне природной организации мира – в ядрах атомов. Великим прорывом в физике в прошлом столетии было доказательство того, что мощная энергия атомов представляла собой баланс необъятных сил электрического взаимодействия. Отрицательно заряженные электроны, вращающиеся вокруг атома, уравновешивались протонами и нейтронами, заключенными в атомном ядре. Водород в этом смысле является простейшим элементом: один электрон соответствует одному протону. Уран же находится на другом конце шкалы с его 92 мощными электронами, которым соответствуют 92 протона в его ядре. Эта же балансирующая энергия применима и к сетям: чем больше на выходе устройств, тем мощнее должен быть центр. Когда Google получал только несколько десятков запросов в час, от ядра особых усилий не требовалось. Он был как атом водорода. Теперь, однако, Google подвергается непрерывной осаде трафика. Ваш телефон, ваша машина, любой браузер – все это подобно электронам, тянущимся к информационным центрам с непрестанными требованиями. Масштаб всего этого поистине поразителен: внутренний трафик серверов Google составляет 10 % от всего Интернета. По этой статистике можно сделать вывод о том, какая работа требуется для управления всеми этими миллиардами взаимосвязанных точек, каждая из которых тянется к центральному ядру. Чем больше устройств, тем более мощным должно быть ядро. «Распространение и концентрация» – основа сетевого могущества в наши дни.
Эти трансформации, то, как центры и локальные представительства силы безжалостно раздирают отдельные структуры и объекты, которые когда-то играли ведущую роль в жизни, и то, как они затрагивают судьбы людей, говорит о многом, в частности о том, что институты, на которые мы когда-то уверенно полагались, терпят крах. Коммуникации меняют свойства субъекта. Это верно в случае с вашим врачом, вашим банковским счетом, вашей армией – и в случае с миллиардами людей, чьи жизни необратимо меняются, стоит им только подключиться к рынкам, к знаниям, к миру. На ум приходит вопрос: сколько еще «строительных лесов», возведенных людьми, необходимых для прогресса в эпоху Просвещения, будет разрушено?
Если у вас есть нужные средства или нужный навык для того, чтобы увидеть мир именно таким – как гудящий и несущийся клубок сетевых соединений, – то вы можете, глядя на танки, на солдат или на годы стабильности, видеть слабость, а также возможности. Как только новые правила и их эффекты станут различимыми для вас, то даже самые несомненные источники влияния и контроля в наши дни станут казаться вам слабыми и уязвимыми. Доллар США. Авианосцы. Пограничные войска. Седьмое чувство определяется прежде всего интуитивным пониманием того, как эта новая сила проявляется. Если вы смотрите на мальчугана с телефоном и думаете про него, что он владеет силой, то вы обладаете пониманием потенциала сетей. Если вы смотрите на оскаленного горе-террориста с 2 классами образования и думаете, что он и ему подобные – это нелепое сборище, то у вас этого понимания нет. И тогда вас можно очень неприятно удивить. Мой товарищ, контролирующий самое большое хранилище биткоинов в мире, однажды сказал мне следующее: «Когда-то важны были платформы, сейчас важны протоколы». Смысл его слов состоял в том, что каналы и правила, связывающие различные коммуникационные системы нашего мира, напрямую влияют на энергетическое распределение потенциала сетей. Правила сети Bitcoin и положения адресных протоколов, таких как IPv6, дают представление о том, как мы все будем связаны в будущем. Это примеры того, как разрушающее свойство сетей придет в действие.
Попробуйте вот что: сожмите правую руку в кулак. Разомкните пальцы левой руки, как если бы вы держали яблоко, и держите ее в таком положении на расстоянии нескольких сантиметров от правой. Представьте, что ваша левая рука – гудящая, живая сеть соединений, а ваш правый кулак – сконцентрированная сила. Правая рука – Карты Google; левая – миллионы телефонов под управлением операционной системы Android. Вот как выглядит наша эпоха. Сети живут в этом напряжении между вашими руками, между распространением и концентрацией. Подключить к сетевым коммуникациям любой объект – моего отца, газету, ополченца, игрушечный управляемый летательный аппарат – значит необратимым образом изменить его природу. Причина, по которой легитимность наших лидеров трещит по швам, причина, по которой наша большая стратегия непоследовательна, причина, по которой наша эпоха действительно является революционной, состоит в том, что всех наших бедолаг-лидеров угораздило попасть в самое жерло этого вулкана. Мы должны быть закалены и готовы к предстоящей борьбе. Но, помимо этого, – и вы это, я думаю, уже поняли, – мы должны подготовиться к масштабному строительству. Сетевая энергия не только разрывает. Она еще может создавать.
Этот парадокс долго не давал мне покоя. Сила нынче необыкновенно плотно сконцентрирована. Также она более рассеянна, чем когда-либо. Мы глядим на это странное напряжение и недоуменно пытаемся разгадать, каким образом и при каких обстоятельствах оно возникло. Понимание этого, наконец вывел я, требует когнитивного рывка, если так можно выразиться, сквозь наше привычное западное понимание мира как либо «а», либо «б», как мира, в котором существует либо «распространение», либо «концентрация», к такому взгляду, при котором противоположности могут беспрепятственно сливаться воедино. Не «а» или «б», но единство «а» и «б».
Позвольте немного приостановиться и разъяснить поподробнее: в 1127 году династия Сун, правившая Китаем почти 2 столетия, рухнула под нашествием диких маньчжуров из северных степей. Сунские правители вместе с лучшими умами и ведущими лицами государства бежали на юг от Пекина почти за 2500 километров, пока не оказались в безопасности на другом берегу реки Янцзы. Они обосновались в прибрежном городе Ханчжоу. В те времена Ханчжоу назывался Линьань, что переводится как «Взирающий на мир». Для сунских лидеров этот маленький городок наверняка был идеальной отдушиной после тех ужасов, через которые они прошли.
Город находился тогда, да и сейчас находится, на берегу Сиху, Восточного озера, тихо протянувшегося между холмами и чайными плантациями. Поэт и государственный деятель Су Дунпо позже сравнивал созерцание этого озера с любованием красивой женщиной – то же смешанное чувство покоя, умиротворения и восторга испытываешь, когда смотришь на возлюбленного человека. В китайской культуре стоячая вода считается резервуаром энергии инь; вы можете вспомнить это по озеру Тайху, где мастер Нань расположил свой кампус. Сунские лидеры бежали от злобной ян-энергии налетчиков к южной мирной энергии инь. Энергия инь ассоциируется с покоем, женственностью, плодородием. Ян – энергия деятельная, свирепая, творящая. Ян – буря; инь – затишье, следующее за нею, во время которого посевные культуры насыщаются водой и дают побеги. Идея баланса инь и ян – одна из старейших в китайской философии. «Когда появились небо и земля, они разделились на инь и ян, – говорится в «Хуайнань-цзы», одном из величайших китайских политических текстов. – Ян проистекает из инь, инь исходит из ян». Ханчжоу стал столицей инь. В результате появились одни из самых устойчивых китайских философских концепций, произведений искусства и поэзии. В этом покое зародилось великолепие. Даже сегодня, сидя подле Западного озера и потягивая чай лунцзин, явственно ощущаешь, как все твои чувства преисполнены покоем.
Этот баланс инь-ян помогает понять, что энергия, расщепленная в сети, в действительности таковой не является. Потенциал сетей в своих пределах имеет поистине неукротимый характер: там сосредоточена вся творческая энергия мира, переполненного всевозможными гаджетами, воплощенными человеческими мечтаниями и радикальными отступлениями от старого уклада. Ян.
Но в центре системы все прочно, спокойно и даже тихо: алгоритмы безумно сконцентрированной энергии просто незаметно выполняют свою работу. Инь. Это противоречие обнаружилось еще на заре сетевой революции. Один из первопроходцев в компьютерной науке, Клод Шеннон, в 1949 году представлял информацию пульсирующей от нестабильности, словно динамическую систему с переменной энтропией. Ян. Инженер Норберт Винер, писавший почти в то же самое время – в 1948 году, – иначе смотрел на сетевую эпоху – он ее рассматривал как выражение стабильности и организованности. Инь. Его видение цифрового порядка, того, что он называл кибернетикой, восходило к греческой концепции kibernetes – стабильного управления судном даже в условиях шторма.
Мы знаем, что возбужденные сети, окружающие нас, – это и инь, и ян. Они и упорядоченны, и хаотичны. И добродетельны, и злы. Сеть в эту объединенную эпоху и сконцентрирована, и распространена. Каждая из двух сторон этого баланса питает и наделяет энергией другую. Посевным культурам нужна буря; буря, в свою очередь, питается жаром, исходящим от земли. Или: ян-неистовство маньчжурских войн создало условия для ханчжоуского возрождения. Широкое распространение взаимосвязанных точек дает почву для революций, экономических кризисов, инноваций, разрушающих жизнь. Но оно также создает жажду централизации, жажду какого-то консенсуса в отношении наших всеобщих уз. Эта идея взаимоуравновешивающих противоположностей, сливающихся в единое целое, представлена не только в Китае. Ее также можно обнаружить в древнегреческой и древнеримской традициях – например, у Гераклита, утверждающего, что «все едино». Это также прослеживается во взглядах подобных: «нет любви без ненависти», «нет покоя без хаоса», «нет красивого без безобразного» и, к счастью, «нет разрушения без созидания», в чем мы сейчас убедимся.
Глава 5
Рыболовная сеть
В которой мы узнаем, почему информационные сети распространяются так быстро.
В 1959 году молодой инженер Пол Бэран, работавший на авиапромышленной фабрике Ховарда Хьюза в Лос-Анджелесе, прибыл на свое новое место работы в длинное здание, протянувшееся вдоль пляжа Санта-Моника-Стейт-Бич. Центр RAND (это такая стильная аббревиатура, обозначающая «Исследования и разработки») был создан ВВС США и компанией Douglas Aircraft с целью объединения лучших умов в области точных наук для победы в Холодной войне. RAND являл собой сочетание патриотизма, высоких технологий и калифорнийского солнца и был мечтой многих исследователей. Это место обрело известность за царившую в нем расслабленную интеллектуальную атмосферу, предварявшую жуткие, сопричастные к ядерным проблемы, скрытые в его надежных сейфах и светлых головах. Почти сразу после определения туда Бэрану поручили разрешить одну из сложнейших и секретнейших проблем.
Холодная война тогда только начиналась. Еще свежи были воспоминания о Хиросиме и Нагасаки, когда велся спор о том, как поступить с эпохой в условиях, когда человечество впервые обрело возможность практически уничтожить планету. К этому присовокуплялась боязнь коммунистической экспансии – не безосновательный страх американцев, только что участвовавших в войне против тоталитарных сил. Страх засел в умах простых людей и военных командиров: станет ли Советский Союз наносить ядерный удар, если вдруг почует уязвимость? Избежание этой опасности стало главной заботой американской дипломатии и обороны. «Главной целью нашего военного руководства было побеждать в войнах, – писал ядерный стратег Бернард Броуди в 1946 году. – Но отныне нашей главной задачей является их недопущение». Москве нужно было дать понять, что любая попытка атаковать Соединенные Штаты будет встречена жестким отпором. Эта «гонка вооружений» зависела от способности Америки контратаковать даже тогда, когда полстраны было бы обращено в пепел первым потоком советских ракетных ударов. Если московское планирование увидит возможность устранить способность Америки нанести ответный удар, оно сделает свой ход. Они могли произвести атаку, уничтожить Соединенные Штаты, а затем потихоньку подмять под себя весь мир. Если фраза Хрущева: «Мы вас похороним!» – значила именно то, что представлялось, то такой жест мог быть первым комком земли, брошенным на гроб.
В конце 1950-х годов, когда Бэран прибыл в RAND, Холодная война была неимоверно холодной, и одной из строжайших тайн Америки было следующее: если Советский Союз вдруг вздумал бы атаковать, то, возможно, ответа могло бы и не последовать. Соединенные Штаты с их превосходной коллекцией бомбардировщиков и ракет и с их многомиллионной армией не могли атаковать Москву в ответ по той простой причине, что полевые офицеры не смогли бы каким бы то ни было образом взаимодействовать между собой или с командованием в Вашингтоне. Военные радио– и телефонные системы, покрывавшие Америку, как выяснилось, не выдержали бы удара. Это и была секретная жизненно важная проблема, которую Бэрану поручили разрешить. «В то время мы не знали, как построить такую систему коммуникации, которая выдержала бы хотя бы косвенный ущерб от вражеского оружия», – вспоминал он. Компьютерные модели, созданные в RAND, показывали, что телефонная система AT&T Long Lines, медная сеть, носившая на себе военные коммуникации страны, была бы рассечена, даже если бы ей причинили незначительный физический ущерб. Полномасштабный советский удар не оставил бы от нее и следа.
Армия уже потратила состояние на решение этой проблемы (и, видимо, еще полсостояния на попытки завуалировать ее). Результатом этого стала дорогостоящая телефонная сеть, связывающая военные базы со стратегическими командными постами. Но поскольку линии и их связующие центры были оформлены по такой схеме, при которой у системы есть только несколько больших центральных узлов (как велосипедное колесо со спицами), у этой сети почти не было никаких шансов выжить в том, что она была создана предотвратить. Если взглянуть на диаграмму этой сети, в которой главный штаб был заполнен верховными командующими, а из главного штаба тянулись связующие линии до локальных баз и ракетных шахт, то становилось понятно, что эта сеть даже внешне походила на мишень. Если бы Советский Союз уничтожил эти центры парой бомб, то и вся остальная сеть загнулась бы вслед за ними. Американская армия бы просто оглохла. По мере того как советские ракеты становились более точными, уязвимость коммуникаций становилась все более очевидной. «Скоро мы будем жить в такой эре, когда нельзя быть уверенным в сохранности какой бы то ни было сферы жизни», – писал Бэран.
Ситуация, как хорошо знала эта закрытая группа ученых, на деле была еще более раскаленной. Незадолго до того как Бэран прибыл в RAND, ученые, занятые испытаниями водородных бомб в Тихом океане, обнаружили, что проникающая радиация и электромагнитный импульс от взрывов глушили связь на сотни миль вокруг. Советский удар, пусть даже он бы и не разрушил центральные узлы AT&T, все же свел бы американские военные коммуникации к шипящим безмолвным телефонам. «Наши коммуникации были настолько уязвимы, – говорил Бэран, – что командиры каждой ракетной базы стояли перед дилеммой: не предпринимать ничего в случае физической атаки или же принять действия, которые, конечно же, повлекут за собой полноценную безвозвратную войну». Можно было представить момент принятия решения: какой-нибудь полковник, пролетающий над Европой в своем начиненном бомбами самолете или сидящий в какой-нибудь камуфлированной под кукурузное поле ракетной шахте, мучающийся: «Запускать или нет?» Совершенно жуткое положение. Бэран начал спрашивать себя: «Возможно ли послать сигнал об ответном ударе как-нибудь иначе?»
Позже Бэран обрел известность за разработку идей, которые его посетили в ответ на этот чрезвычайно серьезный брошенный ему вызов. Его изыскания в конце концов привели к созданию современного Интернета. В свои годы в RAND Бэран совершил множество интеллектуальных и технологических прорывов, достойных высшей науки: он придумал нечто – способ передачи данных, – нечто такое, о чем никто никогда прежде не думал. Он создал модель коммуникационной сети, ее энергии, еще до того, как таковая где бы то ни было существовала, он совершил прорыв – в науке, интуиции, в вере, – подобный тому, который совершил Брунеллески, когда он начертал идею создания кафедрального собора во Флоренции. Затем Бэран понял, как построить свою систему так, чтобы она выдерживала тяжелейшие потрясения. Важнейшее свойство того, что открыл Бэран, состоит в том, что есть определенные виды сетей, которые, коль скоро они обосновываются в нашем мире, влекут за собой необратимые перемены. Невозможно с легкостью вернуть город, в котором есть телефония, в состояние, когда ее не было. Невозможно просто так вернуться от Google к энциклопедии Британника. Мы также убедимся в том, что невозможно вернуться к фондовым биржам старого толка, к старым военным альянсам или к старому здравоохранению. Бэран доказал, что есть возможность построения систем, способных выдержать практически любую попытку уничтожить их, и одновременно предсказал мир, во многом похожий на тот, в котором мы сейчас живем, где коммуникационные системы связывают одну точку с миллиардами других с поразительной скоростью. Бэран также предчувствовал появление систем, становящихся только сильнее, будучи атакованными. У нас может возникнуть вопрос: ну почему же величайшие создатели глобальных сетей стремятся сломать то, что было создано в мире ранее? Да потому что они знают, что то, что сейчас начинается, – не шутка и не пустяк. В их рядах уже идет борьба по поводу того, что возникнет в дальнейшем. Что придет на смену Нью-Йоркской фондовой бирже? Что станется с бумажной почтой? Какой станет сфера развлечений? Новая мощная группа людей понимает логику сетей, первооткрывателем которых был Бэран, хотя они даже и не знают его имени. Нам тоже нужно понимать ее.
Бэран родился в польском городе Гродно в 1926 году; его отец был тогда (очень кстати) обеспокоен тревожным чувством неуверенности в завтрашнем дне. Семья бежала в Америку, когда Полу, которого тогда еще звали Пейсах, было 2 года. Молодой Пол был образцовым студентом и вскоре стал знаменитым математиком. Его способности очень высоко ценились в военных предприятиях компании Ховарда Хьюза и, позже, среди корифеев в области научных разработок и систем безопасности в RAND. Надо отметить, что бегство из Польши навсегда оставило в нем след, так же как и во многих других беженцах того времени. В 1940-х годах, когда тьма насилия нацизма покрыла собой Европу, одна проблема встала на повестку дня семьи Бэран: «Как нам поддерживать связь при угрозе ужасающей катастрофы?» Поэтому не должно казаться удивительным то, что главная работа его жизни обращалась вокруг того же вопроса. Как поддерживать связь? «Меня волновало только одно – как выжить», – сказал однажды Бэран.
Спустя 2 года усердных исследований в RAND Бэран потихоньку начал различать контуры решения проблемы. В ряде своих выступлений перед офицерами Военно-воздушных сил США, начавшихся в 1961 году, он постепенно подбирался все ближе к ответу, лекция за лекцией, уравнение за уравнением. Позже он признался, что поначалу не вполне понимал, куда это все шло, но у него было хорошее предчувствие. Предчувствие того, что где-то должен быть другой выход. К концу своего лекционного тура он нашел его.
Разработки Бэрана начались, подобно столь многим инновациям, с идеи, которая просто-напросто не работала. Пентагон, размышлял он, скорее всего, начнет рассылать тысячи закодированных сообщений, как только начнется атака. Командиры ракетных шахт и бомбардировщиков соберутся у своих радиоприемников и примутся собирать коды для запуска, и все это будет походить на досужее прослушивание результатов бейсбольного матча. Такую сеть телефонных линий, оформленную по типу мишени «просто целься сюда», должно было сменить нечто такое, что было гораздо трудней уничтожить, чем просто выстрелить по нему разок ракетой Р-7 «семерка». Но это было не так-то просто. Такая сеть полагалась бы на радиобашни и незащищенные AM (аналоговой модуляции) радиоволны длинно-, средне– или коротковолнового диапазонов. Но все же идея такой всеобъемлющей сети завладела мыслями Бэрана. Посылать сообщения, которые сами найдут нужную дорогу до адресата, казалось чрезвычайно удобным и восхитительным решением, если его воплотить в жизнь. Не было бы никаких центральных штабов. Информация бы витала по воздуху, подобно радиосигналам. В системе Бэрана военные сообщения просто скакали бы от точки к точке в этом пространстве до тех пор, пока не достигли бы своего пункта назначения. Получившаяся сеть, если ее изобразить схематически, напоминала рыболовную сеть: множество нитей, соединенных плетеными узлами. И так как пучки информации – Бэран называл их пакетами – могли перемещаться посредством самой сети, ее можно было продолжить использовать даже после частичного поражения в результате бомбардировок или саботажа. Пакеты информации сами нашли бы обходной путь. Даже изрезанная или пораженная радиацией сеть могла, в теории, безопасно доставить сообщение о запуске – или о его отмене – непосредственно из Белого дома до пилота бомбардировщика.
«Ранние модели показывали, что после мгновенного уничтожения 50 % гипотетической сети уцелевшие ее части регенерируют за полсекунды», – вспоминал Бэран. Другими словами, его сообщения находили новые маршруты передачи данных в сети, даже несмотря на то, что значительная ее часть была выведена из строя. И происходило это почти мгновенно. Скажу больше, когда Бэран начал моделировать подобные «распределенные» сети, он обнаружил, что они не только были способны выдержать атаку, но также были невероятно эффективными. «Построенное и поддерживаемое в должном виде за 60 миллионов долларов (по состоянию на 1964 год)», – подсчитал он, его изобретение справлялось с задачами, стоящими перед «коммуникациями большой дальности Министерства обороны США, стоившими налогоплательщикам около 2 миллиардов долларов в год».
В 1961 и 1962 годах Бэран большую часть времени проводил в разъездах по стране с засекреченными презентациями и логарифмической линейкой под рукой, пытаясь убедить скептически настроенных генералов и инженеров. Это было практически невыполнимо. Как-то он вспоминал свой визит в одно высотное здание на Бродвее в нижнем Манхэттене: то был важный центр AT&T, совершенно неприступное место, где царила атмосфера отчужденности и неприязни ко всем людям извне, устроенное по принципу «ось и спицы». Одно это здание обрабатывало больше телефонного и телекс-трафика, чем любая другая точка на Земле. Несомненно, это место было в числе первых в списке главных стратегически важных пунктов, подлежащих уничтожению, составленном Москвой. Бэран, соответственно, ожидал теплого приема. В конце концов, он приехал рассказать обреченным на гибель в ядерном огне людям, что он нашел способ исключить их из советских списков. Новое устройство сети, которое он предлагал, предполагало, что бомбить AT&T не будет иметь смысла. Это бы не причинило вреда американскому командованию. Все, что нужно сделать, – пересмотреть дизайн существующей сети коммуникаций, и тогда жизни инженеров AT&T будут спасены.
Они подумали, что он спятил.
«Я пытался объяснить управляющему телефонной компании механизм передачи информационных пакетов. На полуслове он оборвал меня, – вспоминал Бэран. – Старый аналоговый инженер был совершенно ошарашен. Он посмотрел с выпученными глазами на своих коллег, сообщая им взглядом полное недоверие к тому, что я говорю. Немного погодя он сказал: «Сынок, вот, видишь, телефон, а вот так он работает». Конечно, Пол Бэран знал, как работает телефон. Сначала одна точка, затем переключатель, затем другая точка. В этом и была проблема. Вот почему схема, по которой была устроена AT&T, была бы бесполезна перед лицом катастрофы, которую он был призван предотвратить. Бэран – плоть от плоти аналитик, – и даже, может быть, как беженец, одержимый идеей выживания, идеей о том, как связь может быть сущностью различия между войной и миром. Ну в самом деле, безмятежно управляющие инженеры в здании компании AT&T, о чем могли они волноваться?
Это не было лишь тем, что эти дряхлые телефонные кудесники видели, как может уплыть в рыболовные сети Бэрана их ежегодный двухмиллиардный чек от Минобороны США; это был новый образ мышления. Ученые из AT&T хотели контролировать адреса, маршруты и графики доставки сообщений из центра. Такая авторитарная структура им представлялась более эффективной; а возможно, что она даже была психологически более комфортной, с тех пор, как она стала соответствовать их собственному опыту управления и контроля. Карл Виттфогель, историк, определивший сущность ирригационного тоталитаризма древнего Китая и Египта, отнес бы их к следующей категории: деспоты коммутации. «Это был концептуальный тупик», – вспоминал Бэран. Он поехал в другое место. Результат тот же. И еще в одно. Результат тот же. В конце концов, инженеры – коллеги Бэрана в RAND были оскорблены столь формальным отрицанием его логики настолько сильно, что они сами заговорили. Они видели засекреченные брифинги. Они прекрасно знали, что искалечить страну ничего не стоило – и что их собственное здание в Санта-Моника-Стейт-Бич определенно присутствовало в том же списке целей, подлежащих уничтожению. Ученые из RAND требовали детального, критического исследования модели распределенной сети. К тому моменту, когда они закончили, была начата подготовка к строительству военно-воздушных сил.
Выживание. Вырванная из неразрешимой на вид задачи – как поддерживать связь в условиях ядерной войны? – выросла первая по-настоящему распределенная сеть. Другие ученые также шли по пятам этой идеи, но ее оформление больше всего соответствовало концепции Бэрана: сети без какого бы то ни было центрального контроля, живучей, неразрушаемой. Самая ранняя большая сеть, построенная на основе принципов Бэрана, стала известной под названием ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) – переплетение соединений, которое даже сегодня служит преддверием в отдельные части Интернета. Пусть риск ядерной войны уже далеко позади, те или иные принципы передачи информационных пакетов по-прежнему применяются в отношении большей части данных, имеющихся в мире. Представьте, насколько достоверной должна быть идея, чтобы за 50 лет технологического прогресса не претерпеть изменений. И те преимущества, о которых Бэран впервые заговорил 50 лет назад, все еще в силе. Каждый раз, когда вы совершаете звонок, делитесь видеозаписью или делегируете свои проблемы машине, эти транзакции, вероятнее всего, совершаются посредством пакетов, маршрутизированных рыболовной сетью. Если бы мы оставили старую модель AT&T, мы жили бы в совершенно другом мире. Восстания можно было бы давить одним щелчком переключателя. Потоки информации можно было бы отслеживать настолько же просто, насколько можно отследить статистику пассажиропотока в метро. Безграничные, неуемные творческие способности феномена «plug-and-play» (включай и работай) нашего взаимосвязанного мира были бы задушены. Каждое новое подключение к системе требовало бы бюрократических процедур, централизованного подтверждения деспотами коммуникаций, озабоченными больше своей властью, чем нашим выживанием. Вместо этого мы сейчас имеем устойчивую ко внешним раздражителям сеть, выросшую в миллиарды раз и сохранившую большую часть своей первоначальной структуры.
Системы, основанные на обмене информационными пакетами данных, дают любому человеку, у которого есть подходящие нитки и спицы (если рассуждать технически, то это любой человек, у которого есть мигающий оптико-волоконный проводник и подключение по протоколу типа TCP/IP), возможность вплести себя в мировую сеть. Вот почему можно так просто взять в руки телефон или планшет и более или менее быстро окунуться в целый мир информации. Каждую минуту новые 10 000 устройств подключаются к Интернету, – не только объединенные люди, смартфоны, ноутбуки и планшеты, но также медицинские приборы, эмиссионеры криптовалюты (Bitcoin mining) и системы диагностики самолетов. Девиз «Любой может подключиться» знаменует нашу эпоху точно так же, как лютеровское «Любой может говорить с Богом» характеризовало реформацию или как кантовское «Имей мужество пользоваться собственным умом!» определяло Просвещение. Люди, задающие вопросы вроде «Кому вообще надо делиться с кем-то своими фотографиями?» или «Кому вообще надо раскрывать кому-то информацию о своей ДНК?» – не видят главного. Многие предметы сейчас совершенны или полезны лишь в соединенном виде. Когда мы говорим «связь меняет свойства предмета», мы подразумеваем, что непрерывность коммуникаций – своего рода право и устройств, и программ, и людей. Как бы то ни было, существование такой тенденции не вызывает сомнений.
Сети, разработанные в соответствии с принципами, которые предложил Бэран, дают нам возможность подключиться почти к любой точке мира, а также к невообразимому технологическому потенциалу. Но в то же самое время и сам мир устанавливает с нами обратную связь. Переплетенные джихадисты, валюта и биты биологической информации – все это тоже привязано к нам. Так что да, мы уничтожаем экзотику прошлого своими информационными коммуникациями, машинами и скидками на авиаперелеты. Стоит ли при таком раскладе удивляться, что время от времени экзотика уничтожает нас в ответ?
К этому моменту мы уже убедились воочию, как тяга между центром и периферией – это напряженность нашей сети – рвет старые структуры. Связь меняет свойства предмета, помещая его в это густое переплетение. Седьмое чувство улавливает это напряжение. Объедините пациента, врача, летную машину, валюту – все преображается и меняется. Что-то становится грандиозным. Другое щелкает, исчезнув, и никогда не восстанавливается. Что-то болезненно приспосабливается. Сетевая активность дарит нам величайшие новые приобретения, но она также опрокидывает старые идеи и институты. Вот почему наша эпоха столь беспокойна. Рыболовная сеть Бэрана по мере своего роста заключает в себя все, чего касается, обращая это в новую структуру.
Наши компьютеры, планшеты и прочие девайсы, соединенные сетью, также в свою очередь постоянно совершенствуются. Во времена Бэрана группа из нескольких десятков ученых рада была бы, если бы имела возможность пользоваться хотя бы одним компьютером на всех. И вот спустя несколько десятилетий компьютерная революция дала каждому по компьютеру. Сейчас в нашей жизни, конечно же, каждый из нас имеет много компьютеров: смартфоны, телевизоры с выходом в интернет и – уже скоро – умные самоуправляемые автомобили. Благодаря сетевым коммуникациям мы имеем доступ к тысячам подобных устройств в информационных центрах, к комбинации программного и аппаратного обеспечений, и соединений, на которые мы начинаем полагаться по любому поводу. Это уже давно ставшее обыденным волшебство было формализовано Гордоном Муром, одним из основателей компании Intel, обнаружившим, что со времен создания интегрированных чипов в 1959 году число транзисторов в каждом таком крошечном чипе удваивается каждые два года. Трудно было представить, что этот темп сохранится, но он – известный как закон Мура – тем не менее сохранился и до сих пор неизменен. В 1997 году Энди Гроув, преемник Мура, этого гиганта микрочипов, был назван Человеком года по версии журнала «Time». Я в честь этого написал статью для «Time»; помнится, как Гроув тогда поведал мне, в конфессиональном стиле: «Я никогда не переставал думать о своем деле. Я постоянно работал. Когда Гордон Мур покинул свой офис, он прекратил работу. В основном он ловил рыбу». Мур обладал уверенностью человека, определившего один из фундаментальных законов нашего времени – непрерывное сокращение компьютерной энергоемкости и затрат. У него было этакое «А пошли-ка порыбачим!» человека, который видел все, который видел неизбежное. Гроув же, наоборот, был постоянно задавлен необходимостью поддержания компании Intel в темпах, отвечающих закону Мура, необходимостью провести это самое неизбежное в жизнь. Одна-единственная ошибка, будучи незамеченной на протяжении полугода, может уничтожить целую многомиллиардную компанию. Это неоднократно случалось. Отношение Гроува точнее всего запечатлено в названии одной из его книг, «Выживают только параноики». И тот и другой были по-своему правы. Закон Мура обеспечивает распространение все более дешевых и все более функциональных устройств. Но знаменитая тревога Гроува также вполне оправданна. Такая скорость. Столько соединений. Паранойя кажется наилучшей возможной реакцией в таких условиях.
Вы хотели бы знать, что бы делал в современном мире тот остолбеневший старший телекоммуникационный инженер из AT&T, столь легкомысленно отчитавший Бэрана. Старый дворец телефонных переключателей Нью-Йорка, где они встретились в 1961 году, смотрелся элитным кондоминиумом. Миллиарды и миллиарды надежных долгосрочных доходов этой компании были уничтожены бесплатным сервисом пакетной передачи данных через Интернет. «Сынок, вот, видишь, телефон, а вот как он работает». О чем, интересно, думал Бэран в это время? Передача массивов информационных данных посредством широкополосного сетевого соединения изменила решительно все, включая и то, как работает телефон. Бэран впоследствии покинул RAND. Он основал несколько из самых важных (и прибыльных) компаний раннего Интернета. Много лет спустя он с большей точностью осознал, что именно произошло: настоящей угрозой уязвимым системам AT&T были не советские ракеты. Угрозой была своего рода информационная бомба, желание постоянных коммуникаций, подорвавших многие былые орудия контроля. Да, оно истребило старые структуры. Но благодаря тому, как оно было сооружено – с расчетом на стойкость и неуязвимость, – оно обладало выдающимся свойством, которое даже Бэран не вполне ожидал: оно дало каждому из нас возможность творить.
Конечно, вы должны быть снисходительными к этим мудрецам из AT&T. Безобидные на вид девайсы и люди обретают самобытные, даже опасные черты, будучи соединенными в сеть. «Вот, видишь, рынок ценных бумаг, а вот как он работает». Или «Вот, видишь, биолог, а вот как он работает». Ни то, ни другое, нельзя объяснить так, как это объяснили бы два «внесетевых» десятилетия назад. Теперь мы окружены большим количеством сетей, в которых всевозможные отношения и связи образуют постоянный динамизм, что-то вроде: «Ого, да я никогда об этом прежде не думал!» «Существуют системы, представляющие особый интерес для человечества, которые решительно невозможно смоделировать», – заметил ученый Джон Холланд в знаменитой статье, положившей начало науке хаоса. Холланд посвятил годы изучению этих непростых, трудных для понимания и представления систем, и обнаружил у них по крайней мере одну общую черту: будь то сети финансов, фьючерсные биржи, иммунологические сети или же мозг каждого из нас – тесно взаимосвязанные сети объединяет то, что Холланд назвал эволюционирующей структурой: они постоянно меняются. Им свойственна высокая пластичность: они с легкостью меняются под воздействием внутреннего давления или внешних изменений. Вот почему сейчас возникает столько много неожиданного хаоса: от крахов правительств до экономических кризисов.
Сетевые коммуникации означают, что системы обретают новые формы. Во многих случаях они становятся лучше, сильнее и более адаптированными. Дело не в том, что происходит нечто неожиданное, и не в том, что сейчас стало больше добра или зла; дело в том, что системы эволюционируют. Холланд считал, что в мире было достаточно таких эволюций, ничем не отличающихся от приспособления (или нет) видов к более жаркому климату или от появления какого-нибудь быстрого нового хищника. Он назвал системы, создающие такого рода инновации, комплексными адаптивными системами.
Выбрав слово «комплексные», Холланд сделал очень строгое разделение. Сложные механизмы можно спроектировать, их поведение можно спрогнозировать, и их можно контролировать. Турбины самолетов, искусственные сердца и калькуляторы в этом смысле сложные. Они могут состоять из миллиардов взаимосвязанных частей, но их можно разложить по порядку, сделать предсказуемыми и легкими в употреблении. Они не меняются. Комплексные системы же, напротив, не могут быть столь точно сконструированы. Их трудно полностью контролировать. Человеческая иммунология комплексная в этом смысле. Всемирная паутина комплексная. Тропический лес комплексный: он составлен из бесконечного жужжания и объединенных насекомых, птиц и деревьев. Порядок в таком виде, в каком он представлен в бассейне Амазонки, непрестанно возникает из постоянного, бесконечно многообразного взаимодействия. Несовершенная симфония звуков сумерек (L`heure bleue), романтическое мгновение на рассвете, когда ты слышишь, как птица-за-птицей просыпается лес, – это звук комплексности, чарующий своей неповторимостью превращений.
Слово «комплексный» образовано от латинского слова «плексус», означающего «состоящий из разных частей», что подчеркивает переплетенную, многослойную природу любого предмета. То, что кажется простым – цветок, наша кожа, номинал долларовой купюры, – фактчески представляет собой плексус, наполненный импульсами и влияниями. Это сплетение новых звеньев, бесчисленных взаимодействий неизбежно порождает непредсказуемые проявления: финансовые паники, эпидемии заболеваний или революций. Транспортные потоки в час пик в известном смысле тоже комплексны: участники движения, скопление автомобилей, пешеходов и велосипедистов – это определяет предельное состояние системы: сжатой или нет. В пятницу в пять часов вечера Лос-Анджелес не является чем-то централизованным; его гудящая в час пик логика, чуть отличающаяся от повседневной, отклоняется от взаимодействия. По мере того как любая система наполняется все большим количеством участников и форм взаимодействия между ними, она становится все более комплексной и сложно предсказуемой. В то же время сложные (не комплексные) системы не содержат никакой неясности; они просто работают. Прикрепление сложного двигателя к крылу пассажирского лайнера выглядит логичным, пусть даже если для достижения требуемой надежности понадобятся десятилетия. Стоит ли делать это с комплексным двигателем? Не очень мудро.
Большая часть нашего сетевого мира – это динамичные, новые формы взаимодействия, которые не только трудно предсказать, но которые постоянно выводят на рубежи свершения чего-то нового. Ученые, подобные Холланду, называют этот процесс явлением, сходным с тем, как нисходяще-восходящие взаимодействия – между клетками, микрочипами, торговцами или автомобилями – формируют порядок, зачастую такой, которого никогда до этого не существовало. Фундаментальная неопределенность комплексных процессов предполагает, что, когда мы смотрим на мир, мы часто забываем, что она имеет место. Было бы удобнее принять алгоритм, когда работает предсказуемая, линейная, сложная логика, когда «а ведет к б, б ведет к в»: например, революция ведет к свободе, которая в свою очередь ведет к демократии. Подобные прогнозы часто оказываются неверными – как часто случаются в экономике и политике удивляющие события – и напоминают нам о том, что комплексные системы, такие как экономика и выборы, содержат механизмы, разочаровывающие надежды излишне уверенных в своей правоте аналитиков. Слишком часто мы глядим на какую-нибудь проблему, скажем, на политику Ирака или на неравенство доходов, и думаем, что она всего лишь «сложная» (некомплексная). Отнюдь, мы должны познать это глубже.
«Макромодели оказались неспособны предупредить кризис и не смогли дать внятного объяснения тому, что происходило с экономикой», – сетовал бывший председатель правления Европейского центрального банка Жан-Клод Трише во времена, когда стали ясны последствия каскадных кризисов 2008 года. Экономисты и правительства обнаружили, что их система была не просто «слишком большой, чтобы допустить провал», но также была слишком взаимосвязанной и многофакторной, чтобы ею управлять – и, возможно, слишком комплексной, чтобы ее понять. Казалось, Трише был в отчаянии. «Будучи ответственным за финансовую политику в период кризиса я рассматривал доступные модели, которые могли оказывать лишь ограниченную помощь. Скажу больше: мы чувствовали себя беспомощными, используя традиционные инструменты».
Это ощущение растерянности возникает вследствие механического осмысления проблем в эру комплексности. Если вы полагаете, что военно-воздушные силы могут просто взять и смешать мятежников с песком или что какая-нибудь старая и надежная компания будет жить по той лишь причине, что она располагает инфраструктурой ценой в миллиарды, то вы не улавливаете энергию творческой, но разрушительной силы комплексных сетевых коммуникаций. Не вполне корректно заявлять о том, что сети всегда превосходят иерархии, – потому что у сетей, разумеется, есть свои собственные слои и структуры. Но вспомним Мубарака, евро или Lehman Brothers – стабильные на вид институты, с треском провалившиеся в последние годы под влиянием неудержимых ударных волн, производимых сетевой мощью. Комплексные взаимодействующие системы – чем глобальные сети по сути и являются – способны разрывать жесткие иерархические структуры. Можете ли вы при взгляде на фирму, сотрудником которой вы являетесь, или на страну, где вы живете, с уверенностью сказать, что эта фирма или эта страна хорошо приспособится к такому внезапному и интегрированному давлению?
Постоянные потрясения, имеющие место в наши дни, не в последнюю очередь обусловлены тем, что средства коммуникаций так легко объединить одним кликом. Это прослеживается и в самих цифровых устройствах, соединяющихся между собой в соответствии с тщательно спроектированной простотой. Вы можете одним кликом сделать фото, отправить его другу, отредактировать его и передать снова. Всю информацию мира можно свести к единицам и нулям. Но это также и важная метафора: наша торговля, наша валюта, наша идеология – все это сейчас взаимодействует.
Задолго до появления идеи смартфонов и 3D-очков британский математик Алан Тьюринг с нетерпением ждал появления чего-нибудь подобного, мечтая о том, что он называл универсальным устройством: некий особый ящик, который – благодаря тем же единицам и нулям – мог быть приспособлен к выполнению любых задач. Поскольку практически все можно свести к бинарному кодированию, почти любую информацию можно передавать, изучать, комбинировать и смешивать. Эта легкая программируемость такого большого количества предметов вокруг нас – причина, по которой наш мир более комплексный, чем, скажем, мир взаимосвязанных поездов или кораблей. Поезда и корабли особо не меняются, и уж точно не делают это мгновенно. В цифровом мире, однако, многие важнейшие объекты и узлы можно видоизменять, как своего рода цифровые конструкторы Lego, соединенные различным образом. Мы уже сказали ранее, что Седьмое чувство настроено на то, чтобы улавливать тревожные импульсы, порождаемые фактом того, что коммуникации меняют свойства предмета. Полноценный акт коммуникационного взаимодействия делает из сложных предметов комплексные предметы. Как только объект – груз, доля акций – поглощается сетью, он попадает под влияние всей дикости, что там творится: каскадов разрушительных внешних сил, непредвиденных внутренних обвалов, обнаруживаемых только под воздействием коммуникаций. Подключенная к целостной системе непрекращающейся эволюции, даже самая безобидная на вид составляющая становится уязвимой под воздействием импульсов, внедрений и обновлений.
И это не игра в усреднение. Вы не настолько комплексны, как средняя величина того, к чему вы подключены. Вы комплексны настолько, насколько таковым является самое комплексное устройство, к которому вы подключены. Это как лемма поведения грузовых кораблей в старое военное время, которой следуют капитаны судов типа U-boat: самая быстрая скорость, которую может развить торговое судно, все равно не будет выше, чем скорость самого медленного конвойного судна. У вас или у меня может быть простейшая жизнь – жизнь пенсионера, никакого компьютера, никаких особых связей. Но наши инвестиции? Скорее всего, они будут связаны с рынками, наполненными не вполне осознаваемыми комплексностями. Конечно же, это порождает новые важные возможности и требования, – это порождает фирмы, которые ныне играют решающую роль, которые дают нам возможность управляться со всеми рисками настолько же умело, насколько с ними справляются самые влиятельные инвесторы. Но когда мы говорим, что сейчас негде прятаться, мы отчасти имеем в виду следующее: даже самые невинные действия коммуникаций, такие как подключение принтера к компьютеру или планирование отдыха в Париже, могут поставить вас под прямую угрозу комплексного мира. Такие угрозы сейчас растут с сетевой скоростью. И именно в управлении этими комплексностями и даже в использовании их мы найдем продуктивную энергию эры сетей. Но будьте осторожны: разрушительная сила комплексных систем? Это тоже часть игры.
Сети обращают все, к чему они прикасаются, из чего-то сложного во что-то комплексное. Возможно, мы можем сказать, что Промышленная революция сделала простое сложным – взгляните хотя бы на то, что механизированная агрокультура сделала с фермерством. Сетевая же эра из-за всего этого хаоса, путешествующего по сети, делает сложное комплексным. Сложные системы набиты всевозможными деталями, но все же они предсказуемы. По-настоящему меняют правила игры именно комплексные системы. И как только вся эта путаница комплексных соединений приходит в движение, она создает удивительное взаимодействие. По той самой причине, что у сетевых коммуникаций нет центрального плана, системы в определенном смысле выступают творцами. Творцами всего: от компьютерных ошибок до рыночных пузырей. Народные волнения Кастельса появились именно таким комплексным образом, – словно конденсат в банке экономического кризиса 2008 года. Исследователи, последовавшие по его стопам, изучили общенациональные протесты в Испании 2011 года и обнаружили, что в них участвовали в основном новые организации, полностью основанные на сетевых коммуникациях. Другие испанские группы протеста, такие как профсоюзы, активисты по борьбе с абортами и местные сепаратисты, опирались на организации, которым десятки лет. Но это движение, называвшееся 15М, основывалось на группах, заполнивших политический вакуум, точь-в-точь как «Захвати Уолл-стрит» и отдельные составляющие Арабской весны и Аль-Каиды. Изучение состава 15М показало, что это движение повторяет структуру новых интернет-компаний: молодых, взаимосвязанных, совершенно оторванных от истории и нежизнеспособных без постоянного сетевого взаимодействия. Они были сформированы благодаря перетягиванию людей подальше от политических партий. Их привлекательными чертами были потенциал новой политики и возможность спрятаться от удушливого запаха старой разлагающейся политики. Это одна из причин, по которым неправильно считать, что все события, происходящие в мире, случайны. На самом деле везде можно проследить строгие схемы. Их можно найти, выявить и изучить научно, но их также можно и почувствовать. Они могут поразить, если вы не знаете, как их нужно искать. Но они есть. Человеческая история состоит не из одних лишь землетрясений.
Даже если ее и нельзя предугадать, комплексность существует в любой системе: будь это индонезийский коралловый риф или русская компьютерная сеть – по крайней мере она может быть измерена. Сколько точек соединено? Как быстро и насколько глубоко они взаимодействуют? Приумножение сетей создает комплексность и непредсказуемость. Это одна из причин, по которым мы говорим, что сети могут поглотить наши иерархии и поглотят их.
Больше комплексности, как вы могли ожидать, приносит больше взаимодействия, а это уже означает, что то, что ждет нас, будет еще более трудным, чем то, с чем мы сталкивались ранее. Тушение пожаров на финансовых рынках, преследование террористов, сокращение рисков биоразработок – все эти задачи будут только усложняться со временем, упрощаться они не будут. Многие интеллектуалы и бизнесмены утверждают, что мы достигли предела прогресса. «Где летающие машины?!» – спрашивают они. Но эта мысль в корне неверная. (Не в меньшей степени потому, что летающие беспилотные автомобили могут уже совсем скоро стать явью.) Коммуникационные системы создают и поражают. Иначе и быть не может, когда задействовано столько различных элементов, столько страстей и идей. И мы знаем, что перед нами сейчас появляется еще более быстрый, еще более комплексный мир: например, квантовые компьютерные технологии могут довести компьютерные скорости до величин, в сотни миллиардов раз превосходящих то, чего можно было достичь со старыми технологиями. Автономные роботизированные системы прорвутся в такие измерения, в которых наша слабая человеческая оболочка просто-напросто не может уцелеть, – они проникнут в глубины океана и в дальний космос. «Многие биологические и социальные теории нельзя было проверить ввиду нехватки информации, – заметил один из исследователей киберсистем. – Теперь же у нас есть не только информация, но и методы ее анализа». Многое, конечно, еще только предстоит понять, и многие фантастические новые средства, которые позволят нам делать открытия, еще только предстоит найти. В любом случае суть вы поняли: мир связан глобальными сетями, чтобы в будущем стать более комплексным.
Сама формулировка: сеть «хочет» чего-то – является метким олицетворением: миллиарды соединенных пользователей хотят быть соединенными – появляется Facebook. Триллион веб-страниц хотят, чтобы их искали, – появляется Google. Осуществление таких связей прежде всего создает те ужасные разрушительные процессы, что были описаны в прошлой главе, что объясняет уникальную силу (и ценность) лидирующих фирм нашего времени. Однако коль скоро эти связи осуществляются, концентрация коммуникаций создает предпосылки к возникновению чего-то еще. Она хочет творить. Именно по этой причине самые успешные инвесторы и лидеры нашего времени горят почти болезненным желанием рушить и ломать старые системы. Они убеждены, что если они достаточно мощно замахнутся, чтобы уничтожить одно равновесие, то новое равновесие сразу же возникнет на месте старого.
Они правы. Их правота подкрепляется всеми законами физики и истории. В сфере коммерции разрушение старых бизнес-моделей способствует появлению новых. В терроризме нарочитое насилие более действенно, чем сдавленная злоба; это средство ускорения хаоса и, как некоторые надеются, новой политики. Если Седьмое чувство включает в себя сознательное желание (и даже нетерпение) расшатать старое равновесие, то это только из-за той убежденности, что что-то лучшее обязательно возникнет.
В свои преклонные годы Бэран, рассуждая уже более философски, пришел к тому, что его сети, распространяющие себя по всему миру с такой плавной и неудержимой энергией, были неизбежны. «Каждый предмет во Вселенной, – писал он как-то, – связан (по гравитационным/радиационным векторам) с любым другим». Сейчас мы знаем, насколько правдивы эти слова. Нас притягивает к сетям словно гравитацией. Коммуникации означают комплексность. Это означает эволюцию. Эта странная кривоватая фраза Бэрана – «по гравитационным/радиационным векторам» – говорит о многом. Коммуникации неизбежны. В результате мы получаем эволюцию. И немного хаоса.
Глава 6
Хакеры-пижоны
В которой Седьмое чувство выявит скрытую опасную архитектуру сетевых коммуникаций.
Это было мое второе путешествие за границу. Я прикрыл глаза, провожая европейский закат, и проследовал в самолет. Мы полетели в Амстердам. Я сменил композицию в плеере. Хотелось чего-нибудь пободрее. Питер Гэбриэл. Это был 1993 год. Август.
Той весной я услышал о планах организовать большую хакерскую конференцию в окрестностях Амстердама. Ее назвали «Хакеры на краю вселенной». Меня это сразу заинтересовало. Я тогда только перебрался в Нью-Йорк и потихоньку осваивался в тамошней хакерской сфере. Сфера эта была не столько кипящим ульем, в котором то и дело происходила всякая заваруха, сколько просто группой компьютерщиков-любителей, любопытствующих зевак и ранних IT-инженеров, собиравшихся иногда после работы в подвале здания Сити Корпорэйшн на 53-й улице и в Лексингтоне, чтобы обсудить различные трюки в цифровых системах. Хакерство не содержало негативного смысла в то время; большинство людей, разбирающихся в технике, понимало его как естественное продолжение интереса к компьютерам. В Интернете тогда было 35 миллионов пользователей. Идея о том, что спустя два десятилетия он объединит более 3 миллиардов человек или что он будет приносить миллионы долларов некоторым людям в этом самом подвале, казалась, честно говоря, немыслимой.
Священным писанием этой группы была тоненькая, кое-как склеенная ксерокопия журнала, выпускаемого на Лонг-Айленде парнем, взявшим себе псевдоним Эммануэль Голдштейн в честь героя романа «1984» Джорджа Оруэлла. Журнал назывался «2600: еженедельник хакера», в нем публиковались идеи для всяких трюков со всевозможными системами: от консолей Atari до дверных замков. Название журнал получил от одного из самых ранних хаков, о которых мы, члены этих небольших сборищ, знали: известного трюка 1970-х годов, предполагавшего использование звукового сигнала на частоте ровно 2600 герц (примерно как у сигнала обратного хода грузовика) для переведения аппаратуры AT&T в «режим оператора», который позволял телефонным хакерам – их называли «телефонными взломщиками» – совершать любой телефонный звонок бесплатно. Хак не имел никакой иной практической пользы, кроме возможности звонить в любую точку мира бесплатно. А когда овладеваешь этим трюком, понимаешь, что в Мумбаи некому и незачем звонить.
Реальный прикол, удовольствие от подобной игры было в другом. Возня с телефоном и сопровождающие ее звуки, издаваемые системой, создавали ощущение тайного доступа, чувство контроля над самой большой телефонной сетью на Земле. В какой-то момент телефонный взломщик по имени Джон Дрейпер обнаружил, что маленькие пластиковые свистки, которые клали как игрушки в коробки сахарных хлопьев Cap’n Crunch, почти идеально воспроизводили 2600-герцовый звук. Этот хак сделал его легендой, впоследствии его вторым именем стало прозвище Cap’n Crunch (Кэп Кранч). Статья о Дрейпере в выпуске Esquire 1971 года вдохновила двух юношей, которых звали Стив Джобс и Стив Возняк (окружение его звало кратко – Воз), на создание их первой компании для изготовления и продажи маленьких синих коробочек для несанкционированных телефонных звонков. Воз потом вспоминал, как волнительно было встретить Кэпа Кранча одним калифорнийским деньком. Странный, эмоциональный, слегка пахнущий, бродячий инженер. «Я делаю это по одной-единственной причине, – буркнул однажды Кэп одному автору статьи в Esquire, который был несколько озадачен тем, что взрослому мужчине придется свистеть в телефоны. – Я изучаю систему. Телефонная компания – это Система. Компьютер – это Система. Понимаете? Я делаю это только для того, чтобы исследовать Систему. Компьютеры. Системы. В этом состоит смысл, – говорил он. – Телефонная компания – есть не что иное, как компьютер».
Я услышал об Амстердамской конференции в кругах «2600» где-то посреди дебатов о печатных платах и о том, какая компания больше подходит для относительно нового сервиса электронной почты. Собрание было организовано группой голландских компьютерщиков, выпускавших свой собственный журнал «Hack-Tic». Я послал e-mail основателям. Один из них, человек с непроизносимым именем Роп Гонгграйп, дал неотразимый ответ. «Мы организуем 4, 5 и 6 августа трехдневный летний конгресс для хакеров, телефонных взломщиков, программистов, компьютерных ненавистников, путешественников в информационных базах данных, электроволшебников, сетевиков, взломщиков аппаратного обеспечения, техноанархистов, коммуникационных наркоманов, киберпанков, системных администраторов, глупых пользователей, параноидальных андроидов, Unix-гуру, карьеристов, офицеров-силовиков (соответствующая униформа необходима), инженеров-партизан и всякой другой лысой, длинноволосой и/или небритой швали», – вот так начиналось приглашение. Информационные путешественники? Электроволшебники? «Хакеры-пижоны»? Я должен был пойти. «Также включено, – продолжалась запись, – вдохновение, потовыделение, нехватка душевых кабин (зато озеро есть), отличная подруга (гарантировано Господом), костры и много места на свежем воздухе».
В тот период становления Интернета только начало проявляться воздействие коммерческого инстинкта в работе. Во всяком случае, большинство людей, читающих 2600 или Hack-TIC, были глубоко антикоммерческими. Для них это было хобби, как чарующие ролевые игры, подобные «Подземельям» и «Драконам», вместе взятым, часто с использованием ненадежных цифровых машин. Было не случайно, что такие фирмы, как Apple, возникали из подобных встреч во внеурочное время в местах, подобных клубу «Homebrew Computer Club» в Силиконовой долине, названному так корневым, самоопределяющимся хиппи, характером того времени. Все, относящиеся к этой весьма странной категории, кого вы встречали в этом мире, были перечислены в электронной почте Ропа Гонгграйпа. Их расслабленный темперамент всезнаек нашел свое отражение в создании Интернета, открытого, общедоступного, свободного, щедрого, легкого в использовании, вызывающего порой эмоциональные дебаты по поводу протоколов. Его дизайн был реакцией против таких систем, как телефонная компания AT&T, которая была закрыта, затратна и тяжеловесна (и, следовательно, позволяющая ею манипулировать).
Джон Постел, американский гений инженерии и программирования, приложивший руку к одним из корневых протоколов Интернета, выразил свою позицию в 1980 году в девизе, который, как он думал, будет характеризовать всю архитектуру Интернета: «Будьте консервативны в том, что делаете, будьте либеральны в том, что принимаете». Слоган Постела стал известен как «принцип здравого смысла», и он был призван определить, как коммуникаторы и узлы будут вести себя в сети. Постел чувствовал, что они должны отлично управляться с различными видами коммуникации – им должен быть присущ «здравый смысл», – но им также следует не засорять сети слишком большим количеством нестандартного мусора. В этом и состояло главное преимущество перед старой сетью ARPANET, в разработке которой принимал участие Пол Бэран. Та сеть замечательно работала сама по себе, независимо, посылая зашифрованные коды запуска баллистических ракет, но она не справлялась с совместной работой с другими сетями. Она не была щедрой. Интернет, разрабатываемый Постелом и другими, должен был стать значительно большей сетью, нежели ARPANET, так что возможность общаться со странными компьютерами и быть при этом понятым была в приоритете. Это было похоже на проектирование аэропорта: он должен располагать условиями для посадки самолетов разных типов. Но если бы кто-то вдруг начал разбрасывать шары для гольфа и конфеты по взлетной полосе и проливать на нее бензин, у вас были бы проблемы. Система бы замедлилась для всех. Постел говорил инженерам: «Внимательно следите за тем, что вы делаете в сети и что вы в нее впускаете. Будьте ответственны. Постройте нечто такое, что будет щедрым по отношению к тому, что оно будет принимать от других».
«Будьте либеральны в том, что принимаете». С самых первых секунд, проведенных на траве в Лелистаде, маленьком городке в окрестностях Амстердама, где собралась конференция «Хакеры на краю вселенной», безумное разнообразие, которое предполагала эта идея, было головокружительным и радующим фактом. Вся эта разношерстная и чудаковатая публика, о которой говорилось в письме Ропа, была там. Протянули себе кабель от тента до фургона и уселись под деревьями поражаться скоростям, которых сейчас можно достичь с телефона, находясь на подземной стоянке с самой никудышной связью. Двухдневный фестиваль на открытом воздухе был примером человеческой слаженности. Принцип Постела, претворенный в жизнь. Лишь некоторые из нас более-менее знали участников. Почти все из них были, ну, скажем, не особо социальные. Но там была возможность мгновенных коммуникаций, там кипели дискуссии, были настольные игры и искренняя слаженность, которой я никогда прежде не видел. То было предвестие двух грядущих десятилетий всеохватывающего цифрового соединения.
Однако среди всех людей, присутствовавших на конференции Hack-Tic, – среди системных администраторов и Unix-гуру и инженеров-партизан (согласитесь, у каждого есть свои странности) – именно хакеры-пижоны представляли наибольший интерес – как для участников конференции, так и для белых фургонов, разъезжающих поблизости, предположительно полицейских. Прозвище этих парней происходит из различного программного обеспечения, к которому у них был доступ, – большей частью взломанных версий коммерческих программ, которые публиковались, распространялись и различным образом использовались в системах частных объявлений. Хакеры-пижоны были пиратами. И, как и большинство пиратов, они обладали способностью видеть всевозможные лазейки в законодательстве и чутьем к деньгам, вращающимся по принципиально новым каналам. Если в целом хакерская культура в ту раннюю пору была маргинальной – она действительно была маргинальной, учитывая катастрофическую нехватку женщин в этих кругах, – то это были люди самой глубокой периферии общества. В них были слиты воедино фантастические технические навыки и хакерские управленческие качества. И жажда выгоды, как у преступника.
Первые компьютерные вирусы были частью того, чем они торговали. Вирусы появились в 1980-х и представляли собой большей частью увлекательные головоломки. В среде компьютерных инженеров тогда витало желание, что-то вроде академического интереса, – желание увидеть, что же можно сделать с системами, которые они построили. Это мало отличалось от тех свистящих телефонных звуков, так изумлявших Кэпа, Стива Джобса и Воза. Ну а вы, смогли бы вы заставить здоровые машины размером с комнату вытворять то, чего никто и представить не мог? Это действо было преисполнено абсолютного и несомненного восторга. Я до сих пор помню, как я вернулся к себе в офис в один день середины 1990-х с запечатанным пакетом, в котором лежала дискета. Дискету, которая была подписана словом «Вирусы», я сразу использовал для того, чтобы убить свой компьютер так, чтобы его нужно было переформатировать. Дважды. Такие приключения, между прочим, порождали лучших программистов. Исполнение трюков в этих ранних машинах требовало особой близости с кодом, определяющим их электрические операции. (Компьютерные программы называются кодом; люди, которые их пишут и тестируют, называются кодерами.)
Но секреты, скрывающиеся за этими ранними взломами и присвоениями, редко оставались таковыми длительное время. Неформальная культура журналов в переплете типа «2600» позволяла легко понять, что нужно знать об этой группировке: это была группа, члены которой любили делиться, хвастаться и ублажать друг друга историями о системах, которые они вскрыли, любили играть с чувством легкой паранойи в отношении того, кто может следить или кому это может быть любопытно. «Компьютеры. Системы. Я в этом ас». Еще можно было разделять свое чувство адреналинового азарта с другими. Ощущение общей альтернативной реальности, которое многие из нас испытали в таких играх, как «Dungeons and Dragons», или на страницах таких журналов, как Dune, отлично вписывается в цифровые реалии. Этот открытый и дружелюбный темперамент оживил многих людей на этом амстердамском поле: они веселились у озера, вместо того чтобы разбрестись по душевым кабинкам. Мы находились в абсолютном программистском изумлении от того, на что способна машина – даже на то, что не было задумано изначально. Мы были безобидны. Эти хакеры-пижоны, однако, были иными. Их изумление было жадной, омерзительной одержимостью.
Эта практика всякого рода хитростей с компьютерными системами претерпевала изменения даже в тот момент, когда мы сидели на том летнем газоне Амстердама. И изменения эти выявили нечто такое, что важно для нас сегодня. Я говорил, что эта книга посвящена всевозможным сетям, но дилеммы сетевой эпохи далеко не настолько очевидны, как внутренние системы технологий информационного поля. От этих систем, в конце концов, пошла наша сетевая эпоха, точно так же, как атомная эра когда-то стартовала в песках Нью-Мексико. Нестабильность информационных сетей – это важный ориентир на нашем пути к пониманию главных принципов. Я хотел бы уделить несколько страниц размышлению над вопросом о том, каким именно образом компьютеры можно поломать, не потому, что вам или мне нужно знать, как залатать дыру в программном обеспечении (хотя это и неплохая идея), но потому, что компьютерная безопасность – это лишь метафора. Если приглядеться, то становится ясно, что история квеста по взлому машин и контролю над ними по сути является историей квеста по обретению контроля над любого рода коммуникационной системой. Я имею в виду рынки, выборы, исследования, онлайн-обучение. Нам нужно только принять идею того, что террористические группы и политические партии – это в конечном счете те же социальные сети, и тогда мы сразу же понимаем, что места, которые они могут взломать (или в которых они могут оказаться взломанными), не менее важны, чем все остальное. Точно так же, как «Скотный двор» Оруэлла не является историей про свинарник, приключения хакеров и тех, кто с ними борется, не являются какой-то там детской сказкой про компьютерную сеть. История хакеров-пижонов, Агентства национальной безопасности или фрилансеров – «эксплуатационных инженеров» имеет более глубокую мораль. Это история о влиятельной мощи сетей.
Постоянные коммуникации предполагают постоянную уязвимость, если не быть подготовленным. Я веду речь о том, что системы, на которые мы полагаемся сейчас – не только информационные, политические или финансовые, – очевидно, не отвечают этому жуткому требованию. Ими слишком легко манипулировать. Что, в свою очередь, означает, что нами очень легко манипулировать. Эти сетевые клубки дают возможность небывалого и совершенно беспрепятственного контроля. Контроля над вами, надо мной, над рынками, к которым мы подсоединены, над информацией, которая нам нужна. Я говорю не о взломе механизма выборной системы; я говорю о взломе СМИ и информации, которой мы руководствуемся, отдавая свой голос за того или иного кандидата. Впервые за всю историю мы открыты полному и при этом неявному контролю – контролю не только правительств, но вообще любого лица или организации, знающей особые лазейки и ходы. Это становится все более очевидным в мире IT-технологий, но это, кроме всего, отражает более широкую картину уязвимого мира. Когда исследователи систем безопасности обнаружили в 2014 году, что 50-долларовые домашние системы видеонаблюдения каждые несколько минут отправляли снимки на какой-то иностранный e-mail адрес, то, что они обнаружили, в действительности являлось трещиной в самом фундаменте доверия. А доверие – это залог существования любого общества. Когда вы обнаруживаете, что вы живете на самой грани исчезновения всякой надежности, когда системами и вашим сознанием можно манипулировать, тогда самая природа вашей политической и экономической жизни изменяется. Так и должно быть. Вы должны быть обеспокоены. Вы должны перебирать в голове мысли, подобные «Что я могу с этим сделать?». Не забывайте о кульминационном моменте в «Скотном дворе», когда изначальная заповедь фермы, гласившая: «Все животные равны», извратилась до «Все животные равны, но некоторые животные равны больше других». Эта глава будет повествовать о тех силах в сетях, которые стремятся быть более равными, чем большинство из нас, – именно это стремление и вызывает опасение.
Именно эта перемена стала очевидной летом 1993 года. Хакерство, некогда бывшее уделом небольшого числа убежденных энтузиастов и системных администраторов, тогда превращалось в нечто более зловещее. Тогда же начало входить в оборот новое понятие – «вредоносное программное обеспечение (ПО)», – ставшее термином для программ, которые паразитировали на идее Постела «будьте либеральны», взламывая объединенные системы, заключавшие в себе слишком много открытых всякому проникновению дверей. Несколько легкомысленное устройство ранних компьютерных систем делало их подверженными различным посягательствам. Проблема также состояла в том, что сами сети и машины незаметно скатывались ко все более сложным формам. И это во всех без исключения случаях означало, что популярные программы часто поставлялись с ошибками или программными недочетами, которые требовали вмешательств. Например, за год до Амстердамской конференции вредоносная программа под названием «Микеланджело», заменявшая данные жестких дисков ничего не значащими единицами и нулями, заразила миллионы компьютеров. И каждый следующий год 6 марта вновь активировалась программа перезаписи. Жуткое празднование дня рождения великого деятеля искусств эпохи Возрождения. Но поскольку эта программа действовала в BIOS, самом сердце этих машин, их тройственного мозга, в некотором смысле, устранить ее было невозможно. Компании, занимающиеся компьютерной безопасностью, позже ставшие известными как компании «небезопасности», потому что они постоянно были отстающими, отреагировали на проблему лишь следующим сомнительным советом: «Выключите компьютер 5 марта. До 7 марта не включайте». По мере того как технологии развивались, также совершенствовалось и вредоносное ПО, адаптировавшееся к новым возможностям и эволюционировавшее. Подумайте хотя бы о том, насколько сильно отличается наш опыт использования машин сегодня от того, каким он был всего несколько лет назад. Хакерство развивалось столь же быстро, если не быстрее. Ранние атаки были нацелены на машины, у которых не было защиты как таковой. Программы наподобие «Микеланджело» были задуманы по образу гриппа или отравления. Они ослабляли, а затем контролировали отдельные машины – устройства без иммунных систем. Хакерам непросто было найти способ вбросить эти цифровые заболевания в компьютеры, но они, конечно, в конце концов добивались своего. Они прятали вирусы на дискетах, в документах или в таблицах, которые выглядели совершенно безобидно. Спецслужбы вскоре обрели дурную славу благодаря раздаче «бесплатных дисков» и зараженных флешек на конференциях и парковках, ожидая, как какой-нибудь незадачливый работник вставит одну из них в компьютер и тем самым активирует какое-нибудь кропотливо занесенное и скрытое ПО, конечно же, вредоносное. Или остроумному занесению такого ПО в код какой-нибудь особо жестокой видеоигры, в которую, несомненно, под вечер решит сыграть системный администратор.
А подключение устройств к Интернету? Разница была такая же, как между жизнью в маленьком городишке и прогулкой по улицам Нью-Йорка 1970-х. В одном случае вы бы встретили по пути несколько человек, большей частью близко знакомых и совершенно безобидных. В другом? Вы бы оказались в самой гуще странного, извращенного и удивительного. Каждое новое рукопожатие – риск. Именно такова жизнь вашего телефона, жизнь банка или армии – мир беспрестанного штурма, ведущегося зачастую невиданными средствами. Роберт Моррис, гений криптографии и безопасности, посвятивший в прошлом веке десятилетия таким амбициозным проектам, как программы взлома Агентства национальной безопасности, выразил свой громадный опыт взлома машин в 3 золотых правилах компьютерной безопасности. Правило 1: не покупайте компьютер. Правило 2: не включайте его. Правило 3: не используйте его.
Можно было еще четвертое добавить: не подключайте его ни к чему.
Сегодня мы, понятно, почти все эти правила ожесточенно нарушаем каждую секунду. По правде говоря, вся наша социальная и экономическая сфера зависит от этих нарушений. Мы хотим владеть наилучшим девайсом, мы хотим, чтобы он всегда был включен, и мы хотим пользоваться им все время. «Удобство» и «связь» уже почти стали синонимами. Телефон без доступа в Интернет? А автомобиль? А рынок? Это пустышки. Сетями, а также всеми, кто с ними связан, можно манипулировать совершенно определенным образом. «Эксплуатационные инженеры, – используя такой вежливый термин для хакеров, утверждала группа, возглавляемая специалистом в области безопасности Сергеем Братусом, – еще покажут вам такие пределы ваших систем, о существовании которых вы и не догадывались». Хакеры выявляют опасные дыры в нашем новом мире, и, делая так, они показывают нам, как на самом деле устроены сети, подобно тому, как грабитель выявил бы недостатки вашей домашней системы наблюдения. Хуже всего то, что самые отъявленные хакеры – обладающие наивысшим навыком – проявляют свои навыки через сметание ваших данных, денег и части вашего разума. Их доходы, их безопасность и их любопытство – все это объединяет их страсть прикоснуться к корням сети, поиграться с ними и в конце концов сломать эти корни. В мире расширяющихся коммуникаций они более сильны и опасны, чем когда-либо. Так мы получаем оборотную сторону лозунга Постела: чем более мы соединены, тем больше риск. И так как банковские счета, секретные разработки реактивных двигателей и прочая тому подобная бесценная цифровая информация разрабатываются и затем передаются по соединенным в сеть компьютерам, выгода от взлома систем растет и возникает значительно быстрее, чем затраты самого взлома.
«Все более очевидным становится то, что даже самые передовые технологии защиты компьютерных сетей более чем на 10 лет отстают от своего соперника – технологий компьютерных нападений. Даже компании, специализирующиеся на интеллектуальных системах, и военные организации, которые, по логике вещей, лучше всех подготовлены к защите собственной инфраструктуры, с трудом удерживают непрерывную осаду агрессоров со всевозможными мотивами, навыками и ресурсами», – говорили исследователи сферы безопасности Линднер и Сандро Гайкен. Длинный список промахов, допущенных службами американской военной безопасности, демонстрирует странную цифровую логику: чем важнее держать какую-либо организацию в тайне, тем труднее это удается. В последние годы правительства различных государств мира находятся в странном положении, когда они требуют раскрытия тайн своих граждан, при том что едва могут сохранить свои. Немного спустя после того, как взломали Кадровое агентство США в 2014 году, правительство разослало срочные сообщения всем госслужащим: «Не открывайте подозрительные электронные письма!» Многие получатели так и не открыли письма, решив, что оно тоже было частью кибератаки. Отстают на 10 лет? Это разница между раскладушкой и iPhone. В гиперскоростном мире технологий это все равно что посылать древнегреческого воина против лазерного оружия. Такая гонка очень хорошо подпадает под динамику «опережающего-отстающего» по Дональду Рамсфелду. У нас должен возникнуть вопрос: «стоит ли использовать все больше и больше компьютеров с большим количеством уровней, ПО и приложений, чем нам по силам защитить?» «Не делаем ли мы больше пробоин, чем ставим заплат?» (Да и да.) «Действия агрессоров отличаются от характера природных катастроф, – пишут Линднер и Гайкен, – потому что агрессоры, в отличие от природных катастроф, могут анализировать свои жертвы».
Сергей Братус, математический гений, из простого любопытства переметнувшийся в область информационных наук, преподающий сейчас в Дартмут-Колледже, провел немало времени, пытаясь понять, что происходит, когда компьютер или система оказывается под контролем хакера или, если использовать забавную идиому в языке хакеров-пижонов, становится «pwned». (Фраза означает контроль или власть над системой. Слово это обычно является атрибутом ожесточенной сессии в какой-нибудь онлайн-игре, когда один игрок, убив другого, торопится победоносно написать в чате, как он его поимел («I pwned you!»). Это некогда ошибочно написанное слово (от «owned») живет и по сей день: высший стандарт в информационной безопасности известен как Pwnie.) Братус называет девайс, который кто-то pwned, «странной» машиной: компьютер, сенсор, беспилотник, который исподтишка заставили выполнять нечто непредусмотренное. Странной или ненормальной.
Хакерство – это, по сути, извращенное программирование. Оно предполагает, что хакер проникнет в машину и заставит ее делать то, чего она делать не должна, давая ей наставления, о которых и не догадывались ее создатели. Разработка и применение компьютерных вирусов не сильно отличается от самого сложного исследования ПО. Хакеры строго придерживаются скрупулезно выверенных тем. Лучшие из них взращивают целые системы с ловкостью самых выдающихся информационных архитекторов. Агрессоров такого рода интересуют определенные устройства и схемы; они искусно обращают код в оружие и стремятся к непременно тотальному контролю. Как сказал Роберт Джойс, руководивший хакерскими проектами Агентства национальной безопасности: «Мы добиваемся успеха, потому что мы вкладываем силы в изучение конкретной сети, мы тратим на это много времени. Мы уделяем этому столько времени, сколько достаточно для того, чтобы изучить сеть лучше, чем ее знал сам ее создатель». Нормальная машина делает то, что вы указываете ей делать. Ненормальная машина делает то, что ей указывает делать кто-то другой.
Как же такие системы рождаются? Ошибки в ПО, из-за которых машины и становятся ненормальными, бывают настолько нелепыми, что, например, возникают всего-навсего из-за того, что автор ПО забывает обеспечить свое творение защитой после того, как он его создал, – все равно что забывает закрыть входную дверь в квартиру, отправившись куда-нибудь по делам, – или допускает оплошность, из-за которой машина не имеет возможности реагировать на неожиданные команды. Взять хотя бы технику «фаззинга» (тест на безопасность), известный способ обратить нормальную машину в ненормальную. Каждый раз, когда вы или я вводим имя пользователя и пароль в закрытой цифровой системе – скажем, авторизуемся в нашем банковском аккаунте или в рабочем адресе электронной почты, – компьютер регистрирует эту информацию и соотносит ее с данными, хранящимися во внутренней защищенной базе данных. Это то же самое, что дать машине все элементы пазла-причудливых очертаний вашего облика. Если на изображении действительно вы, то вас впускают. Фаззинг-атака предполагает подбрасывание машине чего-то такого, чего она не ожидает. Лишний элемент пазла – к примеру. Или кроссворд вместо пазла. Если вы впишете в поле наименования пользователя «[email protected]!@@» вместо нормального адреса электронной почты, которого ожидает от вас машина – [email protected], – то это последнее!@@ может вызвать у машины панику, как если бы она собрала пазл и обнаружила, что остался еще один элемент. Если у вас есть программа, которая посылает машине пазлы из двух разных мест в одно и то же время, то вы можете вызвать поломку нескольких компьютеров. Они будут недоумевать: «Как он может быть в двух местах одновременно?» Машины испытывают «фаззинг» – «рассыпаются». И находясь в этом недоуменном состоянии, они могут сломаться, зациклиться или просто решить: «Я не понимаю этих ребусов, так что я просто открою дверь». Современные хакеры могут без труда заставить машины делать все это: бросать кроссворды туда, где должны быть пазлы. Сделать так, что вы будете появляться в двух или в двадцати местах одновременно. И они могут создавать тысячу таких миражей в секунду. В этом и состоит соблазн для хакера-злоумышленника: компьютеру так или иначе нужно отдавать указания. И устанавливать запреты. Если вы подойдете к сотруднице банка и закричите ей в лицо что-то невразумительное и обескураживающее, то она решит, что вы сошли с ума. Но если вы проделаете что-нибудь похожее с неодушевленной цифровой банковской системой, которой «не объяснили», как себя вести в подобной ситуации, если ей «прокричат» нечто аналогичное, то результатом может быть то, что она пропустит вас в сейф.
Системные администраторы последних поколений стали старательно избегать подобных проблем, в значительной степени из-за того, что слишком часто на собственной шкуре ощущали последствия таких ошибок в коде. «Вы никогда по-настоящему не поймете, как работает ваша программа, пока ее не попытаются взломать», – говорил Братус о том чувстве, которое сейчас испытывают многие программисты или пользователи, неожиданно ставшие жертвами. Вы не поймете себя, пока вас хакеры однажды не превратят в «pwned». Вероятность того, что бесконечные возможные программные глюки исправят, равна нулю. Хакеры все равно еще долгте годы продолжат использовать классические трюки вроде фаззинга, несанкционированного взлома и «закулисного» проникновения в ваш компьютер, а также продолжат разрабатывать более изощренные способы овладения его разумом. Эта погоня за совершенством, конечно, безумно динамичная, но она не бездумная. У нее есть цель: ведь чем ближе хакер подбирается к сердцу компьютерной программы или сети, тем больший контроль он имеет. Обладать доступом к ядру системы – значит контролировать всю информацию, которую она видит, и контролировать то, как она принимает решения. Такой «хак» равносилен победе иностранного шпиона на президентских выборах, вызвавшей превращение всего правительства США в «ненормальную машину». Столь эффектный результат – моментального, высокоуровневого и абсолютно надежного доступа – золотой стандарт хакеров-пижонов.
Самые опасные – и, следовательно, самые заманчивые – из таких атак известны как уязвимости нулевого дня. Опасность, которую они представляют собой, всегда проявляется именно тогда, когда уже слишком поздно, – в нулевой день, когда становится ясно, что они все это время активно работали в «доверчивой» сети или компьютере. Этот момент, когда узнаешь о вирусном заражении, подобен тому же нулевому дню диагноза рака – в обоих случаях моментально начинается отчаянный поиск выхода. Слабые места, уязвимости, которые являют собой «трещины» в стенах компьютеров, часто не известны их производителям, системным инженерам и экспертам в области безопасности. Мечта хакеров, шпионов и хакеров-пижонов – особая версия такого трюка, который называется продвинутой постоянной угрозой: скрытый доступ к машине, которая держится – иногда даже годами – за счет обновлений, проверок безопасности и чисток системы, и, одновременно, все это время, будучи уже «ненормальной», выполняет команды, о которых ее пользователь не имеет и малейшего понятия, – отправляет, например, копию каждого действия, совершенного пользователем, на какой-нибудь другой компьютер или выполняет функции стартовой площадки для атак на другие машины, создавая при этом вид совершенно нормального рабочего компьютера.
Лучшие взломы «нулевого дня» основаны не столько на идее внедрения в машины вредоносного ПО, сколько на использовании уже существующего проверенного кода и поиске в нем мелких щелей, создающих возможность краж информации из гигантских каналов. Такие атаки обычно базируются на случайно допущенных ошибках в компьютерных системах или на таких их характеристиках, которые могут выглядеть безобидными, но легко могут стать опасными. Все разработчики аппаратного и программного обеспечения отлично понимают, что их системы уязвимы. Математики доказали, что никогда нельзя быть уверенным, что компьютер, подключенный к сети, безопасен. Мобильный телефон, к примеру, может содержать более 10 миллионов строк кода. Системы, обрабатывающие огромные облачные хранилища, такие как Google и Amazon, еще более массивны. Обновляются они ежедневно, объемы информации, которую они пропускают через себя, невообразимы. Даже самые талантливые программисты допускают по 4–5 ошибок на каждый миллион строк кода.
Производители программного и аппаратного обеспечения обычно стремятся скрывать такие возможности взлома до тех пор, пока они не найдут способ исправить их. Но это не всегда работает. Тайное всегда становится явным. Но даже после того, как исправление выходит в свет, на то, чтобы установить его, уходят недели, а порой и месяцы. Нет ничего необычного в том, что спустя пару часов после того, как будет объявлено об обнаружении новой уязвимости нулевого дня, атаки, в которых применяются такие методы, просто взрывают Интернет. Тысячи хакеров пытаются воспользоваться уязвимостью, прорвать оборону систем, пока те отключены для починки или для перезагрузки или просто оставлены без присмотра системными администраторами, которые не в курсе, что сейчас в самом разгаре сезон охоты на отдельную часть кода. О существовании нулевого дня под названием Heartbleed, позволявшего хакерам прокрадываться в компьютеры пользователей через дыры в их браузерах, стало известно 7 апреля 2014 года – спустя более чем 2 года после его возникновения в результате программной ошибки. Случайно? Из-за переутомления инженера? Нарочно? Под эгидой какого-нибудь федерального агентства безопасности? Никто не знал. (Или не говорил.) Как бы то ни было, спустя два дня после обнародования информации о Heartbleed и задолго до того, как большую часть компьютеров успели полностью залатать, количество атак с использованием этого метода выросло от нескольких десятков в час до миллионов.
В последние годы промысел хакеров достиг новых горизонтов, вырвался далеко за пределы ПО и USB-флеш-накопителей. Дело дошло до самого базового, атомного уровня компьютеров, до мест, где электроны приводят биты и байты в движение. Техническое совершенство этих микрохаков потрясает воображение – подобные взломы выглядят, как оперы Вагнера в сравнении с тоненьким пронзительным свистом Cap’n Crunch. Возьмем, к примеру, один недавний инновационный хак с помощью магнитного заряда. Электрические сигналы, как известно, сопровождаются магнитной компонентой. И когда такие компании, как Intel и AMD, начали оснащать свои полупроводниковые платы все большим и большим количеством ячеек памяти, они обнаружили, что магнитные помехи двигались по поверхности их чипов, словно волны. Иными словами, множество цифровых клеток равносильно множеству магнитов. В 2014 году специалисты по безопасности Марк Сиборн и Томас Даллиен, работавшие в Google, совершили следующее открытие: ими была обнаружена возможность использования магнитных вибраций в двух параллельных рядах плат памяти, чтобы менять электрическое состояние третьего ряда. Что-то вроде перемещения булавки, лежащей на поверхности стола, с помощью магнита, находящегося под столом. Так же, как и в случае с магнитом, трюк оказался незаметен.
Это дало им возможность беспрепятственно добраться до самых глубинных, сверхзащищенных областей памяти машин, областей, в которых они могли делать все, что им вздумается. Наносимое хакерами повреждение получило название «rowhammer»; оно представляло собой идеальную и практически не поддающуюся починке пробоину, имевшую место практически в каждом микрочипе, на протяжении ближайших пяти лет. Предупреждение для потенциальных жертв о результате было опубликовано сразу же. И все же этот эксплойт был нацелен в самый базис системы, так что практически невозможно было полностью от этого избавиться. Биться над исправлением – было равносильным тому, чтобы попытаться исправить законы физики.
Компьютерный исследователь Натаниель Хастед представляет мир как пространство «всплывающих уязвимостей» – не связанных между собой червоточин в программном и аппаратном обеспечении, в сфере коммуникаций и финансов, возникающих в мире связи. «Фундаментальный аспект всплывающих уязвимостей и атак, – пишет Хастед, – состоит в том, что они создают впечатление несерьезных, поддающихся решению проблем ровно до тех пор, пока не наступит определенный критический момент, когда они станут злокачественными». Риски, которые мы не ожидаем, в немалом количестве присутствуют во всех сферах связи, используемых нами. На деле – и именно на этом и делает акцент Хастед – есть такие сферы связи, которые сами собой представляют опасность.
Полу Бэрану было бы приятно увидеть сейчас, насколько он был прав в том, как связь между нами уподобилась неумолимой силе гравитации, и что гравитация всегда побеждает. К примеру, в 2015 году израильские службы безопасности разработали совершенно поразительный хак, который подтвердил истинность фактически провидческого утверждения Бэрана о том, что все предметы могут быть объединены средствами связи, и продемонстрировал, как коварные атаки могут пробить даже самые надежные структуры. «Предполагается, что физическая изоляция компьютеров (т. н. воздушный зазор) обеспечивает высокий уровень безопасности», – писали Мордекай Гури и его команда в статье, описывающей, как они использовали одну изолированную машину, чтобы заразить другую. Физическое разделение вообще является одним из основополагающих правил компьютерной безопасности – это своего рода лемма, дополняющая правило сэра Роберта Морриса – «Не входите в соединение»: две машины, не связанные между собой какой-либо сетью, не могут взаимовлиять. Представьте себе следующее: школьник, болеющий гриппом, сидит в классной комнате, а его одноклассник – в другом здании. Второй ребенок останется здоров.
Группа исследователей из Тель-Авива хотела проверить это. Сначала они поместили два не соединенных какой-либо сетью или кабелем компьютера на одном столе. Один из них был подключен к Интернету. Другой же был полностью изолирован – или, выражаясь языком компьютерщиков, был в «воздушном зазоре», подобно ребенку во втором здании. Затем исследователи принялись проворачивать трюки: «А давайте-ка сломаем эту совершенно изолированную машину!» Запустив серию специальных программ на подключенной к сети машине, исследователи смогли разогреть процессор этого компьютера в той степени, как можно разогреть, например, двигатель автомобиля, форсируя его ускорение. Разогрелся он до такой степени, что температурные сенсоры в другой, неприступной машине, находящейся в нескольких сантиметрах от другой, смогли зафиксировать изменения. Тепловая волна запустила систему охлаждения в «чистой» машине, которая, в свою очередь, запустила предустановленное вредоносное ПО, с помощью которого разогретая машина, используя температурные перепады, уничтожила компьютер, который находился в «воздушном зазоре». В видеодемонстрации подобного эксплойта можно увидеть, как заражающая машина непрестанно разогревается и вызывает звуковые сигналы, предупреждающие о перегреве, продолжая при этом заражать своего «несоединенного» собрата. Передача жара выражает одну простую мысль: ничто не безопасно.
Для чего, спрашивается, вкладывать столько усилий, достойных сложнейших проблем физики, пытаясь пробраться в сотовый телефон или в компьютер незамеченным? В случае с Сиборном и Даллиеном азарт был частью предприятия «раскрыть и опубликовать», целью которого было поддержание всей системы в чистоте. Лучше уж хакнуть, раскрыть и затем исправить, чем быть хакнутым, причем так, что даже сам хак так и останется нераскрытым. Тем не менее хорошие парни ни в чем не уступают столь же сложно организованным группам с дурными мотивами. Ведь, в конце-то концов, разработка вирусов нулевого дня – это тоже своего рода бизнес. Современные версии «свистков» Cap’n Crunch способны взломать самые главные финансовые и политические базы данных на планете. Настолько, насколько возросла ценность мишеней для хакеров, настолько же выросла и цена эксплойтов. Глобальные «рынки нулевого дня» платят сотни тысяч долларов исследователям, которые способны разыскать дыры в их системах. Мысль такова: «Лучше уж нам самим их найти». Это, впрочем, не делает ситуацию менее уязвимой. Например, в 2015 году имела место следующая история: худощавый улыбающийся кореец Юн Хун Ли забрал домой $225 000, выигранных им на одном из самых масштабных хакерских соревнований в мире. Он сумел сломать один из самых серьезных программ-браузеров Safari и Google Chrome. На разработку этих программ ушли сотни миллионов долларов, над ними трудились лучшие в своей области люди. (Хотя на безопасности они явно сэкономили.) Юн Хун Ли обошел всю их защиту меньше чем за минуту.
При всем невероятном динамизме таких людей, как Ли, они – ничто в сравнении с самыми лучшими хакерами. Те не работают в открытую и в танцевальных залах гостиниц не соревнуются. Они не бравируют своими умениями. Но идеи они разрабатывают такие, что $225 000 выглядят как несчастная мелочь. Эти продолжатели хакеров-пижонов работают на киберпреступников-миллиардеров, на шпионские агентства или даже (зачастую) на самих себя. Они участвуют в нахождении и размещении таких серьезных эксплойтов, которые дают возможность совершать дерзкие кражи колоссальных объемов персональной информации или наносить атаки, подобные воздействию вируса Stuxnet, спровоцировавшего перегрузку тысяч иранских ядерных центрифуг. Они делают еще больше: большая часть атак, о которых мы говорили, наносится на смонтированные, рабочие механизмы. Но компании, выпускающие эти механизмы, руководят сложным процессом разработки, тестирования, производства и установки. И где-то среди этих центров, которые в своей совокупности обходятся в миллиарды долларов, разные эксплойт-команды создают и размещают невидимые уязвимости, которые они смогут использовать позже. Каждый шаг – начиная от внедрения всяких тайных начинок в ранние базы кодов и заканчивая перенастройкой роутеров, отправляемых за границу, – теперь содержит в себе возможность обладать незаметным контролем. Это также и возможность непредвиденных рисков и «всплывающих ошибок», не подвластных никаким мерам предосторожности, вшитых в машины точно так же, как разломы вшиты в полуостров Калифорния. Неудивительно, что хакеры работают по той же схеме, что и компании, сети и системы которых они стремятся взломать.
То, что некогда осуществлялось только одним хакером-пижоном, сейчас достижимо только ценой огромных усилий, высокой техничности и широкого предварительного исследования. Каждая новая инновация в «совершенном вредоносном ПО» быстро копируется и обращается в оружие. К примеру, преступники изучили сложный модульный дизайн Stuxnet, и спустя годы их действия проявились в атаках, направленных на банки, компании – изготовители кредитных карт и фирмы, занимающиеся страхованием. «Мы не эксперты военной истории, военных доктрин или военной философии, – писали исследователи кибербезопасности Стивен Кобб и Эндрю Ли, – поэтому мы не знаем точного обозначения того типа оружия, которое вы передаете своему врагу в готовом к употреблению виде». Точное обозначение такого оружия – ужас! «Совершенное вредоносное ПО уникально тем, – заключают Кобб и Ли, – что вы передаете оружие, тактику и схемы, просто применяя их».
Разумеется, не только американские службы, подобные Агентству национальной безопасности, охотятся на такое ценное оружие. Компьютерные следователи часто рассказывают, как они, открывая ноутбуки ничего не подозревающих бизнесменов, заставали их в довольно запущенной стадии заражения, запущенного несколькими шпионскими агентствами и криминальными организациями. Это то же самое, что обнаружить в своем шкафу нескольких шпионов, старающихся ни в коем случае не наступить товарищу на ногу, пока они подсматривают за вашей жизнью. «Почему мой компьютер так тормозит?» – спросит какой-нибудь европейский чиновник. Да все оттого, что его последовательно используют американцы, русские, израильтяне, китайцы и, может быть, даже какой-нибудь местный мафиози или несколько местных мафиози.
Возьмите пять электронных устройств, лежащих около вас, и вы убедитесь, что они, скорее всего, уязвимы. Это означает, что и вы тоже уязвимы. Не только к простой утечке вашей личной информации, но также к искажениям и контролю. Горькая правда состоит в том, что та старая хакерская философия, что так тепло распространялась по лужайкам Амстердама 20 лет назад, тот принцип передового общества – «Будьте либеральны в том, что принимаете» – уже мертвы. Ненормальные машины и нормальные машины, ненормальные сети и нормальные сети, люди, которые технологическими манипуляциями были превращены в ненормальных, и те, кто остался нормальным, будут жить бок о бок. А вы знаете, к кому вы относитесь?
Ныне повсюду вокруг нас в определенных местах установленных центрах аккумулируется колоссальная мощь. Гигантские поисковые машины, отдельные алгоритмы, протоколы баз данных и коммуникаций правят нами. Представьте себе жизнь без поисковой строки. Или кнопки «Поделиться». Исследователи урбанистической культуры часто поднимают вопрос: «Что такое город?» Мы же можем задаться следующим вопросом: «Что лежит в основе силы сетей?» Ответ на оба вопроса один и тот же: насыщенность. Первые города ацтеков и месопотамской цивилизации отличались от ранних племенных образований; то же можно сказать о наших первых платформах онлайн-коммуникаций. Facebook намного более насыщен, чем AOL в каждый из периодов своего существования. В Facebook больше людей, больше информации, там более плотные соединения. Будущие платформы будут еще более насыщенными. И как перенаселенные города были когда-то рассадниками чумы и революций, так и наши плотные кластеры связи содержат свои риски. Представьте, что было бы, если бы все знали, что наше правительство можно умышленно, моментально и незаметно сместить. Или же изобразите мысленно народ как соединенных в сети людей, настроенных исключительно на национализм и ненависть. Такое возможно в системах соединений, потому что, если все подключены к ядру, то и ядро подключено ко всем – как в стране с одним-единственным аэропортом. В этих центроузлах сосредоточивается все возможное зло: при наличии ненормируемого доступа хакер способен изменить то, что вы знаете о мире, то, как вы голосуете, изменить то, где хранятся ваши деньги, то, что вы запоминаете, сохраняя фотографии, аудиозаписи или расписания, или то, как скоро доктор заметит (или не заметит) ошибку в вашей ДНК.
«Перечитывайте то, что написано о кампаниях Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря, Густава II, Тюренна, Евгения Савойского и Фредерика Великого, – писал Наполеон. – Сделайте их своими моделями для подражания. Это единственный способ стать великим генералом и овладеть тайнами военного искусства». Перечитывая истории об атаках нулевого дня или о таких хитроумных взломах, как rowhammer или тель-авивский тепловой хак, мы видим рассказ о сломанных, некогда защищенных системах и о следующем фундаментальном принципе: хакеры всегда, всегда и во всех случаях метят в самый центр сети. Они стремятся распознать отношения доверия внутри сети, затем найти их самое слабое место и сделать его ненормальным.
В конце концов, сетевое влияние исходит даже не столько от колоссального распространения связи, сколько от громадной концентрации силы в определенных системах, на которые мы все полагаемся. Контроль над такими хабами и каналами может определять все; неудивительно, что они являются столь привлекательными целями.
Мысль о том, что наши системы действительно уязвимы, когда добираешься до самого их сердца, является именно тем, что влечет оппортунистов в самые глубины, в центральные программные хабы – в так называемые ядра, в которых хранятся все основные правила регулирования. То обстоятельство, что хакеры могут делать машины ненормальными, обращая существующий программный код устройств против них же самих, вызывая некое подобие иммунной недостаточности, уже само говорит о том, что наша проблема довольно серьезна.
Специалисты в сфере безопасности определили такие дыры как «уязвимости» системы, но эти уязвимости, разумеется, представляют собой нечто гораздо более серьезное, чем просто слабые места. Они могут быть фатальными. В каком-то смысле безудержное стремление использовать в неблаговидных целях подобные раковые клетки, ждущие своего момента, открывает нам главную тайну хакеров-пижонов, прямо связанную с Седьмым чувством: коммуникации делают объекты уязвимыми. Но, помимо этого, они также предоставляют возможность тотального контроля. «Кому вы доверяете?» и «С кем вы соединены?» – это один и тот же вопрос.
«Чем больше мы зависим от технологий, тем больше мы нуждаемся в том, чтобы изучить их как можно лучше», – заявляет одна группа радикальных цифровых активистов в «Манифесте цифрового инжиниринга». По мере того как мы связываем нашу безопасность, нашу свободу и наше здоровье с миром электронных устройств и их изготовителей, нам необходимо знать, что происходит в самих сердцах наших систем. Дело не просто в том, что все сейчас взаимосвязано; дело также состоит в том, что все прослеживается. Запоминается. Исследуется. Нам также следует быть осторожными в том, что именно мы признаем кодом, программным обеспечением и алгоритмами, определяющими столь многое в нашу эпоху сетевых коммуникаций. Аналогично тому, насколько ошибочно считать терроризм отдельным феноменом, настолько же неправильно думать, что все программное обеспечение и весь системный код – это нечто единое. «Это все проклятый код – из-за него рынок обвалился». Код может быть разным настолько, насколько разными могут быть люди, которые его пишут, и машины, на которых он запускается. Он разнообразен, он поразителен, он преисполнен ошибок и недочетов, и он в значительной степени определяет то, как какая-либо система работает. Стремление хакеров-пижонов добраться до самых глубин, активизировать свои хаки на атомном уровне говорит нам о том, сколько силы сокрыто в этих центральных узлах, где аккумулируется вся информация. «Свист» с частотой 2600 герц был, по-видимому, лишь первой из бесконечного числа битв за каналы и магистрали современной силы. «Как каждая попойка кончается водкой, так же и каждая хакерская сессия непременно находит свое логическое завершение на kernel.org», – заметил однажды Томас Даллиен, математик и хакер из категории «хороший парень», выигравший в 2015 году награду Pwnie за грандиозный прорыв в безопасности. Столь существенная мощь системы коммуникаций лежит в ее корне: kernel.org, являющейся эталонной копией компьютерного кода Linux, на котором работает большинство машин на Земле, – этакая первичная ДНК Интернета. Все, что работает на Linux – от информационных центров до роутеров и смартфонов, – доверяют коду этой машины. Проводить манипуляции с kernel.org значит касаться самой сущности Интернета. Если целью является контроль, то неизбежно kernel.org или его эквивалент в любой другой системе – это главная цель. Как и в попойке, хакеры могут начать с пива (вашего телефона) или пары бокалов вина (электронная почтовая система вашего офиса), но то, что им в действительности нужно, – это водка (kernel.org). Такие центральные узлы существуют в любой сетевой системе и представляют собой как величайшие достижения лучших системных разработчиков, так и мишени, на которые нацелены столь же изощренные злоумышленники.
Размышляя над работами хакеров, Даллиен усматривал и другие моменты. Сравнение действий хакеров с пьянкой не было для него веселой шуткой. Ведь хакерство – это и есть своего рода впадение в зависимость. Оно превращается в погоню за все более и более сильным кайфом, чем на компьютерном языке является вывод из строя максимально большого числа машин. Быстрая эскалация, потеря контроля, стремительно растущая потребность разрушения – вот характерные черты самых мощных массовых атак. Вот почему кража кода – изначальных инструкций, лежащих в основе любой компьютерной программы, – является такой желанной для хакеров-пижонов. Исходный код – это изначальный текст машин и сетей, окружающих нас, базовая программа, определяющая их работу. При правильном применении ее можно использовать для проникновения в любое устройство или в любую сеть для того, чтобы – как бы смешно это ни выглядело – украсть еще больше кода. Даллиен видел в этом самую настоящую наркозависимость.
Взломом машин с маниакальной лихорадочностью занимаются далеко не только подростки, жаждущие острых ощущений. Этим занимаются и правительства. «Удивительно. По крайней мере, мне это показалось удивительным после инцидента со Сноуденом, – говорил Даллиен. – Хакерство, оказывается, вызывает настолько сильное привыкание, что целые организации могут становиться как наркозависимые и вести себя соответствующе».
По мере того как с годами хакерство становилось все более прибыльным бизнесом, программисты, столь беззаботно жившие во времена «Hack-Tic», стали сталкиваться со все большим количеством новых трудностей. Девиз Постела – «Будьте либеральны в том, что принимаете» – был для них путеводной звездой, он способствовал неимоверно быстрому росту сетей. Правда, ценой их уязвимости. Сейчас почти у каждого есть что-то, что хотелось бы защитить. Никто не хочет быть либеральным в том, что он принимает, – сейчас все обстоит с точностью наоборот. Безжалостные, неотвратимые и, безусловно, прибыльные, такого рода вызовы внешней силы уничтожили уникальные социальные сети времен «Hack-Tic». Та открытость, которую мы столь высоко ценили во многих аспектах жизни – начиная от нашего сознания и заканчивая нашим рынком, – сейчас стала считаться пороком. «Я помню, на что похож был Интернет до того, как его стали отслеживать, и я могу сказать точно, что в истории человечества ничего подобного не было», – говорил Эдвард Сноуден, вспоминая эпоху, закат которой он наблюдал во времена, когда состоял в Агентстве национальной безопасности. Сейчас растет целое поколение программистов, которые никогда не узнают доподлинно про уникальный, великолепный дух таких работ, как «Hack-Tic». Сейчас появляется когорта новой цифровой эпохи, владеющая столь высоким искусством, о котором и помыслить не могли те, кто был двадцать лет назад в подвале здания Citicorp. Новое поколение вступает в бесконечную битву за проникновение в энергетические центры сетей, их поломку и затем за обращение их в неуправляемое состояние. Они познают, создадут и станут управлять целым миром доступов, созданных с одной лишь целью – защищать. Они будут стремиться к закрытости и контролируемости, а не к открытости и щедрости. Несомненно, это изменение отразится на облике всех систем, которые будут созданы этим поколением, что, в свою очередь, отразится на всех нас.
Мне это напоминает о древней загадке истории Китая: почему сильнейшим династиям – Хань, Мин, Тан – всегда противостояли самые смертоносные, самые блестяще организованные ополченцы? Ответ на эту загадку кроется в пути становления каждой из сторон. Чем больше династия оберегала своих крестьян, свою торговлю или свой годовой урожай риса, тем более хорошую стратегию нужно было вырабатывать восставшим, более сплоченно им нужно было держаться, тем более могущественными становиться. Если бы можно было легко устранять крестьян одного за другим, то бунтарям не нужно было бы трудиться над своей организацией. Они бы могли просто украсть годовой урожай в один из вечеров. Им можно было бы особо не напрягаться. А когда такое провернуть было трудно, им нужно было организовываться и совершенствоваться. Хакеры на своей встрече на опушке в Амстердаме в 1993 году были словно кучка беспечных крестьян.
Сама мысль о том, что важнейшие компьютерные системы могут быть подвержены полной потере контроля, вызывает дрожь по спине. Она напоминает о том, сколь великим на самом деле является могущество людей, которые знают, как разрушать и как манипулировать теми частями нашего мира, которые мы сами едва понимаем. Или теми людьми, которые знают, как создавать их и как управлять ими. Это равно тому, чтобы узнать, что кто-то может взять и завладеть вашими легкими или вашим сердцем. Мы даже не знаем пока, какие коммуникации являются хорошими, а какие плохими. Преимущественно все они выглядят одинаково. Это как в конце «Скотного двора» Оруэлла, когда свиньи стали прямоходящими и их стало нельзя отличить от людей. Мы не понимаем сети, большинство из нас их не понимает. И при этом мы всецело зависим от них. Какие-то хакеры встают на путь порока из-за очарования технологиями; какие-то – из-за страстного азарта взлома системы, достижения самого ее ядра; какие-то – из-за патриотизма или из-за неудержимых жестоких наклонностей. Самых искусных хакеров объединяет стремление достичь предельных глубин, тех мест, где принимаются уже неразличимые невооруженным глазом кодовые решения, где в каком-то смысле пишется цифровая ДНК, где становится возможным полное овладение системой. Азарт острых ощущений Кэпа Кранча, стремление овладеть беспомощной громадой системы – вот в чем состояла его мечта. Вспомните закон Конуэя: оформление сети, действия, производимые с ней, и контроль над сетью влияют на мир, определяют его. Если вся сеть испещрена дырами, если она по своей природе содержит в себе потенциал для превращения в неуправляемую машину, то что это значит для реального мира?
Все системы, на которые мы полагаемся, которые, как мы считаем, подчинены нам, – будь то финансовые, политические или цифровые сети – всех их можно сделать неуправляемыми, всех их можно взломать с помощью сил, которых мы не видим и которые мы отчаянно пытаемся остановить. Я говорю о том, чем вы пользуетесь каждый день. Социальные сети. Рынки ценных бумаг. Говорю вам, будьте предельно осторожны, когда подключаетесь к чему-то. Не только из-за хакеров. Даже в ходе предвыборных кампаний возможны манипуляции гражданами, используя тонкий таргетированный подход. Финансовые объединения могут переворачивать рынки благодаря доступу к огромным объемам информации. Сети больше нельзя считать безобидными. Эволюция «Hack-Tic» – поколения из состояния открытости к состоянию осторожности произойдет и со всеми нами. Братус был прав, когда говорил о том, что мы не понимаем полностью систему до тех пор, пока она не окажется испорчена. Что, мы будем ждать, пока наш мир взломают, будем ждать того момента, когда он окажется испорчен, и даже не попытаемся до тех пор понять систему, которую мы создали? Очень надеюсь, что нет. Эта книга написана для того, чтобы это не произошло.
Глава 7
Новая каста
В которой будет представлена могущественная группа людей, которую определяет ее владение сетью.
В 1965 году ученый-технолог по имени Джозеф Вайзенбаум неожиданно поймал себя на том, что он занят проблемой, связанной с его компьютером и его пользователями, которой он не вполне ожидал. Шел эксперимент, который начинался довольно безобидно. Он написал программу, выполнявшую то, что сейчас называется естественной обработкой языка – код, созданный для перевода того, что человек сообщает машине, на язык, который компьютер сможет понять и с которым он сможет работать. Когда кто-то спрашивает компьютер, какая сейчас погода, машина использует особый подход, чтобы обратить этот вопрос в серию запросов. Чтобы на такие вопросы можно было получить ответ, требуется значительный объем цифровой работы, направленной на то, чтобы компьютер понял, что вы имеете в виду и как на вас реагировать. В 1965 году дело обстояло именно так.
Программа Вайзенбаума, которая могла выполнять примитивные коммуникативные программы, была настоящим прорывом. После разработки таких алгоритмов, которые позволяли компьютерам по-настоящему общаться с человеком, он захотел продемонстрировать истинный масштаб возможностей, открываемых этим новым подходом. Итак, его безобидная на вид идея состояла в том, чтобы построить систему, которая в какой-то степени сможет выстраивать личный диалог. Программа должна была воспринять то, что пользователь напечатает, а затем, основываясь на том, что она поняла, задать вопрос. Вайзенбаум позаимствовал этот простой подход к диалогу у американского психотерапевта Карла Роджерса, который считал, что лучше всего взаимодействовать с пациентами получается не посредством хитроумных ребусов Фрейда, а через доступные и легкие вопросы. Вайзенбаум написал две программы. Одна из них называлась DOCTOR и была создана для того, чтобы понимать введенные данные и на их основании решать, что говорить. Вторая программа использовала эту информацию, чтобы говорить с пользователем. Он назвал ее ELIZA в честь героини из «Пигмалиона».
Вот пример диалога между ELIZA и одним пользователем, который Вайзенбаум записал в 1965 году:
Пациент: Все мужчины одинаковые.
ELIZA: В КАКОМ СМЫСЛЕ?
Пациент: Они постоянно достают нас то одним, то другим.
ELIZA: НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР?
Пациент: Ну, я здесь из-за своего парня.
ELIZA: ВЫ ЗДЕСЬ ИЗ-ЗА СВОЕГО ПАРНЯ?
Пациент: Он говорит, что большую часть времени я хмурая.
ELIZA: МНЕ ЖАЛЬ СЛЫШАТЬ, ЧТО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ВЫ ХМУРАЯ.
Пациент: Это правда. Я несчастна.
ELIZA: ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТО, ЧТО ВЫ ПРИШЛИ СЮДА, ПОМОЖЕТ ВАМ НЕ БЫТЬ НЕСЧАСТЛИВОЙ?
Пациент: Помощь мне нужна – в этом я уверена.
Программа Вайзенбаума скоро стала известной в Массачусетском технологическом институте. (Там даже подшучивали над тем, что эта программа лучше вытягивает диалог, чем большинство непутевых студентов Кембриджского кампуса.) ELIZA выполняла именно то, что задумал Вайзенбаум: она давала пользователям возможность испытать, каково это – пользоваться машиной со своим независимым разумом. Вскоре программа разошлась по остальным кампусам и по различным НИИ, и с каждым новым этапом ее успеха Вайзенбаум все больше переживал из-за обратной связи, которую он получал. Беспокоила его не ELIZA, а ее пользователи.
Один за другим пользователи, общавшиеся с ELIZA, погружались в транс беседы с компьютером. Они уверовали в то, что машина способна помочь им. Даже профессиональные психологи писали Вайзенбауму, что его чудо-машина в один прекрасный день лишит работы тех, кто ставит диагнозы и консультирует людей. Такой ход событий казался естественным этапом неотвратимого прогресса, к которому все давно привыкли. Более технологичные холодильники, более надежные ремни безопасности, более быстрые самолеты, больше пластика – почему среди этого перечисления не может быть компьютера, проводящего терапию? Это звучало по-своему чудесно. «Ряд практикующих психологов действительно верил, что программа DOCTOR могла вырасти в почти полностью автоматизированную форму психотерапии», – писал Вайзенбаум несколько лет спустя в своем шедевре «Сила компьютеров и Разум людей». Он был в ужасе. Вайзенбаум прекрасно понимал, что участие, выражаемое ELIZA, было искусственным. Это был обычный код. «Мне казалось, что один может помочь другому справиться с его эмоциональными проблемами только при условии, что будет иметь место явное участие в его переживаниях». «Наука в последнее время обратилась в медленно действующий яд», – заключил он.
«Не могли бы вы выйти?» – сказал однажды секретарь Вайзенбаума, захваченный некоей особенно личной беседой с ELIZA. «Именно эта реакция на ELIZA показала мне яснее, чем когда-либо прежде, какие преувеличенные надежды даже самая образованная публика способна возложить – даже желает возложить – на технологии, которых она не понимает», – писал он. Он был серьезно обеспокоен. Кто вообще понимал технологии? Точно уж не пользователь. И вот здесь, перед ним сидит его секретарь, не имеющий даже отдаленного представления о том, как устроена машина, очарованный интимной беседой с ней. Доверяющий ей. Грандиозная сила таких машин – и людей, которые обладают контролем над ними, – вызывала панику у Вайзенбаума. «Программист, – заключил он беспокойно, – это создатель вселенных, над которыми властен только он один».
Оглядываясь на несколько сотен лет европейской истории назад, оксфордский профессор Дэвид Пристленд понял, что энергетические переходы можно уловить, отследив объединения, ненависть и надежды трех характерных, взаимодействующих групп. Он их представлял как своего рода касты. Если индийский социум можно разбить на браминов, кшатрий, вайшьи и шудры, то и самую влиятельную европейскую элиту можно разделить на купцов, военных и мыслителей. Под купцами Пристленд имел в виду банкиров, торговцев и промышленников, чей капитал и политическое влияние вывело Европу из феодального состояния в продвинутое промышленное. Медичи, голландские торговцы кофе, шотландские шелковые бароны. Под мыслителями же он подразумевал духовенство и, позже, технократов различных империй: Джона Локка в Англии, Отто фон Бисмарка в Пруссии и Никколо Макиавелли в Италии. Солдатами он признал как выдающихся европейских аристократов-воинов, так и таких выдающихся фигур, как Наполеон и Веллингтон, владеющих искусством войны не как свихнувшиеся кровожадные варвары, но как непревзойденные артисты.
Пристленд писал, что интересы этих трех каст в определенные моменты могли функционировать как мощные шестеренки исторического механизма. Объедините высокообразованных государственных деятелей Франции и ее великолепных солдат – и вы получите период расцвета империи. Слейте воедино торговцев-банкиров Великобритании и ее опытных мореплавателей – и вы получите мировой викторианский успех. Конечно же, такие купцы, военные и мыслители существуют и сегодня. Сегодня они размещены в суверенных валютных фондах, они принимают участие в важнейших заседаниях, они преподают в духовных семинариях и проводят исследования в лабораториях. Американское могущество, если угодно, можно представить как слияние финансовых и коммерческих каст этой страны с сильной и опытной военной кастой. Сейчас на арену выходит Новая Каста, которая контролирует сети, от которых мы все зависим. И поскольку все, что они делают, для нас представляется чем-то эфемерным и невидимым, они представляют собой именно то, чего боялся Вайзенбаум, – они творцы вселенной, в которой они сами являются единоличными хозяевами.
Члены этой Новой Касты определяются близостью к коммуникативным сетям, определяющим наш мир. Эта фракция нашего общества обладает высоким влиянием, которое к тому же постоянно растет. Они управляют машинами и владеют базами данных. Их компьютеры управляют целыми рынками, они же и формируют цены и регулируют денежный оборот. В любой соединенной системе сейчас есть люди, обладающие бльшим знанием и большей силой, чем другие. Они сильны не только потому, что они соединены, но также потому, что они сами создают и направляют такие системы.
Задумайтесь о таком примере из мира технологий: допустим, миллион человек могут качественно написать объектноориентированный код. Сто тысяч человек могут сделать из этого кода некую инновационную информационную структуру. Несколько тысяч человек могут использовать его для создания большого информационного центра. И наконец, когда вы сузите область своих интересов до пары десятков человек, которые знают, как по-настоящему работает Google, Intel или Bitcoin, до группы, члены которой могут заставлять машины самостоятельно мыслить, которые способны использовать эти тайные ходы взломов атомного уровня, – вот тогда вы дойдете до высочайшей элиты. Если коммуникации меняют природу предмета, то они также могут вознести тех, кто контролирует соединение, до недосягаемых высот могущества и влияния. Посредством контроля над сетями, протоколами и информацией эта группа влияет на нашу жизнь значительнее, чем любая из когда-либо существовавших элит. При таких условиях трудно удивиться тому, что большинство из них – миллиардеры.
Эта каста настолько могущественна, что, как мне кажется, можно спокойно сделать следующий вывод: страны (ну или вообще любая группа – даже террористы и банкиры), из которых могут выйти лучшие члены Новой Касты, будут обладать поистине невероятной силой. Это, впрочем, не значит, что нужно тренировать миллионы программистов или создать условия для того, чтобы у всех выпускников были исключительные познания в математике. Это индустриальный подход к проблеме. Нет, Новая Каста должна быть немногочисленной. Мы уже убедились в том, как малые силы могут оставлять большой след в коммуникативном мире. Немногочисленная элита также его оставит. Взять хотя бы ту же легендарную лабораторию Xerox PARC в Пало-Альто, которая породила, к примеру, не только одних из самых ярких первых членов Новой Касты – Алана Кэя и Джона Сили Брауна, – но также подарила миру важнейшие изобретения, часть из которых принесла триллионы долларов дохода. Компьютерная мышь. Лазерные принтеры. Графический пользовательский интерфейс. PARC, вероятно, был самой экономически состоятельной малой группой в истории – целым Ренессансом, уместившимся в паре десятков офисов. В мире технологий так много может зависеть от всего лишь нескольких инноваций, что умелое владение этими конкретными узлами – это равносильно умелому владению центрами, о которых говорил Даллиен.
Наше будущее будет в значительной степени зависеть от действий этой группы, о какой бы сфере ни шла речь – мире IT, политики, медицины или вообще чего угодно, где может быть использована информационная сеть. Как нам оценить их смелость в инновациях, противоречащих здравому смыслу и идущих вразрез с представлениями о силе? Подумайте о компьютерщике, работающем в вашем офисе, который восстанавливает систему, когда она ломается. Он знает, что именно произошло? Откуда он это знает? Всякий раз, когда вы видите сетевую систему – будь то передовая база данных или торговая сеть, – в ней всегда есть такие люди, такая элитная группа, которая чувствует систему изнутри настолько тонко, насколько многие из нас никогда не смогут ее почувствовать. И каковы же их намерения? Знание ответа на этот вопрос – это тоже часть Седьмого чувства.
Эту Новую Касту можно сопоставить с более ранним поколением людей, определяющих целые империи, – исследователей океанов: испанского Христофора Колумба или португальского Васко да Гама, живших в XV веке. Эти капитаны-исследователи, поддерживаемые ранней формой венчурных капиталов – своеобразных «бюджетов риска» торговых домов, испытывали жажду проверить то, в чем, как они знали, они могли быть мастерами, – навигации, мореплавании и судостроении, – в условиях неопределенности географии, погоды и удачи. В тех приключениях было столько же нервной напряженности, сколько и приобретения знания. Что ожидает вас в пятидневном плавании после выхода из Кадиса? Если вы готовы к трудностям, готовы поверить в то, что может ожидать вас там, и в то, что вы с этим справитесь, то вас ждет вероятная удача.
«Ранние межконтинентальные путешественники достаточно часто платили за свой доступ к дальним берегам суровыми лишениями», – писал немецкий философ Петер Слотердайк об этом раннем поколении, группе, которая однажды была не менее важна для прогресса человечества, чем ученые или магнаты. Месяцы, проведенные в море, риски стихийных ненастий, голода, бесконечной скуки – эти капитаны знали о тяготах, но они также знали о вознаграждении: славе, богатстве, знаниях. Слотердайк цитирует Гете, который, размышляя в 1787 году о необыкновенной жизни мореплавателей, говорил, что «никто из тех, кто ни разу в жизни не оказывался посреди моря, где со всех сторон тебя окружает вода и ничто больше, не имеет настоящего представления о мире и о нашем отношении к нему».
Когда говоришь с одними из самых видных представителей Новой Касты, то сразу понимаешь, что они обладают мышлением нового типа: они знают, каково это – быть окруженным информационными сетями. У них есть особое восприятие, то же, что было у тех мореплавателей, только у них оно закалено не годами, проведенными в море, а годами, проведенными в Интернете. Главари ИГИЛ, понимающие, что видео с двенадцатью жертвами в оранжевом более влиятельно, чем Шестой флот ВМС США, знают, что коммуникации могут сделать их более сильными, чем вся военная каста, стремящаяся их уничтожить. Политики, знающие, что «новости» для большинства людей являются питающей сетью мелькающей заголовками информации, в которой ходят лишь сплетни радикального толка, понимают, что нужно делать, чтобы продолжать снабжать информационные сети идеями, шумом и изображениями, разлетающимися с вирусной скоростью. Кампании старой выучки – это точно то же, что и устаревшие армии в нынешних условиях. Не то оружие. Вне сети.
Представители Новой Касты существуют в мире финансов, в биотехнологиях и в любой области знаний, где коммуникации что-то значат. Во многих из этих сфер вы обнаружите следующую черту: они самообучаемы. Неудивительно, что так много самых выдающихся представителей Новой Касты бросили школу или выплыли из совершенно неожиданных мест. Они идут по новой дороге; образование старого типа было бы только лишним балластом в таком походе. Все это, впрочем, вовсе не значит, что они не эксперты в своем деле. Компьютерный ученый Эндрю Ын, один из первых людей, работавших с искусственным интеллектом, так выразил их позицию: «Умение принимать хорошие решения – это стратегический навык при построении искусственных интеллектуальных систем. Каждый день вы просыпаетесь и оказываетесь в совершенно уникальной ситуации, в которой прежде никто никогда не оказывался. Это не факт, никакой процедуры тут нет». Колумбу приходила точно такая же мысль. Как и Бисмарку. Или Козимо Медичи. Эта новизна приносит членам Ново Касты один из самых мощных возможных жизненных опытов: прикоснуться к чему-то, что никогда раньше не существовало. Миры, объединяющие миллиарды пользователей. Мыслящие машины. Новые торговые сети. Но для большинства из нас, тех, кто почти невольно попал в эту среду, – для нас здесь кроется леденящее душу чувство, которое Вайзенбаум испытывал 50 лет назад. Мы так же, как и он, знаем, что во всем замешан человек, он точно должен где-то там быть. Но что это за человек?
Тут-то и кроется парадокс. Мы сейчас окружены тем, что французский философ Бруно Латур назвал «черными ящиками», но мы ничего не знаем о том, как или зачем они работают. Мы также ничего не знаем о ценностях и идеалах тех, кто ими управляет. Латур описывал все непрозрачные технологии и сети, к которым мы несознательно обращаемся каждый день. На самом деле все обстоит так: чем лучше эти системы работают, тем меньше мы их замечаем. «Научную и техническую работу делает невидимым ее успех», – говорит Латур. Например, протоколы операционных систем и сетей вашего планшетного компьютера видны вам сейчас так, как они никогда не могли бы быть видимыми двадцать лет назад, когда рядовой компьютерный пользователь сталкивался с мигающим курсором и C: \>запросом. И это касается многих областей нашей жизни. «Каждая часть черного ящика – это отдельный сложно устроенный черный ящик», – писал Латур. Это касается вашего портфолио, вашего компьютера и вашего сердца, отслеживаемого биосенсорами. Вы, может быть, и считаете, что вы знаете, почему что-то, на что вы полагаетесь, меняется тем или иным образом, но так ли это на самом деле? Осмотритесь: как много дисплеев вы видите? Каждый из них – знак того, что Новая Каста работает.
Эта обволакивающая неопределенность новой силы, выглядящая словно густеющий туман, заполняющий пространство между нами и миром, который мы населяем, представляет проблему. Потому что Новая Каста не только занята распространением знания и облегчением доступа к нему – она также заключает весь наш мир в черные ящики. Создается неизбежное напряжение в духе этого знаменитого наставления времен Просвещения: «Дерзай знать!» Хотите ли вы дерзать знать, почему ваш компьютер защищен от цифровых атак? Дерзать знать, как ваша генетическая информация будет изучаться? Как работает шифрование? В большинстве случаев ответ такой: «Этого знать нельзя». Это слишком сложно – да и в любом случае, если бы вы знали, то это поставило бы под угрозу всю систему. Если говорить откровенно, то вы, скорее всего, просто не поняли бы. Это действительно слишком сложно. Вы бы запутались на первом же повороте, за которым начинается странный технический язык, в котором такие простые слова, как «объект» и «край», приобретают новое, особое значение. И раскрытие этого лишь подвергло бы вас и всех остальных всевозможным рискам. Такое впечатление, что мы вернулись к известному философскому дебату двухтысячелетней давности, тому, что метался между Афинами и Иерусалимом: Может ли мир быть познан, детализирован и понят, как это было сделано греками? Или, как говорили раввины, таинственность, непостижимость и неопределенность являются природой истины? В конце концов, мы дети Просвещения, и мы хотим знать, что происходит внутри машин. Мы хотим, чтобы они, по крайней мере, были доступны для нашего понимания.
Это волнение – одна из причин, по которой такие места, как Кремниевая долина, часто вызывают тревожное чувство у посетителей. Прокатитесь по умиротворяющей полосе асфальта перед Сэнд-Хилл-роуд в городе Менло-Парк, родине крупнейших фондов венчурного капитала нашего времени. В этих офисах вынашиваются, обсуждаются и устраиваются революции. В результате можно было бы ожидать увидеть нечто величественное – Ватикан для тех первосвященников технологии. Но все, что вы увидите на своем двумильном пути, подобно лишь благополучию практикующих дантистов. Черные ящики. Возможно, вы слышали о известной производственной трилемме, гласящей, что можно произвести что-то, что обладает двумя из трех характеристик: качество, скорость и дешевизна. Если что-то сделано качественно и выпущено быстро, то следует ожидать, что оно не будет дешевым. Быстрое и дешевое? Хорошо, но качества тогда не ждите.
Похожие комбинации складываются и сейчас, в нашу цифровую эпоху. Системы могут быть быстрыми, открытыми или безопасными, но они могут обладать только двумя из этих трех свойств одновременно. Хорошо защищенная компьютерная сеть может быть открытой, но тогда она будет очень медленной, она будет проверять каждый пакет данных и каждый запрос, точно как охранник в банке в неблагополучном районе. Подумайте об аэропорте. Хотите, чтобы процедуры в нем проходили быстро? И еще чтобы он был безопасным? Ну, тогда он не будет очень открытым. То, что мы хотим в основном сегодня, – это быстрые, безопасные решения для наших рынков, наших стран, наших данных. Значит, все это предстанет, я полагаю, менее открытым, чем когда-либо. Именно это наблюдается в торговых переговорах, самые последние из которых проводились по большей части секретно, чтобы они определенно оказались успешными; и то же самое будет происходить в сфере финансов, где успех выпадает не на долю тех, чья информация общедоступна, но на долю тех, кто более-менее скрытен. Члены Новой Касты обладают не только и не столько возможностью безусловного управления видимыми системами коммуникаций, окружающими нас. Нет, они управляют гораздо более значительными источниками силы. Странный результат. Прежде история формировалась публично. Невозможно было не заметить большую войну. Революции становились главной темой обсуждений. Новейшие научные прорывы вызывали широкий общественный резонанс. Если что-нибудь в мире менялось значительным образом, это замечали и понимали. Похоронная речь Перикла на центральной площади Афин наблюдалась и записывалась; восстания в джефферсонском Париже были очевидным предвестием перемен. Однако теперешние манипуляции в сердцевине сетевых систем, в черных ящиках, создающие долгосрочные в историческом масштабе последствия, малозаметны Перераспределение власти произойдут раньше, чем мы их заметим. И даже, если мы знаем об этом, мы не знаем, каковы ее возможности. Решения о форме компьютерного кода, о поисковых алгоритмах, о структуре цифровой валюты, о правилах изменения ДНК – все это будет осуществлено представителями Новой Касты, работающими в значительной степени за пределами машин, корпораций и правительств, которые мы сейчас знаем и которые мы регулируем. Несколько лет назад я осознал: самые важные вещи, которые произойдут в нашей жизни, останутся в секрете.
Я не уверен, что я полностью оправился от этого шока.
Образование и формирование масс людей, обладающих подобным гением, определят разницу между теми странами, которые преуспеют, и теми странами, которые безнадежно отстанут. Такое образование порождает тревогу. Пусть эти группы упоительно делают свое дело, но где гарантия, что они не выйдут из берегов? Контроль над протоколами, отвечающими на вопросы, перемещающими денежные массы, защищающими информацию, анализирующими вашу ДНК, – трудно определить ту точку приложения энергии, которая будет превосходить в своей величине потенциал платформ, что сейчас окружают нас. Несмотря на то, что вся работа Новой Касты выглядит не более чем тактической, большая часть того, что она делает, определяется стратегической интуицией. Даже за самым малым новшеством – будь то сканер отпечатков пальцев на вашем телефоне или какое-нибудь новое предложение для машинного перевода, – следует истинная и безусловная вера в продолжение сетевой революции и в идею, что та эффективность, которая заложена в лучшие программы мира, будет определять мир. Опасность, кроющаяся в этом, вполне понятна. «Уважение, понимание и любовь – это не технические проблемы, и технике они не интересны», – писал Вайзенбаум, размышляя об эффектах ELIZA.
Самые большие из платформ, контролируемых Новой Кастой, сводят вместе миллиарды людей, связывая их постоянно укрепляющимися узами. Каждое выдающееся движение в виртуальном мире и каждый значительный шаг в реальном мире записываются, запоминаются и фиксируются. Управление стратегическими рычагами такой силы не менее значительно, чем управление страной. Разница между главой крупной сетевой компании и главой страны заключается не столько в глубине и эффективности их влияния, сколько в вопросах того, как они обрели такую власть и как они могут ее использовать. Новая Каста имеет замечательную, близкую к вере убежденность в том, что их продукты поистине универсальны. Они абсолютные технологические детерминисты. Когда смотришь на то, как их сервисы и влияние расширяются, часто испытываешь странное ощущение того, как какая-то неумолимая сила приводит в движение недвижимый предмет. Они верят, что их черные ящики сомнут интересы политики и истории. Скоро.
Исторические амбиции такого масштаба, такие, которые реально влияют на бесчисленные жизни, всегда состояли из смешения коммерческого и технического мастерства и веры в прогресс: решения Ост-Индской компании в той же мере зависели от лучших судов, карт и точнейшей навигации, сколько и от уверенности правительства. Цель Новой касты та же, что и у трех старых каст (купцов, военных и мыслителей): направить орудия, которые они создали и освоили, на усиление своего могущества. Коммерческие вычисления самых сильных представителей Новой Касты наводят на мысль о том, что эти люди способны предугадать действия соперника на много ходов вперед – словно они играют в шахматы. Их приобретения стоимостью, равняющейся миллиардам долларов, их вложения в умопомрачительные идеи НИОКР, баснословно дорогие заказы у инженеров – все это так и кричит о том, насколько грандиозные у них замыслы. Им импонирует иметь миллиард пользователей? Определенно, но не из-за миллиарда пользователей, но скорее – из-за привлекательности черных ящиков, привлекательности контроля над таким важным центром соединения.
Помнится, у меня была встреча с членом Новой Касты в ту неделю, когда вышла первая серия копий файлов Сноудена. Тогда мы оба увидели, что все, кого мы знали, были погружены в эти документы. Зачитывались ими, как романами. Люди писали друг другу сообщения: «Ты это видел?!», и ни одного обеда не проходило без дебатов о технических возможностях того, что открылось. Для Новой Касты файлы Сноудена были потрясающими в том смысле, что мало кто был способен это понять, как броски Теда Уильямса, являющиеся столь потрясающими для профессиональных бейсболистов. Объясню это так: когда я был молодым, люди называли наше поколение – тех, кто родился примерно в промежутке между 1965 и 1980 годами, – поколением бездельников. Поколением Х. Пустым поколением. Были споры о Беби-Бумерах – поколении демографического взрыва. Являлись ли мы самым разрушительным, самым самодовольным поколением в американской истории? Было ли это реакцией на безразличие к нам родителей? Уйдет ли это поколение, не оставив нам ничего, кроме необходимости оплачивать их медицинскую страховку, мириться с их вечно недоплаченными пенсиями и манипулятивной политической системой, которая появилась из-за них? Или все же они составляют толерантное поколение, сформировавшее американский дух, каким мы его знаем? Да и что вообще такое это Поколение Х? Не что иное, как сборище тоскливых и бездеятельных тунеядцев.
Тем не менее великие интернет-компании были основаны в основном Поколением Х. Главное событие 1989 года – падение Берлинской стены – пробудило оптимизм. В целом оно создало возможность новых открытий. Идея Джона Постела о том, что нужно быть либеральным в том, что принимаешь, казалась вполне уместной. Это, в свою очередь, открыло новые каналы в торговле, в сфере финансов и в дружественных отношениях. Wi-Fi, TCP/IP и другие новшества сделали возможным связывание мира, но что кроме этого? Два десятилетия между падением стены и финансовым кризисом 2008 года не для многих прошли гладко. Был луч надежды, смешанный с динамикой резко открывшегося мира. Жизнь была бесконечным потоком прибыли и восхищения от того, как легко стало установить коммуникации.
Итак, статьи Сноудена оказались шоком. Как будто Агентство национальной безопасности обратило большую часть видимого цифрового мира в некую форму сетевого тюремного паноптикума, в котором ваше членство начиналось в тот момент, когда ваши пакеты данных подвергались просмотру или преследованию в оптико-волоконной сети. Никто из тех, кто сколько-нибудь долго общался с сетями, не остался наивным. Широкие возможности того, что уже было построено в сетях, были достаточно очевидны, равно как и то, что впереди ждало еще большее. Но статьи Сноудена показали другую сторону Новой Касты, группы, глубоко понимающей глобальные сети, но преследовавшей иные цели. То обстоятельство, что члены Новой Касты могли слушать «Karma Police» и в то же самое время претворять в жизнь сюжеты слежки за людьми из «OK Computer», было пугающим напоминанием: нет никакой основополагающей гарантии, что сеть будет позитивной. Или что она создаст добродетельные функции. Набор механизмов в Агентстве национальной безопасности и в других подобных ему службах был странным шедевром надзора, хранения личных данных и их анализа. Их безопасное и секретное функционирование зависело от всех людей, включенных в этот водоворот. И что именно означало то, что эти люди делали, будучи облеченными такой властью и ответственностью? Почти как у того очарованного секретаря, общавшегося с ELIZA, у Новой Касты притупилось чувство реальности и гуманизма.
Оглядываясь на свои трудовые годы, задолго до того, как Европа погрязла в Первой мировой войне, Джон Мейнард Кейнс горько вспоминал железную стабильность существования своего поколения. «Мы тогда не знали, что цивилизация – это всего лишь тонкая и хрупкая оболочка, натянутая по велению меньшинства и поддерживаемая только правилами и обычаями, умело сфабрикованными и рачительно хранимыми. У нас не было ни толики уважения ни к традиционной мудрости, ни к ограничениям традиций», – писал он. Война, депрессия, затем другая война – все эти события преподали, в конце концов, тому поколению тяжелый урок, из которого они вынесли понимание того, что на самом деле значит воля меньшинства.
Главным в Седьмом чувстве будет не то, как нас смогут одурачить технологии, а то, как они уничтожат наши старые системы. Если мы слишком обольстимся ими, мы можем просто выпустить их из-под своего контроля. Обладание Седьмым чувством – это не просто позволение технологиям творить, что им вздумается. Это не пассивность перед лицом такой громадной силы. Скорее оно, Седьмое чувство, потребует обуздать природу эпохи коммуникаций и видеть, как можно сохранить то, что для нас важнее всего. Да, нам нужно создать новую касту, которая сможет обеспечить дальнейший технологический прогресс. Но – что более важно – нам нужно быть уверенными, что этот прогресс будет отвечать нашим главным целям. Вот-вот мы увидим, как на практике можно объединить наши лучшие технологии и наши самые дерзкие надежды. Но перед тем как мы сделаем это, нам нужно ответить на последний вопрос о сетях, окружающих нас, на тот вопрос, который поставит нас на одну ступень с Новой Кастой: зачем же все-таки нужны глобальные сети?
Глава 8
«Сокращение карты»:
Сжатие пространства и времени
В которой мы узнаем, чем являются сети в действительности и, что более чудесно, для чего они предназначены.
Начиная с первой половины 1990-х, американский ученый и изобретатель Дэнни Хиллис ввел ставший ежемесячной традицией ритуал. Он упаковывал вещи своего дома в Энсино, что в нескольких минутах езды по Голливудским Холмам из Лос-Анджелеса, и отправлялся на несколько дней в пустынный уголок Юго-Запада, границы которого были определены камнями и динамитом. Хиллис, который родился в 1956 году, провел большую часть своей жизни, работая над познанием электронного строения мира и занимаясь построением одной из наиболее важных компьютерных процессорных систем нашего времени. Поэтому землекопные работы палеолита, с которыми он направился справляться, представляли собой отклонение от обычного масштаба его занятий. Его цель состояла в том, чтобы вести подрывные работы, а затем очистить пространство на изолированном горном склоне для постройки башенных часов, которые он разработал и ход которых не должен прекращаться в течение десяти тысяч лет. Этот период десяти тысячелетий был выбран не случайно. Цивилизация, когда Хиллис начал свою работу над часами, уже существовала достаточно долго. Мы были, как он представлял себе это, в средней точке на этом отрезке длиной в двадцать тысяч лет. Хиллис и группа мастеров, мыслителей и инженеров, которые поддерживали его в работе над часами – люди, такие как Джефф Безос из Амазона, Митч Капор, изобретатель электронной таблицы, и инвестор Эстер Дайсон – планировали проект, который будет так близок к вечности, насколько по их ощущениям это было разумно. Часы «Долгого Настоящего», как они их назвали. Я помню, как я завернул на подъездную дорожку Дэнни в Энсино в один прекрасный день, когда он только готовился отправиться за город, и то, как был поражен контрастом между прекрасной, безобидной пригородной вялостью Южной Калифорнии и инструментами, которые он брал с собой, чтобы атаковать не только гору, но и в целом концепцию времени.
Я познакомился с Хиллисом необычным способом. Меня попросили возглавить комитет, который бы присудил миллион долларов человеку, который внес существенный вклад в мир технологий. Директора призового фонда тех времен на старте стремились схитрить, предлагая громкие имена – Билл Гейтс! Стив Джобс! Они надеялись, что подобный лауреат привнес бы немного гламура на первый год присуждения премии за вклад в Современные Условия Человека. Но когда наш комитет решил обсудить это, мы знали, что выдающиеся имена не хотят или не нуждаются в призе. Они определенно не нуждались в миллионе долларов. По мере того, как мы рассматривали людей, которых мы все знали, которые сделали фундаментальный, существенный вклад, но не были особо отмечены, как они того заслуживали, имя Дэнни Хиллиса всплыло сразу.
Хиллис разработал революционный «массивно параллельный» компьютер в 1980-е годы. Машина помогла создать целую науку скоростных вычислений, связывая вместе десятки тысяч процессоров для решения проблемы единовременно. Традиционные компьютеры решали проблемы так, как могли бы вы или я, шаг за шагом. Конструкция Хиллиса была эквивалентом миллионов умов, работающих одновременно. Она была скоординирована, соединена и пугающе быстра. Спустя годы, он сыграл ключевую роль в дюжине других прорывов, от проектирования искусственных интеллектов до тонкой настройки системы, классифицирующей военные самолеты, которые зависели от математики в своей стабилизации. Когда вы блуждаете в глубине технических систем баз данных Google, вы касаетесь его работы. Когда вы говорите по своему телефону, интерфейс работает с некоторыми из его патентов. Как идея Бэрана 1960-х годов из живучей, основанной на пакетировании системы в ARPANET, стала Интернетом? Дэнни был частью кластера инженеров с грязными ногтями – вычислительных пионеров, таких как Винт Серф и Джон Постел, – которые делали работу, чтобы сделать это возможным. Его центральное место в этом проекте был увековечено в знаменитой речи, однажды им произнесенной, в которой он продемонстрировал один из самых первых доменных имен в истории Интернета, а затем вдруг взмахнул целой стопкой переплетенных страниц, где был представлен полный список интернет-адресов того времени. Это заняло около пятидесяти страниц. Если бы существовали членские билеты в общество Новой Касты, Дэнни бы имел его с маленьким порядковым номером. Это было непростое решение для нашего призового комитета. Ни Билл Гейтс. Ни Стив Джобс. Так я познакомился с Дэнни Хиллисом: я позвонил, чтобы сказать ему, что он выиграл миллион долларов (я рекомендую это как способ начать дружбу).
Хиллис уже с детства стал ремесленником и никогда, казалось, не терял удовольствие от дикого переплетения в этом ремесле радости и практики. Вы не сможете сказать, глядя на него, где заканчивается страсть и начинается работа. Он был настолько технически искусен, что мог привнести даже в самые безжизненные цифровые проекты определенное количество горячих эмоций, подобно Бернини, вдыхающему жизнь в холодную глыбу мрамора, лишь молвив «как должно» изяществу своего резца. Одним из самых известных проектов Хиллиса был, например, робот Tinkertoy в пятнадцать футов высотой, играющий в крестики-нолики, которого он построил во второй год студенчества в MIT. Изготовленный из десяти тысяч деревянных шпинделей и стержней, он был одной из его первых попыток показать, как машины, даже самые простые из них, могли бы соблазнить нас как способностью думать, так и внешностью. Эффект гигантской груды Tinkertoy, размещенной там же в Массачусетском технологическом институте, заставил бы вас хихикать, даже если ваш разум был поражен тем фактом, что эта куча палок, струн и циферблатов одолевала вас снова и снова в детской игре. Хиллис является художником в той же степени, насколько и изобретателем – это единственная причина, по которой он не стал Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом. (И причина, по которой Гейтс и Джобс испытывают постоянное восхитительное уважение к нему.) Он провел несколько лет в Диснее, проектируя аттракционы и реализуя новые фантазии в качестве своеобразного мэра «Земли будущего», ниспосланного из реального мира. Он любил шутить, что понял, что оказался в нужном месте, когда в первый же день на вопрос, где бы он мог найти снаряжение с парашютом для своего эксперимента, он вдруг услышал в ответ: «Какой размер?»
Хиллис является заядлым читателем и имеет привычку думать о своей изнуряющей работе в контексте продолжительных исторических событий. Разговоры с ним часто были связаны с биологией эпохи палеоцена или какими-либо другими «глубокими корнями». Это был взгляд в будущее, крепко связанный узами с его непревзойденным прикладным восприятием сложных систем, сделавшим его идеальным дизайнером часов, конструкции последних тысячелетий.
Проблемы, связанные с такого рода начинаниями, являются, откровенно говоря, настолько же несбыточными, насколько вы могли бы ожидать. Каким образом часы могли быть обеспечены энергией? (Заводить вручную, чтобы убедиться, что они не забыты.) Как они должны быть защищены? (Поставить их где-то в середине.) Должны ли вы спланировать ситуацию глобального изменения климата? (Да. Конструкция предусматривала учет изменения во вращении Земли, вызывающего таяние льда полюсов.) Напишете ли вы руководство пользователя для людей на десять тысяч лет вперед? (Да.) Вы напишете его на английском языке? (Должно быть определено!) Работая с композитором Брайаном Ино над звуком часового перезвона и с командой геологов и физиков, Хиллис сделал часы как естественное продолжение его машины Tinkertoy для игры в крестики-нолики – устройство, обслужившее цели и посылавшее сообщение. И если эти часы вызавают эмоции подобно тому, как Аполлон и Дафна скульптора Бернини могут внушать вам беспокойство или радость, то это должно быть благоговение.
Стюарт Брэнд, один из тех, кто поддержал часы, а также один из первых членов Новой Касты, сказал бы вам, что идея создания часов родилась из желания подчеркнуть, облечь в физическую форму, ценность пророческого мышления, сделав его незабываемым, обратив к вечности. Все современники, Брэнд и другие часовых дел мастера, были взволнованы в этот исторический момент, но никто из нас не имел того взгляда, который простирался бы за пределы нашей жизни, или даже за пределы следующих выборов, следующего сезона моды, или очередного финансового квартала. Наше «как-нибудь в следующий раз», будь то в экономике или политике, разъедает в нас все слабые или настойчивые инстинкты. «Цивилизация увеличивает свои обороты в патетически короткий промежуток времени, отведенный нашему вниманию… – так начинался манифест о часах. – То, что мы предлагаем, является одновременно и механизмом, и мифом».
Посредством своих десяти тысяч лет тиканья «Часы Продолжительного Настоящего» имели предназначение побудить нас думать в более продолжительной перспективе. Рассмотрим, к примеру, механизм завода, привязанный к человеку. Почему бы не использовать батарею или солнечную энергию? Но Хиллису нравилась идея поколений заводчиков часов, обменивающихся в работе, групп, которые будут соединены в длинную цепочку десятков тысяч лет. Сакральное священство времени. По мере того, как я раздумывал о часах, я обнаружил и в себе потребность в уединенности и цельности, которые они обещали. Кто из нас в наши дни не хочет отдохнуть от сиюминутной действительности нашего времени?