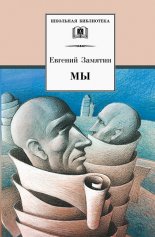Седьмое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху Купер Рамо Джошуа

Так или иначе, чем больше я понимал часы, тем больше я осознавал, что что-то еще находится в работе. Остановитесь на мгновение, чтобы задуматься, кто поддерживал и строил устройства. Это была группа людей, у которых связующим общим фактором было полное погружение во внутренности Интернета. Хиллис, в конце концов, когда он говорил о зарождении Интернета, взмахивал нечто большим, нежели тонкой книгой адресов электронной почты. Он размахивал верительными грамотами человека, который живет в виртуальном киберпространстве веб-соединений с его первых дней. Как вы догадываетесь, он был невероятно близок к жителю оптико-волоконного мира коммуникаций, обладающих скоростью света.
Все деяния известных имен, поддерживавших часы, были объединены духом электронного свечения: Джефф Безос, встроивший Amazon в высокоскоростной маркетплэйс, стержнем которого является сама глобальная сеть. Другой сторонник часов, Митч Капор, расколол на части многовековые традиции медлительных бухгалтерских привычек, когда в 1983 году он создал Lotus 1–2–3, первую успешную компьютерную программу бухгалтерского учета и отчетности. Это помогло руководителям увидеть и изменить весь свой бизнес одним нажатием клавиши – чем они немедленно и занялись. Программное обеспечение Капора играло заметную роль в перетоке финансовых ресурсов в направлении высокоскоростного бизнеса – в той или иной степени оппозиционного его «рутинному предшественнику», который команда часов была намерена законсервировать. Эстер Дайсон, другой спонсор, был одним из самых ранних и лучших инвесторов сетевых компаний. Это было собрание мужчин и женщин, объединенных гением коммуникационных изменений, но, безусловно, и жаждой увеличения скоростей течения времени, ускорения доставки, процессинга. Они жили в этом. Сделали это возможным. Получили от этого выгоду. Если бы существовала когда-либо группа, которую вы могли бы надеяться рассмотреть отдельно, поместив в тихой комнате, и спросить осторожно: для чего на самом деле существуют сети? Это были бы именно они.
Этот вопрос, я думаю, является именно тем, который мы должны учитывать и на который мы должны ответить, прежде чем мы сможем двигаться дальше. Оказывается, что сети тесно связаны с фундаментальными проблемами времени. Как это использовать. Как измерить это. Даже устранить это. В целях понимания самой этой идеи, в целях следования тем людям, которые, как Хиллис, знают лучше всего то, что мы можем лишь видеть, – почему сети настолько потенциально сильны. Мы вскоре придем к пониманию того, почему они будут вызывать, независимо от того, нравится нам это или нет, полное изменение в аппарате власти, политике, экономике и военном деле.
Сдерживая течение времени, маркируя его, мы встраивались в природу того или иного периода. Наша жизнь, в конце концов, продиктована графиками: школьным расписанием, временами года, часами пик, горящей свечой рождения, любви, брака, смерти. Время в период, предшествующий индустриализации, измерялось графиком природы. Как много времени требовалось урожаю, чтобы созреть. Солнцестояния. Улей, наполняющийся медом. Всеми поколениями оно делилось на периоды приливов и изменений сезонов, и предполагало неспешность, личное присутствие на берегу, в океане, в поле. «Летний полдень», – как заметил в своих воспоминаниях романист Генри Джеймс незадолго перед своей кончиной в 1895 году, – эти два слова в английском языке были для меня всегда самыми красивыми.
Затем, во времена Промышленной Революции, время стало эквивалентно деньгам. Электрические лампы, например, стерли успокоительное различие между ночью и днем – и сделали возможными жизнь, производство и экономику двадцать четыре часа в сутки. А затем, конечно, сделали неизбежным переезд из сельской местности в город, что создало действительно новый смысл того, что немецкий критик Георг Зиммель назвал в 1903 году темпом. «С каждым пересечением улицы, с темпом и множественностью экономической, профессиональной и социальной жизни, город создает глубокий контраст с небольшим городом и сельской жизнью, – пояснил он. – Технику столичной жизни невозможно представить без самой пунктуальной интеграции всех видов деятельности и взаимоотношений в стабильный и безличный график». Перфокарты. Расписание автобусов. Сорокачасовая рабочая неделя. Наше образование, наша промышленность, наши рынки, и вся наша жизнь – все начало работать по расписанию. Это было неизбежно, иначе индустриализация не состоялась бы. Летнее послеобеденное время стало временем для работы. Зиммеля беспокоило, например, распространение карманных часов. Иметь их при себе, следя за временем, было тем же, как постоянно смотреть, как тают ваши деньги на банковском счете.
Чувство, что роль людей была сведена к винтикам – унифицированным, находящимся каждый на своем месте, движущимся по расписанию, а не сами по себе, – нервировало жителей этого первого механического века. Города стали самыми первыми «упакованными сетями», индустриальные города усугубили это состояние еще больше. Это им либо удавалось, либо не удавалось в той степени, в которой они и их граждане соответствовали скоростям машин. Когда австрийский романист Роберт Музиль начал писать «Человека без качеств», классическую историю его эпохи, начавшуюся с происшествия гибели венского гражданина под грузовиком доставки, превысившим скорость, он хотел обратить внимание не только на то, как скорость города и сама городская жизнь (и городская смерть) стали неотделимы друг от друга, но и подчеркнуть несоответствие между слабыми тормозами эпохи и ее ускорением. Книга Музиля – как симфонии Малера, написанные в то же время, – оживает с этим полусонным, предшествующим моменту аварии ощущением, которое вам, возможно, знакомо: вы нажимаете на тормоза, автомобиль не останавливается.
«Города, как и люди, могут быть узнаны по походке, – писал Музиль, с чем согласился бы любой современный житель Нью-Йорка или Парижа. – Человек, возвращаясь после многих лет отсутствия, мог бы узнать с закрытыми глазами, что он вернулся именно в Вену, в эту древнюю столицу и имперский город».
Узнать город по его темпу. Музиль соприкасался с принципиально важным: скорость события влияет на то, как мы его воспринимаем. Разница между тем, что вы замечаете, поднимаясь на холм пешком, – гудение жуков, крошечные камни, изменения в цвете и его переходах, или следуете на машине на этот же холм, является настолько явной, что делает объекты вашего наблюдения практически различными по ощущениям. Исследование Google обнаружило, что, когда время поиска сокращалось от одной секунды до одной десятой доли секунды, поведение пользователей менялось. Люди искали больше и глубже. Скорость изменила то, как думают люди, – вот результат. Вскоре, когда мы столкнемся с миром оптико-волоконных скоростей, когда агрессия, разоблачения и катастрофы будут происходить со скоростью Wi-Fi или сигнала сотового телефона, наше восприятие времени станет размытым. Вы должны задаться вопросом, что Георг Зиммель сделал бы со смартфоном.
Жизнь в наше время глобальных коммуникаций мгновенна, и мы преимущественно всегда находимся в онлайн-состоянии. Это разрушает старое, более сдержанное чувство темпа. Компьютеры когда-то включались в девять и отключались от работы в пять – так же, как и их пользователи. Но цифровая активность в настоящее время является непрерывной. Сети находятся в рабочем состоянии все время. Это их свойство. Наши машины – тракторы, поезда и автомобили – раньше как эхо копировали наш темп жизни. Теперь мы являемся их эхом. Мы хотим, чтобы они были быстрыми, мгновенными.
Было, безусловно, верно, что Стюарт Брэнд подчеркивал в своем манифесте, что Часы Продолжительного Настоящего были задуманы как напоминание, как своего рода постоянный символ того, что мы все лишь мгновение в бесконечном континууме. И мы действительно способны думать в слишком коротком измерении. Но часы – как я начал подозревать, размышляя о них, – имели и другое предназначение. Десять тысяч лет отмеренного для них времени было попыткой утолить зуд, беспокоивший этих пионеров киберпространства. Это могло даже быть и ощущением вины. В конце концов, было нечто, что они разрушили в мировых скоростных коммуникациях – может быть, случайно, но, так или иначе, это стало необратимым. Если крупнейшие промышленные титаны в течение нескольких сотен лет преодолели расстояния, опутав мир торговыми сетями, то люди, мужчины и женщины, вооружившись Часами, разрушали представление о том, что для всей человеческой истории было, казалось, единственно надежной, безопасной и унылой константой нашего состояния: время. На протяжении большей части истории расстояние и время рассматривались нами как факты, как силы, которые невозможно одолеть, или скорректировать, или противостоять им. Время, безусловно, было квинтэссенцией, трагически не подлежащим обсуждению условием жизни. Сторонники Часов проявляли себя во всем: в повседневной работе, в деле постижения, корректировки, борьбы и даже разрушения времени. Они создавали что-то, на что, может, когда-то потребовались бы годы, сегодня могло случиться в мгновение.
Проект Продолжительного Настоящего был подобен одному из тех тщательно изолированных арктических морозильных камер, в которые были помещены и заморожены образцы эфирных зерен, ДНК волос Бетховена и мозга Эйнштейна на тот возможный день, когда, не дай бог, наши основные ресурсы или значимая часть человечества будут уничтожены случайно или в результате катастрофы.
Замурованные в горную породу, рассчитанные на тысячи лет, Часы являются хранилищем времени. Это музей обороны, построенный на тот случай, когда наконец быстродействующие глобальные сети истребят все системы управления и уничтожат то старое, эфирное чувство времени. Производители Часов осознавали, я полагаю, что они уничтожили особое чувство темпа посредством мгновенного обмена данными в коммуникативных сетях. Они стремились, осознавая чувство собственной вины, к созданию нового устройства, тщательно оберегаемого от самой революции, которую они вызвали своими деяниями и технической одержимостью. Эта жажда скоростей иного порядка позволила сколотить им состояние. Их революция (и ее IPO), если смотреть правде в лицо, и оплатила Часы. А надежда на «мир сверхскоростей» вдохновила их мечты. Основателя и главу Amazon и Cadabra – Джеффа Безоса охватило именно это желание размахивания дирижерской палочкой и концентрации всего, что вы могли бы только пожелать, в одно мгновение ока. Слоган «Все, о чем вы не ведали, теперь перед вами!» – явил вам то, что вы хотите или в чем нуждаетесь, и стал нашим новым, ожидаемым вами быстродействием. Они последовательно уничтожали прежнее понятие времени. Это, в конце концов, стало именно тем, для чего сети были созданы.
Отец Дэнни Хиллиса был эпидемиологом. Его мать была биостатистом. Его детство находилось в полной зависимости от перемещений семьи, связанных с возникновением инфекций.
– Где бы в мире ни была эпидемия, мы туда ехали, – вспоминает он.
По мере того, как семья металась из Дели в Каир, в Дакку, в Найроби, гоняясь от одной эпидемии к другой, Дэнни развивал энергетический автодидактизм. Он накапливал знания от своих родителей, из улиц вокруг него, от его новых друзей, в любом месте. В библиотеке в Калькутте, например, однажды он нашел копию книги Джорджа Буля 1854 года «Про исследование законов мышления». Буль описывал символическую логику на страницах своей книги, и, хотя его инстинкты были связаны с веком пара и машин, его видение до сих пор имеет свои отголоски в современном компьютерном дизайне. «Язык, – писал Буль, – является инструментом человеческого разума, а не просто средством для выражения мысли».
Как вы уже догадались, Хиллис обладал магнетической интеллектуальной харизмой. Вторая половина дня, проведенная с ним, очень напоминала мне затянувшееся времяпрепровождение в вымышленном тематическом парке: карусель грандиозных идей (Часы, живущие десять тысяч лет!), чередующаяся с небольшими сладкими угощениями (как лучше спроектировать столб для забора). Неудивительно, что он так вписался в среду Диснея. Критики обвиняют Стива Джобса в наличии «поля искажения реальности», в котором харизма основателя компании Apple рушит границы практичности. Хиллис, напротив, имеет своего рода «поле преувеличенной реальности», в котором большая часть мира, что можно увидеть в его глазах, наполняется возможностью.
С раннего возраста Хиллис интересовался мечтами мыслящего робота. Может быть, постоянные лишения ощущений детства привели к формированию в нем головокружительного чувства, что легче собрать и смонтировать своих собственных друзей, чем пытаться встретиться с ними на каждой новой стоянке. Но, так или иначе, это привело Дэнни к мысли создания искусственного разума, которая была его основной идеей, когда он прибыл в МИТ (Массачусетский институт технологий) осенью 1974 года. Игровой компьютер Tinkertoy для игры в крестики-нолики, который он построил, был данью этой надежде, но его насыщенная винтиками эстетика маскировала глубокие амбиции. «Когда-нибудь, возможно в ближайшее время, мы построим машину, которая будет в состоянии выполнять функции человеческого разума», – пишет Хиллис в начале своей докторской диссертации несколько лет спустя.
Хиллис и другие исследователи, такие как его наставник Марвин Мински, поняли, что человеческий мозг работает иначе, чем большинство машин, которые были затем ими построены. Жизнь, в конце концов, это не серия линейных математических задач, решаемых большинством ранних компьютеров, обрабатывающих информацию. Вы видите только внешнюю картину. Что, например, происходило с вами, если вы сказали своей жене: «Какой прекрасный день!» Это не являлось результатом какого-то «а, затем б, затем с» вычисления, а скорее было произведением тысяч одновременных сигналов и импульсов в их танце в пространстве вашего сознания. Если бы вы должны были обработать ту же самую мысль в линейном виде, как на старой машине IBM, то это могло бы выглядеть следующим образом: во-первых, посмотреть на небо; затем изучить соотношение облаков к голубой бесконечности, проверить, не слишком ли много ветра, измерить температуру, открыв рот. Ваша жена давно уже вышла бы из двери, прежде чем вы даже начали говорить. Способность работать одновременно со многими различными данными является одним из наиболее ярких, завидных особенностей человеческого ума. Но, конечно же, это является ключевой проблемой сети. Каким образом вы изучили проблему с сотнями различных параметров, одновременно? Мгновенно? Коммуникации и информационный обмен!
Именно благодаря этому, спустя десяток лет после своей машины, играющей в крестики-нолики, Хиллис начал работу над устройством, предназначенным думать быстрее, чем любой компьютер когда-либо. Он назвал ее Машиной Коммуникаций. «Эта способность создать топологическую конфигурацию машины в соответствии с топологией решаемой проблемы оказывается одной из наиболее важных особенностей Машины Коммуникаций», – писал он. Добавив на тот случай, если слишком старомодная академическая элита MИT не уловит основную мысль: «Вот почему она называется Машиной Коммуникаций.»
Амбиции Хиллиса с началом реализации проекта строительства этого устройства начали кипеть в нем уже тогда, когда он был в Массачусетском технологическом институте. Он победил – университет согласился поддержать его. Он собрал группу студентов-единомышленников и основал небольшую компанию «Thinking Machines Corporation» (Корпорация мыслящих машин). С благословения харизмы Хиллиса и фантастических ожиданий от проекта компания обладала магнитным притяжением талантов, идей и денег. В первые дни существования фирмы охота на инвесторов привела Дэнни в роскошную квартиру Уильяма Палея, основателя CBS, в Нью-Йорке. Сам Хиллис жил тогда в ветхом доме недалеко от кампуса MИT. Он ездил на списанной пожарной машине. Встретившись с учтивым, могущественным восьмидесятиоднолетним основателем крупнейшей радио– и телевизионной сети Америки, Дэнни сразу же принялся страстно излагать свои идеи о связи и сетях. Палей холодно отвечал: «Я не понимаю ни единого слова из того, что вы сказали». Затем он выписал Хиллису чек на 4 миллиона долларов.
Или еще случай, когда Дэнни попросил физика Ричарда Фейнмана, получившего Нобелевскую премию, порекомендовать умных молодых ученых, которых бы Мыслящие машины могли нанять. Фейнман, шестидесяти пяти лет, предложил себя. В течение следующих нескольких лет он проводил свои летние каникулы, работая вместе с Хиллисом и его командой. Когда пришло время проверить первую Машину Коммуникаций, именно часть результатов Фейнмана помогла выявить, насколько хорошо черный ящик делает свою работу. Архитектура их компьютера легко обработала за часы то, что в иных условиях стоило бы месяца решения физических задач. И по мере того, как машина становилась лучше, эти временные характеристики обработки данных были улучшены один за счет другого в тысячу раз. Создание такой машины для ученых, которые отчаянно нуждались в вычислении ответов, было похоже на продление срока их жизни. Если бы они могли решить проблему в течение часа, а не месяцев? Все развитие их карьеры было бы изменено.
Корпорация мыслительных машин продала компьютеры Дэнни компании «Локхид» в целях моделирования истребителей стелс. Нефтяные компании использовали их для проектирования нефтяных месторождений. Правительство США купило несколько машин, чтобы помочь прогнозировать погоду. Задачи, решение которых долго оставалось сложным при приложении «простой силы» исследователей, легко поддавались им в условиях параллельного рассмотрения.
Время от времени кажется, – как заметил один знакомый компьютерный разработчик, – Машина Коммуникаций настолько отличается от современных компьютеров, что, вероятно, больше похожа на научную фантастику, чем на высокие технологии.
Ничто не было более увлекательным в машинах Хиллиса, чем беспрецедентное взаимное влияние интеллекта и скорости. Если у вас есть в два раза больше процессоров, вы, как и я, возможно, сможете разгадать загадку геномики или криптографии на год быстрее. Но, скажем, вы выяснили, как иметь 275 000 машин, связанных друг с другом, а у меня есть 1000? Вы можете решить задачу на восемь лет раньше. В период с 2007 по 2015 год число соединений нейронных компьютеров в стилистике Хиллиса смогло справиться с ростом с 1 миллиона до 100 миллиардов. Эта скорость действительно производила нечто очень похожее на вещи из научной фантастики: точное распознавание голоса. Генетика в режиме реального времени. И это было, очевидно, началом обнаружения того удивительного места схватки, где будет определяться итог борьбы за наше будущее: в соревновании с самим временем.
Из всех вещей, которые отражают изменения, произошедшие с прошлых времен, лишь некоторые являются сенсационно очевидными: ускорение темпа жизни, сокращение числа задержек и отсрочек, мгновенное обретение опыта. То, что происходит внутри машин, как следует из старого закона Мела Конвея о влиянии сети на реальность, является лишь проявлением ее поверхностного воздействия на нашу жизнь. Выделенные сетевым террором, или сетевым финансовым кризисом, или сетевыми магнатами «заголовки» демонстрируют лишь видимую часть большего ускорения. Сети становятся быстрее; и мы тоже.
Ощущение удушья от увеличения скорости безусловно не ново. Когда Анна Каренина бросилась под приближающийся поезд в конце романа Толстого, ее самоубийство было и своего рода метафорой той эпохи, и комментарием к меняющим современность пару, двигателю, и железнодорожному темпу, и личной трагедией. Скорость убивает и старые привычки, и идеи в особенности. Между 1840 и 1940 годами время в пути между Санкт-Петербургом Анны Карениной и Москвой Вронского сокращалось каждый год в среднем почти на десять минут, усиливая противоречия в российской экономике и политике, разрушая с индустриальной мощью современности неспешный мир блистательных балов и наследственных имений Анны, а потом ужасными клещами коммунизма. Смерть самого Толстого в 1910 году случилась также в период острой напряженности между старыми и новыми скоростями: в возрасте восьмидесяти двух лет он оставил свою семью в сельской местности русского города Шамордино, в надежде прожить свои последние дни в мирном спокойствии, вдали от лязгающих звуков современности. Но он желал оказаться там спешно. И умер, отправившись в путь поездом, на железнодорожной станции, как странный персонаж Гоголя, предпринявший трагичную попытку использовать современное, чтобы перенестись в прошлое.
Примерно в то же самое время, однако, американская железнодорожная система работала над своей собственной трансформацией, но почти в отсутствие двойственности. Америка использовала современное, чтобы добраться в будущее, и как можно быстрее. Это было решающим различием в темпераменте. «Американские границы, – пишет Фредерик Джексон Тернер в своем знаменитом эссе 1893 года о границах и американской жизни, – резко отличаются от европейской укрепленной пограничной линии, проходящей через плотно населенные пункты». Американские железные и автомобильные дороги (и торговля) не требовали никакой специальной инфраструктуры и укреплений. Они почти бесконтрольно уходили в неизведанное. Единственным очевидным ограничением в развитии, как полагало то поколение, являлись технологические возможности. В течение трех десятилетий после 1840 года модернизация паровых двигателей, жестких вагонов, железнодорожных путей, которые становились ровнее, обеспечение движения и перезагрузки вагонов ночью – продвинули Америку в эпоху парового двигателя более быстрыми темпами, чем любую другую страну. «Самым важным в американских границах, – пояснял Тернер, – является то, что они пролегают по краю, граничащему со свободной землей». Далее не было ничего, физически или психологически, что стояло бы на пути более высокой скорости.
Это ускорение железнодорожных коммуникаций подтвердило аксиому, имеющую тем большее значение в нашем взаимосвязанном мире: чем быстрее скорость, тем меньшее значимы расстояния. При ускорении от пяти до пятидесяти и до пятисот миль в час длина пробега, который вы совершаете, становится менее значимой с появлением каждого нового деления на спидометре. При более высокой скорости и равном времени вы перемещаетесь все дальше и дальше. За час вы преодолеваете пять, потом пятьдесят, потом пятьсот миль расстояния. Маркс называл этот процесс «аннигиляцией пространства временем». Он был прав. Скорость убивает расстояние. Простая алгебра, описывая зависимость расстояния и скорости, была очевидна уже в переходе от гребных галер к парусным судам, и нашла подтверждение в эпоху промышленного железнодорожного и воздушного транспорта. Влияние ускорения на качество жизни или коммерции продолжалось в течение нескольких десятилетий. Ускорение увеличивалось со сменой езды верхом на движение в поезде, затем – самолетом, все эти изменения произошли в течение 150 лет. Каждое новое ускорение уменьшает значение расстояния.
Существует определение этого процесса – «пространственно-временное сжатие», – впервые сформулированнное американским социологом Дональдом Джанелем в 1966 году. Джанель понимал, что технологии транспортировки – поезда, самолеты и катера – и все маленькие новшества, которые заставляли их двигаться все быстрее, – нарушали старые пространственные привычки. Они помогли более быстро перемещать товары, и, конечно, в этом процессе старые географические карты предстали менее полезными. Когда вы можете пролететь над горой, ее значение уменьшается. В обозе вы, возможно, созерцали бы пустыню со страхом; на автомобиле же вы бы просто рассматривали ее с осторожностью. В самолете она не имеет никакого значения. Джанель пришел к выводу, что незрелая экономика обеспечивала это сжатие в той же степени, сколько и наука. Столетия постоянно разрушающегося пространства и времени были преодолены не в последнюю очередь из-за голода, заставляющего проникать в отдаленные рынки, использовать дешевую рабочую силу и перемещать природные ресурсы туда, где они необходимы. Это был процесс цивилизации.
Необходимость развития коммерции все быстрее и быстрее, все более рентабельно демонстрировала, что переход «от лошади к поездам, затем к авто и к реактивным самолетам» был неизбежной чертой современного рынка и, обобщая, современной жизни. Мы должны были ожидать того, что этот процесс будет развиваться, как подчеркивал Джанель. Огромные состояния накапливались у тех, кто осваивал современные скорости. Быть быстрым становилось конкурентным преимуществом; быть быстрее являлось решающим фактором.
Абсолютная скорость является абсолютной властью, как утверждал философ Поль Вирильо. Определение сжатия пространства-времени было столь же метким, как и описание магического трюка. Пространство сжалось? Время сократилось? Но подобная формулировка скрывала насильственный, революционный характер работы этого механизма. Это фактически могло означать, что поля сражений за власть, которая на протяжении большей части истории человечества предполагала контроль над пространствами и территориями, теперь предусматривает – просто невероятно – контроль над временем.
Джанель опубликовал свою первую работу о сжатии пространства-времени в 1968 году на страницах справочного журнала картографов – Профессионального Географа. Но он, конечно, подрывал устои практически всего, на чем была основана профессиональная география. «Географы, как и физики, традиционно были привязаны к положению точек (мест) в пространстве…» – писал он. «Тем не менее, географы не используют понятие «скорости» при изучении пространственных отношений. Будет ли полезным или надуманным спросить у географов: «С какой «скоростью» населенные пункты приближаются друг к другу?» Мы должны задать себе тот же самый вопрос сейчас. С какой скоростью ты и я становимся ближе друг к другу? К удаленным точкам на планете? Джанель писал в конце 1960-х годов. Тогда его беспокоил звуковой барьер, как практический предел скорости. Но представьте себе его идеи в их применении к веку коммуникаций, в условиях существования глобальных и постоянно ускоряющихся сетей обмена данными. В век, в котором ошибка, или инновация, или хакерская атака в каком-то одном месте вызывает ее последствия мгновенно и везде, потому что скорость коммуникаций между а и б эквивалентна скорости света?
На первый взгляд кажется, что из всех наук география обладает наименьшей динамикой. История ее развития уходит корнями в покрытые ледниками явления геологии, дисциплины, в которой скорость обычно имеет параметры, сопоставимые со скоростью сдвигов и движений тектонических плит, то есть дюйм в столетие. Наиболее быстрые транспортные связи, связаны ли они с поездами, или с самолетами, или с информационными сетями, окутывают теперь, как покрывало, вершину этого медленно движущегося геологического слоя. Высокоскоростные сети являются новой географией. Математики и архитекторы систем обмена данных называют ландшафт, который они представляют, топологией. Это слово относится к любому виду карты, которая может быть перестроена в результате коммуникаций. Оно описывает места, где скорость и расстояние между двумя точками действительно влияют на то, как «далеко друг от друга» они находятся. Вы можете думать об этом так: географические регионы в значительной степени постоянны; топология может измениться в одно мгновение. В географическом понимании, Москва и Санкт-Петербург всегда находятся на расстоянии в четыреста миль друг от друга. В топологическом плане они настолько далеки друг от друга, насколько быстрым является соединение между ними – это займет 0,3 миллисекунды передачи со скоростью света по оптико-волоконному кабелю.
Когда вы слышите, как сетевые инженеры говорят о проектировании для определенной «топологии», вы должны понимать, что речь идет об архитекторах, описывающих естественную географию, где будет в один прекрасный день расположен мост или небоскреб. Они рассматривают вопросы времени, задержек и скорости в их естественной взаимосвязи. При использовании программного приложения, ссылок на рынок облигаций или подключая себя к сенсорным датчикам, вы привязаны к топологии. Понимание характера и движения в сетевой топологии является признаком новой чувствительности, которую мы назвали Седьмое чувство. Старый мир полагает, что географически пространства должны перемещаться. Новая Каста и любой человек с Седьмым чувством рассуждают с иной точки зрения, исходя из понимания свойства времени: как быстро я могу заставить это произойти? Вспомним то, как Наполеон видел поля своих сражений – иначе, чем его враги. Они видели ровные пространства сражения солдат; его революционным отличием было видеть третье измерение, воздух, которые могли быть заполнены артиллерией. Мастера Седьмого чувства аналогично воспринимают окутанную проводами топологию, пронзающую существующие ландшафты. Даже если топология неосязаема или состоит исключительно из узких оптико-волоконных струн, очень важно, чтобы мы попытались представить ее реалистичной, как место событий, где могут быть сделаны и потеряны состояния, где случатся войны – и каждый фрагмент имеет такое же влияние, как и физическая география. Топология описывает ландшафт, где работает сеть, или Нью-Йоркская фондовая биржа, или «Хезболла». Топологии могут изменяться мгновенно, в зависимости от их дизайна или тех, кто подключен к сети, а также скорости и плотности подключений. Топология Уолл-стрит в 1920-х годах, к примеру, в значительной степени определялась тем, кому удавалось выйти на торговую площадку в установленный день; сегодня это глобальный ландшафт, находящийся под влиянием мгновенно меняющихся новостей, слухов и скачков доходности, поступающих в режиме реального времени со всей планеты. Подобно тому, как изменение места установки моста через реку могло бы коренным образом изменить его полезность, изменение топологии рынка или зоны боевых действий меняет форму всего остального, что находится в сетевом подключении. Инстинкт Седьмого чувства, которым обладают хакеры и террористы, а также мыслящие предприниматели и которое так чувствительно к тому, как легко нечто могущественное может стать бесполезным, а бесполезное может стать могущественным, приобретается впервые посредством воздействия на судьбоносные топологические сдвиги. Знать, что высокоскоростные коммуникации с помощью беспилотных летательных аппаратов или сообщений с поддержкой GPS угрожают безопасности границ, или понимать, какова судьба медленно думающего врача, владеющего базой данных, означает чувствовать силу топологии в действии. В последние годы топология сети нашего мира менялась с темпами развития технологий, которые действительно очень велики. Каждая новая часть сети, каждая новая платформа или протокол, изменяет то, как мы подключаемся к сети. Этот процесс нашего восприятия расстояния работает как эффективная, но странная швейная машина: что-то очень далекое может быть выполнено, внезапно, одним стежком инновации, прямо над нами. Скорость и качество связи являются тем, что устанавливает, насколько что-то действительно «рядом» или «далеко». Местоположение, в известном смысле, так же изменчиво, как и скорость.
Расстояние в любой живой части глобальной сети может быть бесконечно изменчивым, подобно гибкому листу. Вы можете приблизить две удаленные точки на листе бумаги, разместив их рядом друг с другом путем складывания листа. Точно так же вы можете склеить точки в сетях вместе, сгибая пространство, в котором они подключены. Карта сетевого мира или стран, или даже нашего города не является каким-то строго установленным шаблоном. Один небольшой поворот, и мы, нравится это или нет, становимся связанными между собой. Верность старой идее, что вы и я являемся не связанными между собой точками, делает ее особенно убийственной. Таким образом, все предпосылки Просвещения, основанные на основополагающей роли индивидуума, становятся опасными.
А теперь достаточно использовать виртуальные топологии для работы в реальном мире, деформируя эфирные элементы связей и подчиняя их своему влиянию и полному контролю. Томас Даллиен, один из тех исследователей, которые открыли известный хакерский чип rowhammer, подметил это в новом законе сетевой безопасности, которая перекликается с концепцией жизни в условиях глобальных коммуникаций: вам нет необходимости обладать объектом, чтобы его контролировать. «Быть взломанным, – пояснил он в речи 2014 года под названием «Почему Джонни не может сказать, что он скомпрометирован», – является потерей контроля без изменения права собственности или владения». Ваш телефон, постоянно отдыхающий в кармане, на самом деле может покорно реагировать на каждое нажатие клавиши кем-то за тысячи миль. Это чрезвычайно важное замечание и новое напоминание о том, как связь изменяет природу объекта: это делает его управляемым без обладания им. Армия в состоянии освоить территорию противника, не обладая ею, если удастся овладеть важнейшими топологическими инфраструктурами: банками, базами данных, системами связи. Одна нация могла бы быть подчинена другой в этой бескровной борьбе. Сети, вы помните и как мы уже говорили, сотрут понятие нации в будущем. Это лишь может дать представление о том, как подобный разрушительный контроль может быть достигнут: начиная с контроля ключевых элементов глобальной сети, далее работая бесшумно и необратимо с каждой составляющей национальной жизни. Сегодня IT-компании, стоящие миллиарды долларов, контролируют автомобили, финансовые системы, а также гостиничные номера, не обладая ими. Сетевой сервис формирует стоимость бизнеса. Каждый блок из камня содержит в себе очертания скульптуры, однажды сказал Микеланджело, и задача скульптора обнаружить ее. Каждая сеть имеет топологию. Задача каждого генерала, торговца или предпринимателя обнаружить и использовать ее.
Топологии сохраняются везде, где существуют коммуникационные сети. Несмотря на то, что сети могут быть многовариантными, все они имеют топологию. Рыболовные сети Бэрана, хабы и филиалы центров обработки данных, постоянно меняющиеся переплетения торговой системы являются картами сетевых соединений. В результате риски, которые характерны для того или иного места системы, также могут существовать практически в любом другом месте, связанном с ней. Быть частью коммуникационной глобальной системы значит быть готовым осознавать постоянную угрозу. Топология характеризуется не только описанием алгоритма подключения. Скорее ее козырем является то, что называется диаграммой доверия. Термин подразумевает гораздо больше, чем просто график; он отвечает на вопросы: Кому вы доверяете? Насколько? Старшее поколение до сих пор думает, что сети – это нечто состоящее из проводов, выключателей и вилок, то есть то, что может быть легко разрушено или просто выдернуто из стены. Но реальная сила глобальной коммуникационной системы восходит из доверительных отношений, которые являются весьма существенными и материальными. При подключении к человеку или к объекту, вы образуете взаимодействие со всей своей историей решений о том, кому доверять. Любая страна ЕС, например, находится во взаимодействии с выбором конкретного пограничника. Кому он может доверять? Прав ли он? В аналогичной ситуации находятся финансовые системы и технологические сети. Если вы подключились к тому, частью чего вы являетесь сами, вы становитесь суммой ряда каждого доверительного (или не доверительного) выбора контрагентов или компьютора, совершенного вами самими. «В системах, которые мы создали сейчас, – пояснил Даллиен, – не существует способа установить, кто находится под контролем». Если вы или кто-то, с кем вы связаны, ошибся, доверившись, вы также можете стать уязвимым, подконтрольным, то есть еще одним взломанным объектом.
Любой объект – навигационная система самолета, цифровое медицинское устройство, грузовой управляемый транспорт – может стать опасным в связи с тем, что сообщает нам информацию о топологии. Каждый или каждое из них может быть атаковано каким-то образом до тех пор, пока оно подключено к сети. Рынки в Монголии, аэропорты в Европе, городские пейзажи в Китае, все они могут быть поражены в любое время, так как все они видимы и связаны сетью. В отличие от традиционных конфликтов, в которых источник опасностей может быть точно определен и изучен, в которых военные и гражданские зоны разделены линией фронта, мир коммуникаций не имеет линии фронта. Поле битвы везде. Старая банальность военной стратегии, состоящая в том, что умная или отчаившаяся армия всегда может отступить, может «обменять» пространство на время, отойдя, чтобы вступить в бой в другой день, – практически не существует. Пространство теперь – это стена, которая может быть легко разрушена сетями; там нет места, куда можно сбежать, за исключением некоторой более защищенной топологии. Это означает не только конец различиям между зонами войны и мира. Это предлагает стирание различий между периодами войны и периодами мира. Сети всегда в работе. Риски тоже всегда присутствуют. А мы знаем, что политические требования военного времени всегда отличались от требований стран, находящихся в мире.
Джанель, отец сжатия пространства-времени, ожидал, что связанные воедино расстояние, скорость и мощность изменяют природу объекта. Он называл это «локационной полезностью» и определил его как способ, в котором что-то становится более полезным, или мощным, или уместным, по мере приближения к нам путем увеличения числа соединений или скорости, даже если мы остаемся на том же «расстоянии». Ядерный заряд, находящийся в трех часах от цели или на удалении в три месяца, представляют собой разные по значимости объекты. Знаменитое высказывание Адама Смита в его Теории нравственных чувств о том, что большинство людей будут более возмущены потерей половины пальца, чем известием о том, что миллион китайцев погиб, начинает принимать другую окраску в эпоху, когда полтора миллиарда китайцев находятся на расстоянии, измеряемом наносекундами. Когда мы говорим, что коммуникации изменяют характер объекта, мы имеем в виду следующее: информационные сети воздействуют на локальную значимость чего-либо, чего они касаются. Когда соединение делает объект мгновенно доступным и хорошо осязаемым, его потенциал видоизменяется. Неудивительно теперь, почему так много больших состояний сколачиваются, делая наш мир быстрее. Часть наших современных беспокойств и часть наших проблем, с которыми мы сталкиваемся в построении стратегии нашего мира или нашего бизнеса связана с тем, что стабильность в наших топологических картах все еще не достигнута. Существует еще так много всего, не включенного в сеть. И так много новых топологий, которые будут построены.
«Время – это дорога, – однажды заметил Дэнни Хиллис в начале своей медитации над его Часами в десять тысяч лет, – и вы по ней едете». Он был прав. Этот путь выстраивается сейчас, в эпоху соединения, по топологическим рельсам. И от того, насколько вы будете «мгновенными», будет зависеть то, какой будет ваш путь и насколько успешными вы сможете быть. Таким же образом, как реки, океаны и горы определяют различные ландшафты географических регионов, топологические окрестности, в которых мы будем обитать, также будут иметь уникальные особенности. Некоторые из них будут сверхбыстрыми. Другие одолеет политика. Граждане Санта-Фе или Мумбаи, возможно, выберут различные способы сжатия времени. Но каждый, я полагаю, разделит общее стремление: делать больше с меньшими затратами. Сжатие времени даст возможность жить активнее с меньшими затратами времени. Немецкий философ Питер Слотердайк и голландский архитектор Рем Колхас писали о том, как некоторые люди перемещаются через аэропорты и границы (с билетами первого класса и с предварительно одобренным правом на иммиграцию), в то время как другие борются лишь за то, чтобы вырваться из лагерей беженцев или ловушек бедности. Они назвали этих победителей нового порядка своего рода «кинетической элитой». Это были пассажиры первого класса топологического путешествия, у которых во владении находились золотые ключи к особой, легкодеформируемой топологии, предоставившей им в распоряжение не только финансовое и информационное поле, но и возможность исключить пространство и захватить время.
Технический язык сетевого дизайна содержит превосходное словосочетание для определения этого топологического видоизменения, заимстованное из специального кода, который работает внутри большинства центров обработки данных в настоящее время и который делает бесконечно прибывающие биты понятными: MapReduce (или «Сокращение карты»), термин, который был впервые введен в Google в 2008 году. Это словосочетание включает в себя два хорошо известных функциональных параметра компьютера: Карту и Сокращение – и является неким видом программы, о которой бы мечтали Джанель и Хиллис (если бы они когда-нибудь встретились). Фактически задачей MapReduce является обратить вопрос: Где живет Боб Смит? – в ответ. Программа дает возможность уменьшить пространство между вопросом и его ответом путем мгновенного доступа к данным тысяч серверов. MapReduce делает это неявно, в микросекунды, на что могли бы потребоваться годы для более старых машин. Это уменьшает бесконечные объемы неструктурированных данных до мгновенно сканируемых графиков. Если сто лет тому назад дух своей эпохи захватило воздыхание о «летнем дне» величественной викторианской элиты Генри Джеймса, то слоганом нашего времени могло быть словосочетание «MapReduce». Магический код целостного образа жизни и мышления, позволяющий сократить время и пространство вокруг нас. Сокращение всех старых карт, которыми мы пользовались прежде.
Вот почему сжатие времени имеет такое огромное значение: в прошлом самые успешные политические и экономические системы позволяли людям покидать их ради жизни своей мечты. Свобода означает разрыв старых барьеров в стремлении к улучшению своего социального положения, безопасности и знаний: свержение Бастилии, колониализма. Это, как правило, означало обеспечение образования, социальной поддержки, законов и стабильности жизни граждан. Промышленные, урбанистические и богатые страны, которые формируют наш мир, в настоящее время превратились в таковых, освободив своих граждан в выборе, как им жить, а не застревать в старых привычках или договоренностях власти. Предшествующий современному мир был тем, в котором вы родились или в котором жили ваши родители и который определял большую часть вашей жизни. Современное развитие нации позволяет гражданам принимать решения самостоятельно, по большей части. Это стало чудом Просвещения, и мы вновь увидели: «Решите, кем вы хотите быть. Дерзайте узнать!»
Смотрите вперед прямо сейчас. Самые лучшие будущие политические и экономические механизмы понадобятся для того, чтобы сделать больше, чем просто освободить нас. Они должны будут позволять нам сжимать время. Системы государственного управления, которые замедляют возможность получения исчерпывающих данных, чтобы учиться быстрее, чтобы использовать время, получать сведения о здоровье, и знаний из сетей, окружающих нас, – должны будут объяснить, почему они стоят на пути достижимой человечеством скорости. Подобно тому, как идея демократии стала шокирующей в свое время, новое понятие политической и экономической системы, настроенное не только на свободу, но и на сжатие времени, заставит нас изменить многие из наших учреждений. Нации, корпорации и идеологии, которые могут обеспечить эту свободу скорости, будут расти, процветать и ускоряться. Те же, кто не сможет, испытывая замедление вследствие исторических причин или блокировки изменений в социальной или идеологической конструкции системы, одержимой больше контролем, чем скоростью, пропустят поворот. Если они не смогут вводить новшества достаточно быстро, чтобы разрабатывать инструменты для управления массивными потоками данных, или не в состоянии поглощать лучшие новые технологии, станут новым дивергентным клубом. Скоростные информационные сети будут ускользать от них. Самооборона будет невозможна. Их положение будет столь же уязвимо для действий врагов, как и ресурсы Африки и Латинской Америки, ставшие целью колонизаторского грабежа несколько сотен лет тому назад.
В следующем десятилетии в самых развитых странах все – от самоуправляемых автомобилей до военных роботов – станет обычным явлением. Подумайте об эффективности, которую это принесет: более дешевая логистика и транспорт в мире самоуправляемых и саморазгружаемых грузовиков. Такие страны, как Соединенные Штаты, которые могли бы быть лидером в реализации таких систем, будут опережать еще большее количество наций, таких как Чили или Нигерия, которые могут прождать годы до того, как автоматизированная логистика смогла бы быть реализована. Это, безусловно, представляет собой угрозу страшной военной асимметрии для многих народов, которые будут слишком отсталыми, чтобы противостоять технологическим атакам. Вся власть будет зависеть от быстродействия интелектуальных сетей. Некоторые страны будут иметь их; а другие нет. Это будет фатальный разрыв. И он будет расти шире с каждым новым циклом развития технологий. Подумайте о том, каким образом воздушные силы после Второй мировой войны могли, бы, например, передвинуть сражения из двух– в трехмерное измерение. «Только крупные государства способны противостоять трехмерному охвату», – написал историк Николас Спайкмен в 1942 году. Уже сегодня превосходство в воздухе является прелюдией почти любой американской войны. Если нация может доминировать в воздухе, ничто не может ей противостоять. Но сети добавляют четвертое измерение – превосходство во времени. Можете ли вы двигаться быстрее, чем ваши враги? Можете ли вы потопить их? Или вы жертва четырехмерного охвата? Контроль времени ваш или ваших врагов: это будит вашу боеспособность.
«Нет никакого равенства в справедливости между слабым и сильным», – однажды заметил итальянский историк Джиамбатиста Вико. Это верно и в наше время. Между быстрым и медленным? Также нет равенства. Существует замечательное преимущество, в богатстве или возможности, присущее людям, народам и предприятиям («кинетической элите»), которые смогут сжимать пространство и время наиболее эффективно. «Товары любят деньги», – написал Маркс знаменитую фразу в Die Ware liebt das Geld. Скорость теперь является решающим товаром – и она любит деньги (это чувство, кстати, взаимно). Стремление к высоким скоростям освещает нечто конкурентоспособное: чем быстрее я двигаюсь, тем острее вы чувствуете, что вам нужно ускориться, тем сильнее вы ощущаете свою медлительность.
Центростремительное очарование ускорения искренне удивило самых ранних архитекторов пароходов, железных дорог, авиакомпаний и автомобильных трасс: скорость, привлекая нас, побуждает нас требовать больших скоростей. Они предугадали, насколько будут популярны созданные ими подобные инструменты сжатия пространства-времени. Разумеется, максимальное количество людей, которое когда-либо захочет пронестись из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, будет около тысячи в неделю Это знали пионеры авиакомпаний реактивных самолетов. Захотят ли больше чем несколько сотен инженеров собственные компьютеры? Коротко спросил Гордон Мур на обеде вскоре после того, как Intel предложила вставить свои чипы и в первые ПК. Да, как оказалось. На миллиарды больше. Разработчики скоростных трасс называют это «индуцированным движением»: чем более скоростное шоссе, тем больше людей заполняют его. Градостроители в Лос-Анджелесе в 1950-е годы смотрели на свои плотные, перегруженные дороги и думали, что они могли бы реконструировать их путем добавления полос. Они приступили к программам строительства, разорвали транспортные сети, что опоясывали город, и построили новую, оптимистически емкую двадцатиполосную магистраль, широкую, как футбольное поле, и плоскую, как тарелка. Трафик стал хуже.
Что же это такое? Значит ли это, что мы так голодны? Наиболее значимой финальной частью скоростного соединения является то, что разработчики компьютерных систем называют «управлением соединением с учетом состояния протокола» – это словосочетание, которое не имеет ничего общего с состоянием, как нация, а связано с условием соединения, с «состоянием», в котором это происходит. Первые электрические цепи были либо в заряженном, либо в незаряженном «состоянии», включенном или выключенном. Сегодня, когда мы говорим об «управляемой потоковой» связи, мы имеем в виду связь, что мы поддерживаем и которая включена всегда. Видеовызов является «потоковым» в этом смысле; а письмо нет. Глядя на твою жену здесь и сейчас, вы находитесь в «потоковом» соединении; фотографируя – нет. Старые поколения нарушали это «управляемое потоковое состояние», оставляя семью дома или друзей в школе, ограничившись фразой «Увидимся позже!». Наше поколение никогда не уходит насовсем. «Будем на связи!» – могли бы мы сказать, помахивая на прощание, но отслеживая друг друга с помощью GPS или Twitter или какой-либо социальной сети. Технологии позволяют нам оставаться в непрерывном контакте. «Мы не можем подобрать антоним к слову «одиночество», но если бы оно существовало, я могла бы сказать, что это то, что я хочу в жизни… – писала Марина Киган в своем знаменитом эссе, которое охватывало больше, чем это небольшое упоминание о духе времени. – Это больше, чем получить работу, или выбрать город, или найти супруга, – я боюсь утратить эту ауру, в которой мы находимся. Этот неуловимый, неопределимый антоним одиночества». Первый интерфейс Snapchat, где вы должны были держать свой палец на экране для того, чтобы видео открылось, был своего рода метафорой этой неразрывной связи между прикосновением и связью (каким был, в противоположность, совершенно иной, «вон из моей жизни» – левый выключатель Tinder.)
Глобальные сети, которые мы постигаем, не только сжимают пространство и время; они попутно сокращают путь к знаниям. Сегодня мы «поточно» находимся в контакте со всеми видами знаний. Мы можем назвать это сжатием времени приобретения навыков: методы, на освоение которых когда-то требовалось десятилетие обучения или которые требовали доступа к многомиллионным машинам, теперь могут быть поняты, применены, а затем развиты невообразимо быстро. Никто ранее не слышал о «Сирийской Электронной Армии», которая год назад взломала многие сайты, внедрив вредоносный код мирового уровня в компьютеры оппозиции, продемонстрировав возможность молниеносной цифровой атаки. Существуют, конечно, и чарующие стороны подобных технологических новшеств: в ваш уик-энд вы могли бы, например, гулять по Ватикану с онлайн-наушником, слушая историческое повествование старожила. Есть нечто чудесное в том, как сетевые инструменты рекомбинируют ДНК, или взламывают компьютерный код, или разрабатывают вирусное программное обеспечение, одновременно становясь и более сложными, и более простыми в употреблении. Если древние века вложили в человеческие руки эпохальные орудия: нож! поезд! – то наше время демонстрирует новые силы, меняющие форму сознания в условиях мгновенной доступности.
Еще осенью 1988 года, примерно в то же время, когда Дэнни Хиллис и его команда трудились над их удивительной Машиной Коммуникаций и пытались побить мировой рекорд вычисления скорости, о которым они только могли узнать, другое устройство появилось в мире массово параллельных суперкомпьютеров. Все, кто видел это, согласились бы, что это было чрезвычайно странной машиной. Ее появление было совершенно неожиданным. Ее дизайнер не был известным мыслителем параллельности, популярным основателем телесетей и физиком, получившим Нобелевскую премию. На самом деле успех машины был результатом достаточно странного обстоятельства: ее создатель не знал практически ничего о параллельном дизайне, повлиявшем на образ мыслей Хиллиса. Что было странно, поскольку новая машина предполагала «большую параллельность», нежели какая бы то ни было другая. Кроме того, она была дешевле. Проще. И быстрее. На самом деле это была самая быстрая параллельная машина в истории.
Машина была задумана не сразу и без должной огласки. Идея ее создания родилась в уме двадцатидвухлетнего корнельского аспиранта по имени Роберт Таппан Моррис. Моррис к тому времени уже достаточно долго трудился над компьютерами: он был сыном Роберта Морриса-старшего, легендарного ученого НАСА, с которым мы столкнулись две главы назад, – человека, который сочинил эти отчасти забавные, отчасти ужасающие золотые правила компьютерной безопасности. Правило первое: не имейте компьютер. Машина, которую создал Моррис-младший, по сути представляла собой программное обеспечение. Она приняла форму компактной, простой компьютерной программы, которую он написал и разработал, чтобы быстро и легко распространить в первоначальных системах Интернета. Программа содержала всего лишь девяносто девять строк, занимала у большинства компьютеров наносекунды для работы и работала следующим образом: программа – позднее ставшая известной как червь полиции, который должен был найти и арестовать Морриса-младшего, – была призвана находить «открытую дверь» к подключенному к сети компьютеру. (В 1988 году, во времена, предшествующие периоду хакеров-пижонов, находить такие двери было нетрудно. Найти закрытые двери было, вероятно, сложнее.) После того, как программа Морриса проскальзывала внутрь, загружаясь в машину, словно собака, проскакивающая сквозь оставленную под присмотром щенка дверь, все вокруг обнюхивающая, вызывающая шум других дверей в поисках паролей, которые были оставлены без защиты. Затем она двигалась дальше к следующей машине. Тук-тук. Скрежет, грохот. Следующая машина. Моррис создал код, чтобы просто повторять этот процесс снова и снова, заполняя, как следствие, память каждого аппарата несколькими эффективными копиями одной и той же программы, наполняя «щенками», в некотором смысле. После нескольких часов этого распространения, похожего на вирус гриппа, волна незапланированного, нескончаемого процесса начинала душить сеть.
Моррис позже объяснил, что он имел в виду, представляя свою программу только в качестве демонстрационного, испытательного вида. Он хотел показать, каким образом машины должны были быть сделаны более безопасными. Он, однако, сразу же осознал, что совершил ошибку и что его червь бесконтольно убегал от него дальше. Он написал по электронной почте другу: как, черт возьми, остановить его? Его друг не имел ни малейшего представления об этом. Они лишь сообразили предупредить системных администраторов о своем опасном коде, который в скором времени должен был «съесть» их машины. «Возможно, в Интернет выпущен вирус», – написали они. Но эта записка, по несчастной случайности, была помещена в спам компьютера Гарварда, который затем был отключен от сети. Так, через несколько часов после того, как Моррис выпустил свой код, не предупрежденный и не подготовленный к этому Интернет почти замер. 2 и 3 ноября 1988 года машины повсюду в Соединенных Штатах были отключены, кабели были демонтированы из стен, системы были вычищены и перезапущены в стремлении остановить похожее на робота распространение болезни, а затем, в конце концов, убить его.
В те осенние дни 1988 года червь Морриса подтвердил здравое высказывание знаменитого биологического историка Альфреда Кросби: «…за девятнадцатым веком последовал двадцатый век, который сопровождался… девятнадцатым веком». Кросби имел в виду, что наш век топологической связи возвратил нас, опять же, в век инфекционных опасностей. И это было правдой: программа Морриса обозначила как эпидемию новые направления эпохи высокоскоростного цифрового инфекционного заражения. Но даже к моменту «пиковой инфекции» – и именно поэтому нас это сейчас беспокоит – червь продолжал делать нечто еще. Он заражал десятки тысяч машин, находившихся в гармонии сетевых коммуникаций, абсолютно все из них непреднамеренно выведя из строя.
В течение сорока восьми часов своей короткой и незабываемой жизни, как позднее было установлено, червь Морриса стал самым мощным параллельным компьютером в истории. На пике своего развития ему удалось достичь скорости обработки 400 миллиардов операций в секунду – примерно в два раза большей, чем скорость самых дорогих суперкомпьютеров на тот момент.
Как и любая неожиданная эпидемия, червь стал важной социальной, культурной и технологической вехой. Во-первых, за этим последовал арест Морриса. Ему был назначен штраф в размере $10 000, общественные работы и несколько лет испытательного срока. Позже он продолжил создание влиятельной интернет-компании, сотрудничал с факультетом MИТ и был удостоен самых высоких наград в области вычислительной техники за свои (и коллег) усилия.
Затем, спустя год после того, как вирус был окончательно ликвидирован, компьютерный ученый Фред Коэн, один из самых первых специалистов в области вредоносных программ – человек, который, собственно, изобрел термин «компьютерный вирус», – написал статью, где оспаривалось утверждение, что все компьютерные вирусы являются вредоносными. Его внимание привлекли сказочные, невероятные рекорды червя Морриса: 400 миллиардов вычислений за каждую секунду. «Функции и возможности, которые делают компьютерные вирусы серьезной угрозой целостности компьютера, – написал он, – могут также преобразовать его в мощный механизм». Это оптимистическое приукрашивание вирусов вызвало яростную негативную реакцию. Евгений Спаффорд, не менее известный компьютерный исследователь, открыл ответный огонь: «Для кого-то репутация доктора Коэна послужит мотивирующим фактором в неконтролируемом написании любого вида вирусов. Даже с теми оговорками, о которых было им сказано, это означает действовать безответственно и аморально».
Итак, это напоминает линию водораздела. Червь Морриса, как пример поистине тотальных связей, взаимодействий и скоростей, является моделью мира, в котором мы живем в настоящее время. Но кто прав при определении последствий? Коэн или Спаффорд? Хотим ли мы, чтобы наш мир сгинул прочь, сверхбыстро, сжавшись до абсолютного нуля?
Мы все можем решиться бороться против самой идеи существования глобальной сети, как это было предложено Спаффордом. Или же мы можем, как и предлагал Коэн, смотреть на ужасающе быструю природу нашего мира, но наблюдать нечто удивительное. Конечно, Спаффорд не был неправ. Существует что-то устрашающее и путающее мысли в идее преднамеренного создания компьютерных вирусов, действующих быстро и беспощадно. Но в мире коммуникаций, в который мы погружаемся все больше, также существует достаточно путаного. Сети тянутся к каждой существующей структуре. Они сообщают о самых простых и самых важных сведениях о человеке – нашей ДНК, наших свадебных фотографиях, наших полных надежды голосовых сообщениях, самых необходимых знаниях, наших скромных способах защиты против катастроф. В своей скорости и глубине, в своем все более всеобъемлющем понимании каждого из нас и нашего мира, этот новый порядок глобальных сетей является самым удивительным, что мы когда-либо создавали, и самым страшным. Вспомните на мгновение мечту Хиллиса о его параллельном компьютере: «Возможность настроить топологию машины в соответствии с топологией задачи». Что, если бы мы действительно могли переформатировать наш образ мыслей, наши сети, политику и экономику, чтобы соответствовать проблемам, с которыми мы сталкиваемся сейчас? Бедность. Фундаментализм. Неравенство различных видов. Болезнь. Седьмое чувство показывает нам, как и предпринимателям, и торговцам, и террористам, тот топологический ландшафт, на котором мы сможем начать строить новые сооружения.
«Человек может отсрочить свое просвещение, но только на ограниченный период времени», – писал Иммануил Кант в своем эссе восемнадцатого века «Что такое Просвещение?». Кант объяснял, что означает этот процесс. Мы могли бы сказать: «Человек может отсрочить свой переход к «сетевой» зависимости, но только на определенный период времени». Рассмотрим это в контексте понимания тех условий коммуникаций, над которыми мы работали до сих пор. Что же мы сумели выяснить?
Во-первых, сети стремятся распределять свое влияние такими способами, которые являются новыми в истории человечества. До эпохи Просвещения власть была сконцентрирована в руках священников, королей и военных. Цепь событий, берущих начало в эпоху Реформации и далее вплоть до времен Промышленной Революции, постепенно начала высвобождать ее. Демократия и капитализм привели к передаче политикой власти большинству и процветанию растущего среднего класса. Но глобальные сети, как мы уже видели, параллельно перераспределяют и концентрируют свое влияние с такой интенсивностью, которая прежде была неведома в истории человечества. Сети вложили в наши руки больше энергии, чем любое предшествующее поколение; они оказали большое влияние на новые и могущественные компании и протоколы. Признак власти, к которой мы могли бы присоединиться: компании с миллиардом пользователей (и состоянием в миллиард долларов) могут быть созданы с захватывающей дух скоростью. Беспилотники, финансовые деривативы, взаимосвязанные террористы, волны мигрантов, оторванные от своих государств, но подключенные к технологическим коммуникациям, – все это продукты влияния информационных сетей. Большая часть мира тем не менее до сих пор не полностью подключена к глобальным сетям. Вот почему мы говорим, что живем в революционную эпоху.
Во-вторых, сети состоят из множества сложных частей, но содержательно они представляют собой единый комплекс. Это важная отличительная особенность. Авиационный двигатель является сложным. Гроза представляет собой комплекс. Оба состоят из многих подвижных составляющих, но гроза непредсказуема. Сложные системы созидательны. Социальные сети, такие как Facebook, появились из миллионов взаимодействий. Услуги кар-шеринга, финансовые кризисы и политические движения ничем в этом смысле не отличаются друг от друга. ИГИЛ также возникла посредством коммуникаций. Так же, как и финансовый кризис, обусловленный высоким числом низколиквидных активов. Мы не должны ожидать, что этот процесс закончится в ближайшее время. На самом деле он ускорится.
В-третьих, в то время пока мы шли вслед за хакерами-пижонами, будущее глобальных сетей стало очевидным. Мало того что коммуникационные системы полны уязвимостей, но они также сохраняют исторически сложившийся энергетический потенциал своих центров связей. Хакеры жаждут освоить эти энергетические центры для того, чтобы управлять системой, к которой подключен каждый из нас, и, в определенном смысле, чтобы контролировать всех, кто подключен. Торговля. Политика. Финансы. Все эти системы вскоре проявят эту логику. Одним из результатов является инверсия исторических норм: в прошлом важные события происходили публично – войны, революции, выборы. С этого момента исторические процессы могут развиваться тайно, совершаясь в среде алгоритмов или сетевых построений, проявляясь только в их противоречиях, но не прекращаясь с самого возникновения.
В-четвертых, мы обнаружили представителей Новой Касты, которые доминируют во многих системах, от которых мы зависим. Если прошлые эпохи были эпохами торговцев, мудрецов или военных, наш век все больше полагается на молодые, технически изощренные группы. Нации и компании (или террористические группы), которые их готовят и снаряжают, будут иметь бесчисленные преимущества. Отличие этих групп состоит не только в том, что они обладают явным преимуществом, но и в том, что они наиболее опасны. То, что они знают о сетях, истории, политике и философии, до сих пор не оказывало влияния на их образ мыслей. Мир часто кажется им машиной, которую надо закодировать.
В-пятых, мы обнаружили новый и невидимый ряд сетевых ландшафтов, которые будут определять большую часть нашего будущего. Эта топология представляет собой соединенные поля, являющиеся в настоящее время проводником перераспределения энергетического влияния. Сетевые ландшафты: площадки торговли акциями, развития кибератак, операций импорта или регистрации и изучения биологических данных – каждая из них является местом, где карты могут быть перетасованы в одно мгновение. Топологический контроль имеет такое же значение, какое имел контроль над морем, или воздухом, или столицей в более ранние эпохи.
И, наконец, мы освоили, для чего глобальные сети предназначены: для компрессии времени. При всем своем техническом великолепии мы обнаруживаем, что сердца этих систем полны человеческих желаний. Для того, чтобы сделать больше с меньшими затратами – жить больше в том времени, которое у нас есть. Сжатие времени является тем фактором, который побуждает нас подключаться в сеть. То, чем когда-то было для свободы Просвещение, тем самым является сжатие времени в настоящее время. Это является фундаментальным и политическим требованием, на которое ни один из наших существующих гражданских институтов не может ответить.
Эти шесть элементов составляют примерный план новой чувственности.
Восприятие их работы в нашем мире является убедительным свидетельством образа мыслей и чувств, который называется Седьмое чувство. Изменение, что ждет впереди нас, по масштабу напоминает роль Просвещения. Оно перевернет все с ног на голову. Уже сейчас мы видим, что доверие к структурам прежнего мира, от наших политических партий до наших рынков, разрушается. Никто во власти, как нам кажется, не видит четкой, убедительной картины всего, что происходит. Большинство из нас начало ощущать опасность, с которой мы сталкиваемся, словно с пламенем, своими языками вырывающимся из соседней печи. Наш мир на пути в будущее идет как под руководством класса прежних лидеров, не понимающих сущности глобальных сетей, так и групп новых технологов, которые не понимают, что есть наш мир. И последнее, чего мы еще не коснулись здесь, но о чем, как я думаю, вы, вероятно, подозревали: если мы собираемся сформировать этот мир в полном объеме и во всех его проявлениях, времени у нас немного.
Часть третья
Гейтлэнд
Руководство по мировой силе, становящейся явной с Седьмым чувством.
Глава 9
Внутри и снаружи
В которой Седьмое чувство ставит нас лицом к лицу с самой мощной особенностью нашего времени – и, возможно, любого времени.
Река Шангани течет по небольшой зеленой долине в окружении чудесных природных уголков Южной Африки. Более ста лет назад она определила северную границу британского присутствия в Африке. В то время как другие части колониальной империи королевы Виктории изнывали от беспощадного влияния пустыни, горы и холмы, простирающиеся от мыса Доброй Надежды вниз к Шангани, были окрашены в приятные мягкие пастельные тона, темнеющие в меняющемся освещении. Для колониальных картографов Лондона Южная Африка была сокровищем, идеальным местом пополнения запасов британских кораблей, направляющихся в Ломбок, Калькутту, Пондичерри и за ее пределы. «Мы потеряли Америку, – написал исследователь Уильям Далримпл премьер-министру Уильяму Питту в 1785 году, – но пристанище в полпути сохранило бы нам Индию и в целом империю для Англии». Южная Африка была тем самым пристанищем на середине пути к Индии.
После англо-голландского договора 1814 года, который дал британцам контроль над южной оконечностью континента, англичане далее внедрились в Африку и обнаружили, что каждый вновь открытый район открывает им все больше богатства. Мечта колонизаторов: бриллианты, золото, бесконечные плодородные поля. Их эффективные механизмы производства и промышленной разведки (и эксплуатации) легко осваивали земельные залежи. «Прочитав историю других стран, я увидел, что экспансия была для нас всем… – писал горнодобывающий барон Сесиль Родс в 1875 году. – Земли мира ограниченны, главной целью людей было взять столько себе этого мира, сколько это было возможным». Англичане так и сделали.
Если и существовал момент истины, наиболее отчетливо продемонстрировавший силу и цели этого жесточайшего неравенства, то это была битва, которая разразилась у Шангани в 1893 году. Матабеле, сильное местное племя, сражалось с колонистами в течение многих лет. Англичане пытались деньгами и землей завлечь, усмирить, подкупить матабеле и их вождя Лобенгулу. Ничто не сработало. Они попытались угрожать. Это также не имело успеха. «Вождь получил все ваши сообщения, – докладывал императорский адъютант в Кейптаун после очередных разочаровывающих и бессмысленных переговоров в 1892 году, – но он обладает талантом, не безызвестным и цивилизованным деспотам, игнорировать то, что им не подходит». Или, возможно, у него был инстинкт угадывания того, что следует избегать. Один их военачальник по имени Бур, кровный враг Родосса, так предостерегал Лобенгулу о нецелесообразности договора с англичанами: «Когда англичанин однажды получит ваше имущество в свои руки, то он станет подобен обезьяне, руки которой будут полны семян тыквы, и пока вы не изобьете ее до смерти, она никогда их не отдаст».
В октябре 1893 года, когда британцы наконец вышли на след Лобенгулы у берегов Шангани, обе стороны предстали перед неизбежностью решительной битвы. «Это произошло после 2:15 ночи, в тихую ночь с ясным небосводом, но в темноте, – позже вспоминал один из британских пехотинцев. – Трубы оповестили о тревоге, лагерь в тот же момент пришел в волнение, послышался шум открытия ящиков боеприпасов, крики офицеров, солдаты занимали свои места. Снаружи донесся грохот… это были внезапно бросившиеся в атаку матабеле, которые решили наступать в их обычном стиле зулу». Британские солдаты противостояли превосходящим силам наступающего противника. Они были оторваны от тыла, с которым их связывала тонкая связь поддержки, растянувшаяся на пять тысяч миль. Матабеле знали территорию. Они боролись за свою жизнь, семьи и честь. Но тот звук открывающихся коробок с боеприпасами был решающим, склонившим чашу весов на сторону британцев. Глухие щелчки выстрелов противостояли крику, царящему вокруг. Англичане, впервые во время африканских военных действий, использовали пулеметы.
Орудия насилия сработали в то утро на Шангани с тем результатом, который вы и я могли ожидать. Более или менее скоро преимущества матабеле в количестве бойцов, знании местности и эффекте неожиданности были утрачены. Истребляемые пулеметным огнем в течение нескольких часов после нападения, сломленные воины матабеле остались сидящими на деревьях, погребенными в грязи насыпей и сваленными друг на друга. Один британский солдат позже писал, что пулеметы косили матабеле «словно траву». Лобенгула выжил, но его армия сократилась до размеров отряда, а сам он снизошел до мольбы. «Ваше Величество, – написал он королеве Виктории в дни после битвы, – я хочу узнать у вас следующее: почему вы, люди, убиваете меня?» С этим посланием вождь лишь влился в ряды многочисленных и беспомощных корреспондентов королевы, некогда могущественных правителей Африки, Азии и Индии, писавших ей и умоляющих ее в письмах после многих проигранных ими разрушительных битв. Читала ли она когда-либо эти письма? Это было трудно понять, а их мольбы представали извращенно несбалансированными. Местные жители не имели ни малейшего представления о том, какой силе они противостояли.
Военные способы достижения политических целей. Они стали бесспорной силой девятнадцатого века. Эта сила сформировала европейских господ колоний. Безусловно, они были лгунами, ворами, проявляющими жестокость, – одним словом, совершавшими все то рациональное и постыдное, что Сесиль Родс и иже с ним считали необходимым. Обезьяны с семенами тыквы. Но Родс был прав: экспансия была всем. Имперские мечтатели в Лондоне, Берлине, Брюсселе, Вене и Париже с полной ясностью осознавали огромный, исторически сложившийся в их пользу дисбаланс. Он демонстрировал то отличие в промышленном развитии, в науке и интеллекте, которое жители колоний никогда не преодолеют. Известные амбиции Родса «захватить большую часть мира», что он, вероятно, смог бы осуществить, были лишь воинственной версией призыва Канта «Дерзайте узнать!». Так же, как не существует вопросов без ответов, так и не бывает слишком удаленных мест, которые нельзя было бы не эксплуатировать. Географическое положение ни одной из стран не является абсолютно защищенной историей, расстоянием или отношениями. Это послужило, например, уроком для Линя Цзэсюй, бюрократа династии Цин, высланного из Пекина в 1839 году, чтобы остановить британские продажи опия, которые низводили Китай до нации бесполезных, коматозных наркоманов. «Представьте, что это были бы люди из другой страны, поставляющие опиум для продажи в Англию и соблазняющие Ваш народ к его покупке и курению? – написал Линь королеве. – Конечно, Вы, Ваше Величество, глубоко бы возненавидели это и были бы возмущены». Линь полагал, что он говорит, подобно гласу великой, вечной империи. Виктория ничего не ответила. В определенной степени Ее Императорское Величество имело интерес – на юге Китая, например, к тому, что произошло спустя несколько лет после написания письма Линя, когда британцы оттеснили войска Цин и обосновались в Гонконге для последующего 150-летнего пребывания в нем.
«Будь что будет», – как язвительно заметил колониальный герой Блад в стихотворении 1898 года британского писателя Беллока «У нас был пулемет «максим», а у них нет». Пулеметы были символом могущества колонизаторов в Шангани и на других линиях фронта, они наметили пропасть между современным и несовременным, между промышленной и сельскохозяйственной сферами. Это оружие впервые появилось в середине 1800-х годов на полях сражений гражданской войны американцев США после того, как изобретатель Ричард Гатлинг послал опытные образцы в Белый дом и убедил президента Линкольна – известного любителя новых устройств, – что их огневая мощь может привести Гражданскую войну к более быстрому завершению.
Линкольн приказал армии попробовать оружие, но первые попытки Гатлинга были слишком незрелыми, чтобы можно было что-то утверждать о результатах, полученных на полях сражений американского Юга. В течение нескольких десятилетий, однако, этот вид оружия был усовершенствован в таких местах, как Африка, и на линии фронта Русско-японской войны 1904 года. Они представляли собой пример убедительной, неоспоримой логики индустриальной войны, воплощенной в сочетании: пулемет и пистолет. «Мы косили их, как траву» – вы можете прочитать эту строку как метафору: скашивание травы было, в конце концов, результатом работы машины, подавляющей дикий мир природы с целью его подчинения, обращения в форму чистого и практически используемого упорядочения. Европейцы олицетворяли эту газонокосилку, а остальная часть мира была, следовало понимать, травой. Для имперских военачальников, которые на игровых полях Итона совершенствовали свой темперамент для так называемой «Большой игры» империи, подготовка газона для игры в теннис и территории для завоевания не были столь уж различающимися актами.
Выстрелы, прозвучавшие в сражении у Шангани, потрясли европейское сознание, став убедительным подтверждением сомнений в «волшебном» насилии индустриальной эпохи, оказавшейся ужасающей правдой. Образ эффективной работы пулемета подходил агрессивному, направленному на инженерию настроению эпохи. По мере того как Гатлинг – и его конкурент Хирам Максим – распространяли свое оружие, они столкнулись с вполне предсказуемым сопротивлением: кавалерийские офицеры Европы были влюблены в своих породистых лошадей. Но в конечном итоге эта эпоха была связана с историей зубчатых колес, осей и машинных масел. Поезда «штурмовали» сельскую местность. Заводы разрушали привычки наемных рабочих. Социально-массовое формирование быстро развивающегося класса нуворишей, политические выпады новых промышленных союзов и контрудары против них – все это являло новое энергетическое состояние. Десятилетия спустя, в 1869 году, когда Бисмарк приступил к объединению нации из десятков наследственных княжеств, слышалось новое звучание Германии – неустанный перестук железнодорожного строительства, сварки и промышленного производства. Каким естественным, вероятно, должно было показаться и «тра-та-та» – сопутствующее звучание пулемета «максим». Наследный принц Вильгельм, старший сын Кайзера, писал, что оборонительное мышление было «совершенно чуждым немецкому духу». Национальный лозунг Бисмарка – Железом и Кровью, стал в конце концов персональным для многих немцев, которые чувствовали себя более гордыми оттого, что покидали свои университеты с горячими, красными от дуэлей шрамами на своих лицах, нежели с утонченной поэзией Гете в сердцах.
«На протяжении десятилетий перед Первой мировой войной, – как отмечал политолог Стивен Ван Эвера, – характерной для Европы тенденцией было явление, которое можно назвать культом агрессии». Войны, как считалось, будут столь же продуктивны и быстры, как новые промышленные швейные машины и поезда. Именно этот инстинкт побудил немецких генералов заверить Кайзера в 1914 году, что война, которая началась в августе, будет закончена к Рождеству. Английские студенты университетов спешили к вербовочным центрам в первые дни войны, обеспокоенные тем, что бой может закончиться прежде, чем они почувствуют вкус крови. Французские фермеры, движущиеся от своих урожаев к линии фронтовых траншей Фландрии, русская аристократия, сконцентрированная у Дуная, политики, которые их всех повели за собой, – все они действовали, основываясь на этой убежденности. Мрачные раздумья министра иностранных дел Великобритании сэра Эдварда Грея вечером 3 августа 1914 года, в первую ночь войны, были одинокими: «Лампы гаснут по всей Европе, – сказал он. – Мы не увидим, как они снова загорятся в нашей жизни».
Первая мировая война была своего рода инженерной трагедией. Катастрофа имела глубокие корни – во внутренней политике, в отсутствии безопасности королей, в абсолютной колониальной жадности, – и была в то же время обусловлена фундаментальными просчетами в осознании природы войны и мира в промышленную эпоху. Пулеметы и все инструменты промышленной войны – от газа до боевых кораблей – не были волшебными инструментами быстрого ведения войны или поддержания постоянного мира, как думали некоторые. Механизированная современная военная машина не была, как это могло показаться в теории, или на тренировках, или в массовых убийствах в африканских зарослях, каким-то паровым прессом для холодной деформации армий Бельгии, Пруссии и Франции. На самом деле это оружие побуждало к сражениям, бесконечно накапливаясь в национальных арсеналах. Оно пробуждало ожидания быстрого или внезапного нападения даже в том случае, когда невероятная континентальная потребность насилия была удовлетворена. Поэтическая шутка Хиллара Беллока – это с легкостью сказанное: «У нас были пулеметы «максим», а у них нет», – обрела неожиданный характер, когда обе стороны имели его. Роль огненной мощи пулеметов проявилась не в том, чтобы побудить всех прекратить войну, как некогда надеялся Гатлинг, а в том, что они породнились с колючей проволокой, лопатами и газом, вперемешку со страхом прикосновения к спусковому крючку двадцатилетних мальчиков. Итог: шестьдесят тысяч жертв британских солдат только за один день 1 июля 1916 года в битве на Сомме.
Рифмы изменились. Тиски перекрестного пулеметного огня Хиллара Беллока остались лишь в памяти оголодавших, изумленных и шокированных на поле битвы людей. Зигфрид Сассун писал:
- Вы, сборище холеных лиц с горящим взором,
- Приветствуя юнцов – солдат, шагающих пред вами,
- Крадетесь вы домой, взывая к Богу,
- Моля, чтоб не познать самим врат ада, в которые
- идут их молодость и смех.
В то время как солдаты окапывались в траншеях, что выдержат пять военных лет, невероятная стратегическая мысль озарила умы генералов, руководивших армией Европы. Великая война должна была исполнить роль погребального склепа. Континент был выстроен как боевая машина, соединенная линиями железнодорожных путей, телеграфа и армейскими коммуникациями. Передачи заднего хода не было. Не было также предусмотрено конструктивной возможности замедлить ход, не говоря уже о том, чтобы остановиться. Массивная, технологически вооруженная, быстродвижущаяся система, возбуждаемая революционными процессами и выстроенная без учета роли личностей или наций, вышла из-под контроля. А что же люди, ответственные за планирование и направление использования этого сверхскоростного комплекса? Они подвели всех: своих солдат, королей, свои армии. Они все утратили чувство реальности в восприятии истинной природы своего времени.
Звучит знакомо, не правда ли?
Таким образом, возникает вопрос о насилии, допускающий возможность трагедии, который лучше бы вам и вовсе не решать: вероятность нового формата войны, новое оружие, обновленная концепция боевых действий. Сохраняет ли это вашу жизнь мирной или становится вероломным? Смертоносность уравнения: (пушки машины) – в конце XIX века казалась некоторым промышленникам, банкирам и государственным деятелям неоспоримым основанием мира. Кто осмелится начать войну с тем, кто обладал смертоносным и эффективным оружием? Как мы теперь знаем, соотношение (
Так что давайте немного снизим тональность рассуждений об этом и задумаемся, чему равно произведение «глобальные сети оружие». Какие существуют бедственные последствия для нашего собственного будущего, столь же невообразимые с нашей современной точки зрения, как итог использования пулеметов сто лет назад? Считаем ли мы войну невозможной сейчас? Есть нечто отталкивающее в подобных вопросах, конечно. Но вспомните о поколениях мужчин и женщин, которые тысячелетиями задавали себе подобные вопросы, хорошо зная, что ответ будет измеряться мерками крови, утрат детей, сбережений. Поставьте себя на место жителей Мелоса, миролюбивого средиземноморского острова, чье разорение двадцать четыре столетия назад было описано Фукидидом в «Пелопоннесской войне». «Вы, конечно, понимаете, что вы являетесь островитянами, а мы контролируем океан», – объявил Совету Мелианских граждан однажды в 416 г. до н. э. незваный афинский полководец, в то время, как его солдаты и корабли угрожающе окружали стены города. Афины настаивали, чтобы мелиане вступили в альянс против Спарты. Мелиане – как незадачливые Линь Цзэсюй и Лобенгула из матабеле – жаждали только одного – чтобы их оставили в покое. «Вы не согласны, чтобы мы остались нейтральными, друзьями, а не врагами или союзниками любой из сторон?» – вопрошали они. Нет, отвечали афиняне, а затем подошли к черте, символизирующей извечную проблему всех народов: «Природа власти состоит в том, что ею обладает тот, кто берет ее в свои руки, а тот, кто не способен ее сохранить, должен покориться». Мелиане проголосовали против капитуляции. А вдруг спартанцы смогли бы предпринять освободительный рейд? А может, афиняне изменят свое мнение? Не произошло ни то, ни другое. Мужчины-мелиане были обмануты, а затем уничтожены. Их жены и дети были проданы в рабство.
Какова роль глобальных сетей, когда речь заходит о балансе сил войны и мира? Как мы можем использовать то, что мы ощущаем, что мы знаем об эпохе коммуникаций, чтобы управлять возможными рисками? В то время как конец девятнадцатого века характеризовался Культом Нападения, наш век колеблется, смещаясь, как мы видим, к Культу Разрушения. Грандиозной сказкой нашего времени является установление нового, перспективного и дезориентирующего сетевого миропорядка. Нам говорят, что все эти тотальные, объединяющие мир коммуникации делают войну невозможной. Каждый проиграет в такой войне. То, в чем прежний век оказался столь ужасно неправ в своем отношении к произведению «пушки машины», должно расстроить нас. Мы не ведаем, что еще может означать соотношение «глобальные сети оружие», не говоря уже о комбинации «сети сети оружие». Или, с учетом выводов, к которым мы пришли на страницах этой книги: «высокоскоростные сети искусственный интеллект черные ящики Новая Каста сжатие времени повседневные заботы оружие». Если вы более внимательно рассмотрите эту странную формулу, вы, безусловно, спросите: «Эй, а кто-нибудь из нас с этим справится?» Я бы не рискнул. Мы должны побеспокоиться о том дне, когда мы сможем столкнуться со своим собственным мелианским выбором, в ситуации, когда вдруг обнаружится какой-нибудь нежданный верховный или информационный деспот, или сетевой монстр, и скажет нам: всем должно быть ясно, что вы только узелки сети, которой управляю я.
Когда мировые лидеры – известные деятели внешней политики – называют «главными проблемами» нашего века подъем Китая, кибероружие, терроризм или упадок Соединенных Штатов, они не учитывают главного – революционную, объединенную силу, которая вдохновляет их всех: глобальные сети. Если мы пытаемся выкорчевать корни исламского государства, замедлить российские помыслы о расширении своих границ, понять экономику наркоторговли или финансовые модели хедж-фондов, посредством подключения к информационным сетям мы сможем установить и дать точное определение каждой проблеме. В настоящее время, как новые побеги расцветающих сетевых коммуникаций, образуются новые и существенно важные платформы проведения финансовых операций, накопления биологических данных и искусственного интеллекта. Эти экосистемы проектируются, строятся, оснащаются системами защиты одновременно с тем, как наш, привычный нам мир сопротивляется, иногда разрушаясь, иногда борясь за свою жизнь. Я обещал ранее, что мы используем Седьмое чувство в решении практических вопросов, одним из которых, требующих безусловного рассмотрения, является жизненно важная проблема войны и мира. Наиболее явным вызовом при построении истинного миропонимания является разработка генеральной стратегии. Будет ясное ее понимание, и вы сможете обеспечить свою безопасность. Энергетический потенциал настоящего времени может стать вашим орудием. Совершите ошибку в стратегии, и вы пожнете плоды поражения, как в битвах у Сомме, Мелоса, Кантона, Шангани. Вспомните еще раз некогда написанное генералом Лю Ячжоу: «Лидирующее государство может проиграть несколько сражений, но единственное поражение, которое может стать фатальным для него, – это оказаться побежденным в стратегии».
Руководители известных нам крупных мировых держав могут не видеть опасностей и возможностей нашего мира, как это произошло в свое время с руководителями европейских государств сто лет назад. Теперь вам известно, насколько важно сейчас Седьмое чувство. Кто им обладает? Мы должны понять, стоит ли нам сделать Хирама Максима лучше. Разработано ли в нашу эру коммуникаций нечто максимально эффективное, что позволит нам быстрее перерезать друг другу глотки? Уверен, что это не так, но понимание этого означает, что мы должны воспринимать глобальные сети и чувствовать их с учетом нашего нового мироощущения.
Не сложно определить основную проблему политики. Это утверждение справедливо и для Сенеки в римском форуме, и для Лобенгулы на берегу реки Шангани, и сегодня – для конгрессменов в Вашингтоне или функционеров в Пекине. Кто обладает властью? Зачем? В понятие «власть» я вкладываю способность контролировать других, говорить им, что делать или чего не делать, и, конечно же, возможность избежать того, чтобы тебе кто-то диктовал, что делать: «сдаться или умереть». Макс Вебер, немецкий социолог прошлого века, был прав, когда определял власть термином Могущество, возможность достичь того, чего вы хотите, несмотря на сопротивление других. «Не смейте разрабатывать ядерное оружие», «Не смейте нападать на нас» или «Вы должны присоединиться к нашему альянсу против Спарты» – все это является примерами Могущества в действии.
Теперь наш мир перестраивается в новый порядок, и Могущество выражается в видоизменении всех внутренних или внешних границ. То, на что указывает нам Седьмое чувство, по мере того, как оно оценивает все то, что мы пытаемся устроить, является затворами. Повсеместно. Мир не описывается какой-то расширенной, плоской и равномерно взаимосвязанной топологией. Он наполнен замкнутыми и затворенными пространствами. Facebook. Пользователи Bitcoin. Доктора с выделенным доступом к базам генетических данных. Члены Новой Касты. Те, ранее упомянутые революционные инвесторы, замаскировавшиеся в офисах на Сэнд-Хилл-роад, подобных кабинетам дантистов. Все они обособлены, затворены в своих внутренних или внешних пространствах. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, сколько затворов ограничивает вас, вашу семью или вашу компанию. Интернет. Индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange Index). Ваша операционная система компании Apple или Android. В наш век коммуникаций начертание линии между точками является одновременно нанесением линии вокруг этих точек. Это означает, что мы теперь не прост запутались в сетях, нет, мы замкнуты и даже захвачены ими. Тогда как главным стремлением в эру Сесиля Родса были обширные завоевания территорий – чем больше территории, тем выше Могущество, – в наше время власть формируется в строительстве и контроле обособленных, закрытых пространств – Гейтлэндов (англ. – Gatelands).
Как следствие, сегодня ни одна позиция не является более важной, грозной, влиятельной, доходной, чем должность привратника в Гейтлэнде. Определение тех, кто будет находиться внутри или снаружи той или иной, является одним из наиболее важных этапов ее дизайна. Вердикт «принять или отклонить», касающийся финансовых рынков, корневой системы Интернета или иммунной системы человека, является главным ключом сделки. Первым признаком начала разрушения, будь то в Римской империи или в ваших легких, является неспособность управлять тем, что проскальзывает вовнутрь или наружу. Потоки битов, мигрантов, золота, изобретений и лекарств – все эти воздействия могут быть подконтрольными, видоизменены к лучшему, защищены от болезней в результате их остановки или прохождения сквозь созданные заслонки.
Под «заслонками» я имею в виду не только регулирование переходов «в» или «из», но и протоколы, языки, систему блокировки. Все, что связывает или формирует топологию, является заслонкой. Коды, шифры, бинарные инструкции описывают алгоритм взаимодействия между внутренней и внешней составляющими сетей. Аналогично торговым соглашениям, финансовым правилам и законам. Если вы хотите сколотить состояние или совершить революцию (или и то, и другое), то есть если вы надеетесь разрушить какие-то инструменты и идеи, препятствующие достижению вашей мечты, или если вы решили осуществить религиозное возрождение или участвовать в распространении ненавистнической или революционной заразы, или вы – создатель коварного компьютерного кода, – тогда, безусловно, вы должны в первую очередь найти ответ на следующие вопросы: Где расположена защитная «заслонка»? Как ликвидировать ее? Как построить свои собственные барьеры?
Если старые, иерархические системы, как известно, тяготели к вершинам пирамид власти – королю, Папе, то наш век выстраивается посредством создания систем регулирования сетевого пространства: протоколов и ограничительных заслонок. Оказавшись в мире высокоскоростных глобальных коммуникаций, нам следует предусмотреть и систему сдерживания (тормоза), и систему регулирования потоков информационного обмена (дроссель). Перераспределение «властных полномочий» спровоцирует борьбу за топологические пространства. Кто станет ключевой фигурой – привратником мира финансов, биологии, торговли и многих других источников могущества? Подобные схватки в борьбе за контроль пространств будут столь же определяющими и важными, как в свое время оборона Родоса его рыцарями, покинувшими остров морем после его ожесточенной осады. Внутри вы сетевого мира или вне его? Вот по какому критерию будет оцениваться ваше Могущество: являетесь ли вы «привратником» и контролируете доступ, или вы подконтрольны и сами ожидаете разрешения доступа?
Мы входим в Гейтлэнд уже в тот момент, когда включаем наши телефоны. Мы проникаем туда всякий раз, когда заказываем билет на самолет, когда наша генетическая информация помещается в базу данных и, тем более, когда мы поднимаемся на новый уровень, осваивая язык программирования или проверяя друзей с помощью той или иной подключенной сетевой платформы. Итак, мы входим в Гейтлэнд, когда мы подсоединяемся к сети. А «привратники» выбирают то, что мы можем увидеть. Они определяют правила, которым мы следуем, что мы можем, а что не можем изменить. Они вознаграждают нас – как только мы попадаем внутрь, – предоставляя определенные преимуществами в скорости, в объеме информации и безопасности. Функции «привратника» могут выполнять как люди, так и протоколы или договоры, – они решают, кто может присоединиться к закрытому сообществу, а кто остается вне его и почему. Они предоставляют нам чудесные возможности, обусловленные сжатием времени, одновременно подвергая нас потенциальной опасности, которая может однажды коснуться любого, оказавшегося в замкнутом пространстве. «Привратники» контролируют и то, каким образом (и как быстро) происходит обмен информационными финансовыми данными между непосредственными участниками торговых площадок, имеющими необходимый доступ, и потребителями на поверхности сетевого рынка. То, что вы можете увидеть в телефоне, в своей медицинской документации или в корзине покупок интернет-магазинов, – все подобные операционные действия совершены с участием «привратников». Они смогут, если захотят, манипулировать любым вашим шагом в сетевой жизни, в пределах сферы своих полномочий и, соответственно, могут влиять на характер ваших данных, поведение машин и вас самих. Граница между возможностями получения истинных и искаженных результатов поиска весьма условна.
Концепция Гейтлэнда родилась еще в 1920-е годы применительно к газетам, когда политики, рекламодатели и некоторые социологи, отмечая информационный взрыв печати, не скрывали неприятного ощущения от того, каким представлялся мир в большинстве печатных изданий. Личные капризы редактора или экономические интересы его босса часто решали, какие «факты» должны наполнять газету. Незначительные международные инциденты могли быть превращены в вызывающие ужас сенсации. Основные глобальные сдвиги могли быть проигнорированы. «Привратники» сегодняшнего дня, безусловно, располагают более широким спектром приемов. Они могут осуществлять невидимый, с их точки зрения, исторически важный контроль, входя в состав правительств или регулирующих государственных органов, являясь руководителями корпораций, или машинами, или исследовательскими комитетами, каждый из которых участвует в контроле за разработкой и развитием систем, от которых мы зависим. Вы хотите получить точный анализ ДНК? Или защититься от эпидемии? Сформировать систему киберзащиты? Как вы, верно, догадываетесь, вы не сможете получить ничего из перечисленного, пока вы не пройдете через контролируемые кем-то «ворота» Гейтлэнда. Даже те системы, которые выглядят открытыми, – Интернет, мир долларовых транзакций США, регистры избирательных списков – ограждены подобными «воротами». Конечно, время от времени возникает баланс между «привратниками» и теми, кого контролируют ворота Гейтлэнда, между теми из нас, кто находится внутри системы, и инструментами и людьми, которые контролируют нас. «Традиционная литература фокусируется в основном на «привратниках» как на элите, которая сосредоточила в своих руках власть, в то время как те, кто огражден воротами, обычно рассматриваются как бессильные… – утверждает информационный теоретик Карина Нахон. – В информационных сетях вместе с тем следует придавать достаточный вес роли именно тех, кто внутри за воротами, поскольку быть предметом пристального внимания «привратника» вовсе не означает бессилие, или недостаток альтернативы, или что привратник проявляет принуждение. В действительности находиться в окружении ворот Гейтлэнда иногда является вопросом выбора». Но иногда, конечно, это также следствие необходимости.
Прежний мир, более неспешный, в отсутствие сетевых коммуникаций, также имел свои ограничения. Нации, правительства, военные, религиозные порядки – все это было укомплектовано и огорожено определенными линиями: линиями карт, линиями фронта, догматическими линиями. Союз Антанты, связывавший Великобританию, Францию и Россию вместе в прошлом веке, был той же системой их собственной безопасности, подобный Гейтлэнду, чем была и Пелопоннесская лига двадцать пять сотен лет назад. Решение о том, кто мог бы поменять шелк на специи за пределами границы династии Тан, было связано с ограничениями, подобными Гейтлэнду и имеющими такие же значимые последствия для китайских стратегов восьмого столетия, как и решение о том, что может или не может быть завезено в Трою для ее трагически неосторожного Совета. Но теперь, в эпоху, когда так много определяют коммуникации, контроль над Гейтлэндом дает его «привратникам» столь уникальные рычаги. И наконец, когда вы смогли разобраться в топологии нашего века, ощутив гнев или разочарование, надежду или готовность действовать, один из первых вопросов, которые вы должны себе задать, должен быть следующим: где «ворота», если я нахожусь в топологии Гейтлэнда?
Ограничительные меры в эпоху мгновенных, тотальных, интеллектуальных сетей, насколько вы можете себе представить, отличаются от тех пограничных ворот, что защищали в свое время Трою или династию Тан. Это обусловлено не только тем, что они виртуальные, а не кирпичные. Это подчеркивает основное различие природы их могущества. Наиболее заметное свидетельство этого различия впервые было обнаружено экономистами пару десятилетий назад, когда они рассматривали первые достижения Информационного Века, его богатств, которые были сформированы в мгновение ока. Бизнес традиционного старого уклада с течением времени всегда превращался в конкурентоспособные фирмы с очень низкой прибылью. Но многие высокотехнологичные компании, как кажется, подчиняются новой, почти обратной логике. Чем дольше они существовали, тем более прибыльными они становились. «Наше понимание того, как работают рынки и предприятия, передалось нам более ста лет назад от группы европейских экономистов – Альфредом Маршаллом в Англии и некоторыми из его современников на континенте, – писал экономист Брайан Артур в «Гарвард Бизнес Ревью» летом 1996 года. – Это понимание основано на предположении убывающей прибыли: продукты или компании, которые лидировали на рынке, в конечном итоге неизбежно сталкиваются с ограничениями». Маршалл был первым, кто в 1890-х годах определил это явление, как «убывающая доходность». По мере того как направление бизнеса становится более конкурентным, прибыль или доходность инвестиций сокращаются. Генри Форд изобретает автомобиль и, первоначально не имея конкуренции, просто «печатает» деньги. Однако Форд недолго наслаждается своей монополией. Уже скоро братья Додж следуют за ним в этот бизнес, а затем и Уолтер Крайслер, и далее – поток новых автомобильных компаний. Каждый из них претендует на свой кусок пирога Форда, и прибыль каждой фирмы, производящей автомобили, снижается. Затем наваливаются японские автопроизводители. Показывают себя корейцы. Все эти новые компании конкурируют с растущей интенсивностью. Прибыль снижается у всех. А далее появляются компании Индии, Китая.
Изучая балансы IT-фирм в 1990-е годы, Брайан Артур заметил нечто странное: их доходы увеличивались с течением времени. По мере созревания высокотехнологичных рынков маржинальный доход некоторых компаний становился с каждым днем больше, а не меньше. В девятнадцатом веке экономика промышленности Маршалла никогда не соприкасалась с подобной, до абсурда прибыльной организацией бизнеса. «Повышение доходности, – пояснял Артур, – является тенденцией того, что то, что является передовым, побуждает нас достигать еще большего. Это механизмы положительной обратной связи – с рынками, компаниями и отраслями промышленности, которые усиливают то, что приносит успех, или усиливают то, что приносит убытки». Другими словами: «победитель получает все. Второго места не существует».
Брайан Артур описал свои размышления о том, как зарождался бизнес компьютерного программного обеспечения. Представьте, что Артур впервые направил вам файл в формате документа Microsoft Word. Если вы захотели открыть и прочитать его, вы должны были и сами владеть программой Word. А если после прочтения вы сами послали документ другим нескольким друзьям, они оказались бы в точно таком же положении. Таким образом, пользователи один за другим приобрели программу Word. Это стало стандартом, «платформой», как говорят программисты.
Компания Microsoft умело использовала экономические рычаги: разработка Word, вероятно, стоила миллионы, но как только работа была сделана, производство каждой дополнительной копии стало стоить центы. Такого рода рентабельность потребовала совершенно новой экономики. Она заставила пересмотреть само понятие «конкуренция». После того как Excel или Windows заняли свои места, став стандартными, вы не смогли бы реально конкурировать с ними. Новые, оптимистичные, может быть, даже лучшие соперники могли бы ворваться в рынок, подобно атаке братьев Додж на Ford, но все они штурмовали неприступную стену привычки и заблокированной технологии. Было ли это законно? – задавался вопросом Артур. Традиционная экономика говорит, что такие монополии вредны для всех (той же точки зрения придерживались и министерство юстиции, и его мировые коллеги, когда они преследовали Microsoft). Но было ли это правильно? «Дивиденды платформы», которые была начислены Microsoft, были, несомненно, большими, но это было награда за то, они смогли предоставить благо всему миру. Удобство, эффективность, полученные нами миллиардные преимущества в экономии затрат могут затмить даже столь невероятные прибыли компании. «Повышение доходности, – написал Артур, – заставляет бизнес работать по-другому, и это меняет наши представленя о том, как строится бизнес в их головах.»
Важнейшим явлением, о котором Артур упоминал в своей работе два десятилетия назад, было то, что мы теперь знаем как «сетевые эффекты». Это понятие, которое изменило наши представления о бизнесе, и в частности об удушливом и привлекательном могуществе глобальных коммуникационных систем Гейтлэнда. В последующие годы, уже после того, как работа Артура была опубликована, миллиарды людей безумно последовали по пути, который он предсказал: мы терпели неудачи в неудержимом стремлении к этим одиночным, всепобеждающим бизнесам, награждая их практически монопольным правом в обмен на нашу возможность быть «внутри». Через двадцать лет после того, как Артур отметил возрастающую доходность разработок программного обеспечения, появились целые миры с девятью миллиардами пользователей – и другие, идущие им вслед. Офисы Microsoft и Windows, Google Search, Google Maps, Facebook, WhatsApp, Google Chrome, YouTube и Android – все имеют более миллиарда пользователей, и каждый из них привлекает вас сетевой логикой слогана: «Если ты используешь это, тогда я тоже буду!» Прибыли и власть, как мог бы ожидать Артур, идут рука об руку.
Все происходило так, как и предсказал Артур: если десять человек используют WhatsApp, или Facebook, или YouTube, для одиннадцатого трудно выбрать что-то иное. А когда одиннадцатый человек присоединяется, он для двенадцатого делает возможность идти своей собственной уникальной дорогой, еще более трудной. Таким образом, спустя тридцать лет после своего первого релиза Windows была установлена на 90 процентов персональных компьютерах на земном шаре. Google имеет долю рынка в 65 процентов. Android работает на 81 проценте новых смартфонов. WhatsApp – компания с менее чем пятьюдесятью инженерами в штате завладело миллиардом пользователей. Facebook прошел через миллиард подключенных участников и не столкнулся ни с никакой реальной конкуренцией. Как это могло произойти? «Семь друзей за десять дней», – повторяли это как заклинание хакеры роста Facebook в первые годы существования компании. Если вы или я присоединялись к сервису и находили семь друзей в течение десяти дней, мы, пользуясь свойствами Гейтлэнда, для некоего «друга номер восемь» усложнили (а на самом деле сделали практически нереальой) возможность странствовать где-то еще. Довольно скоро, во всяком случае, ему будет просто некуда пойти. В этом проявилось сетевое Могущество в действии.
Теоретики глобальных сетей, пришедшие на смену Артуру, назвали эти системы, способствующие богатым становиться еще богаче, системами «распределения могущества», потому что если вы выстроите в ряд все фирмы цифровой индустрии по их значимости в первой десятке или сотне, то вы обнаружите, что победители в экспоненциальной зависимости опережают всех остальных. Они свободно «скользят» по кривой нормального распределения, которая описывает положение большинства бизнесов. Формирование нормального распределения подобно тому, как можно было бы описать статистику владельцев автомобилей: 20 процентам принадлежат автомобили марки «Форд», 10 процентам – «Ниссан» и «Тойота», и так далее. Или это может выглядеть как кривая распределения людей в зависимости от их роста: большинство мужчин имеют рост в пределах 5,7–5,11 футов, и лишь немногим более 30 процентов укладываются в разброс величин другого роста. Сетевые системы, однако, могут порождать своих определяющих лидеров. Это не значит тем не менее, что 50 процентов пользователей находятся в Интернет-сети, а другие разбросаны по иным различным системам. Пользователи группируются в обособленные, превалирующие объединения. Это как если бы 90 процентов мира всегда покупали автомобиль только марки «Форд», а 90 процентов людей имели рост, равный 5,11 футам.
Эти системы работают быстрее, лучше и более прибыльно, потому что они представляют собой системы, распределенные между большим числом пользователей. Они регулируются «воротами» (Гейтлэнд) в соответствие с определенными технологическими стандартами и структурой общих коммуникационных связей. Когда мы говорим, что глобальным сетям необходимо регулирование, мы о таких «воротах» и ведем речь. Если бы вы были вынуждены искать один за другим своих друзей на Facebook, Friendster, MySpace и Google Plus, вы бы окончательно изнурили себя. Таким образом, выявился бы первый победитель. Ученые-статистики объясняют сетевое распространение с так называемым эфектом предпочтительного прикрепления. Суть в том, что если бы, например, Брайан Артур использовал Microsoft Word, а затем я бы стал также использовать его, то вы, вероятно, сделали бы так же. Но есть еще один секрет: более широкое распространение продукта делает работу всей системы быстрее. Представьте пять механиков, пытающихся починить сломанный двигатель. Если все они говорят по-английски, автомобиль вернется на дорогу намного быстрее. Коммуникации оптимизируют себя сами, чтобы увеличить скорость и иметь возможность лучше сжимать время. Победитель получает все именно потому, что и мы, в свою очередь, выигрываем от достигнутой эффективности.
Существует еще одна характерная черта в действии самого нового из этих насыщенных объединений, которая достойна нашего внимания: дело не только в том, что мы будем использовать их, потому что все, как нам кажется, так делают; но и потому, что чем больше пользователей и гаджетов переплетаются в жизни друг друга, тем умнее становятся эти узлы сетевого могущества. Google Maps может проложить самый короткий и быстрый маршрут от вашего дома в офис, потому что этот сервис может наблюдать за движениями сотен миллионов пользователей, молча определяя их местоположение и скорость. Поскольку все больше людей используют устройства с поддержкой GPS, качество этих данных становится в разы лучше, подобно видео, преобразованному из низкокачественного разрешения в формат HD. Успех привлекает еще больше пользователей. Все они, в известном смысле, становятся информационными датчиками компании Google. Медицинская диагностика, кибербезопасность, торговые алгоритмы – почти любая сфера взаимодействия чипов, людей и датчиков созвучна этой логике. Лучшие из ведущих технологических фирм осознают этот потенциал. Инструмент искусственного интеллекта Google, TensorFlow уже в 2015 году, когда компания всем открыла бесплатный доступ, рассматривался экспертами как опережающий конкурентов почти на десять лет. В традиционных экономических моделях это было бы безрассудством, но в контексте глобальной сетевой логики стратегия ясна: чем больше людей, которые используют TensorFlow, тем более совершенна она становится, привлекая, в свою очередь, еще больше пользователей. Взаимосвязанные и самообучающиеся комбинации человеческого разума и информационных данных, подобных TensorFlow и схожих нею систем с искусственным интеллектом, которые мы увидим в самое ближайшее время, являются вариациями мира Гейтлэнда.
Топологическое построение этих взрывообразно растущих образований впервые было упорядочено инженером-электриком Бобом Меткалфом в 1970-е годы. Меткалф занимался разработкой способов передачи данных – скажем, списков продуктов для своей жены – через Менло-Парк и усовершенствовал протокол пакетной передачи данных, который назвал Ethernet, ставший вскоре общим стандартом соединения в компьютерных сетях. Меткалф отмечал, что по мере того, как все больше и больше пользователей погружались в мир Гейтлэнда Ethernet-интегрированных компьютеров Стэнфорда, охват системы рос экспоненциально. Система с одним телефоном, например, на самом деле не очень полезна. Кому бы вы звонили? Система с двумя телефонами означает, что есть одна возможная связь, мы можем звонить друг другу. Но когда вы увеличите количество телефонов в два раза – от пяти до десяти, скажем, – число возможных соединений увеличится более чем в два раза, от двадцати пяти до девяноста. Разница между Бобом Меткалфом и его женой, обменивающимися продуктовыми списками, и национальной коммуникационной сетью мужей и жен огромна – прозрение, которое привело Боба Меткалфа и его жену к созданию сетевой компании, сделавших их миллиардерами.
На закон Меткалфа можно взглянуть с другого ракурса, когда он работает там, где раскрываются некоторые из уникальных сетевых ворот Могущества Гейтлэнда: дело не только в том, что масштабы и энергия сети растет экспоненциально с каждым дополнительным пользователем, а в том, что стоимостные последствия быть отрезанным от сетевого пространства также возрастает. Может быть, даже быстрее. Если закрыть для вас Google сегодня, это будет, безусловно, болезненно. Но завтра – после дня получения новой информации веб-сайтов и услуг, поступающих онлайн, – это будет стоить еще дороже. Сетевые ученые Рахул Тонгиа и Эрнест Уилсон назвали это «оборотной стороной закона Меткалфа». Быть отключенным от доступа к базе данных генетики рака, когда речь идет о миллионе ее членов, например, может быть не такой болезненной проблемой, но быть лишенным возможности сравнить свои гены с миллиардом других может привести к летальному исходу. Представьте себе, что я отрезал вас завтра от доступа к Нью-Йоркской фондовой бирже, вашей телефонной системе, интелектуальных диагностических сетей, системы кибербезопасности? Некуда идти. Это не тот случай, когда вы можете поменять свой «Форд» на «Додж». Система Гейтлэнда – «победитель получает все» – одновременно означает «проигравший не получает ничего».
Дисциплина, изучающая глобальные сети и известная как «теория массового обслуживания», помогает нам понять почему. Как показывают результаты исследований массовых коммуникационных систем, чем больше компьютор расходует времени на решение своей основной задачи – будь то охота за простыми числами или образцами ДНК – и меньше тратит времени на определение того, как они будут вычислять, тем быстрее они работают. Лучшие протоколы позволяют избежать столь ужасающей утраты эффективности. На самом деле большой прорыв в компьютерных системах последних лет был обусловлен их способностью обрабатывать большие объемы данных одновременно, чтобы поддерживать уровни информации в эквивалентном состоянии в различных местах мира. Это было существенным техническим скачком, который позволял сжимать время. Но он полностью зависел от конструкции «заслонок» системы безопасности Гейтлэнда.
Оказаться внутри Гейтлэнда, по сути, означает быстродействие в высокоскоростных коммуникациях – настолько, насколько это возможно. Эти системы предназначены для сжатия времени: чтобы перенести вас ближе к друзьям, торговым площадкам, защитным альянсам, и быстрее, чем в любых других системах, не регулируемых общими правилами. Победители, работающие в глобальных сетях, получат еще больше, потому что это просто быстрее. Именно поэтому система ограничений Гейтлэнда будет доминировать в нашем будущем. Гейтлэнд нашего времени отличается от старого, поэтому было бы смертельно затратно пренебрегать им в угоду невероятно медленному миру. Именно поэтому освоение сетевых «ворот» предсталяется намного более прибыльным, чем золотые рудники Сесиля Родса. Вспомните также об играх властей старой индустриальной эпохи, сравнив то, как 150 лет назад Великобритания и Германия пытались соответствовать друг другу в своем промышленном производстве, ведя беспощадную конкурентную борьбу. И представьте себе, если бы были доступны преимущества глобальных сетей и, например, первоначально уже на старте Промышленной революции Великобритания бы захватила 90 процентов рынка глобальной торговли. Германия никогда даже и не пыталась бы конкурировать. Их судьба была бы сходной результатам сервиса знакомств Friendster в двадцатом веке: изолированный, медленно растущий, бессильный и, наконец, обанкротившийся или поглощенный. Не было бы необходимости в Первой или Второй мировых войнах. Это была бы совершенно другая эпоха.
Как только миллиард людей становятся связанными друг с другом, неизбежно появляется что-то вроде Facebook, Гейтлэнда, в которых люди могут взаимодействовать друг с другом. Как только каждый получает возможность записывать, просматривать и обмениваться видео, появляется нечто подобное YouTube. Смысл новаций не в том, чтобы заимствовать что-то гениальное или управленческие тайны у лиц, которые построили эти системы, а в систематизации. Сети действительно формируют определенные требования. Прежде, чем мы попытаемся преобразовать окружающий мир или задаемся вопросом, какими властными полномочиями мы располагаем, чтобы видоизменить его в то, чем мы сможем управлять и что мы сможем предсказывать и контролировать, мы всегда должны спросить себя: каковы требования сетей?
Мир нуждается в протоколе быстрой конвертации валют, в протоколе базового языка. Он хочет место для обмена информацией о дырах ИТ-безопасности. Он нуждается в построении системы мгновенного перевода, чтобы устранить потребность изучения английского, китайского или испанского языков, с тем чтобы мир мог развиваться еще быстрее. Я верю, что он нуждается в образовании определенных видов союзов, особого типа централизованной власти, и жаждет новых форм политики. Для любой страны, контролирующей подобные «гейтлэнды», существует возможность создания платформ контроля – Гейтлэнда, формирования протоколов, которые свяжут эти платформы вместе так же, как дороги или реактивные самолеты связывают физический мир. Из двенадцати самых популярных мобильных приложений девять связаны с системами, такими как Google, Apple и Microsoft. Непреложный закон Гейтлэнда: коммуникации – это могущество. Это потенциал еще большего увеличения преимущества. Система контроля, присущая Гейтлэнду в итоге становится нашим самым могущественным средством контроля.
Вас не удивляет, что в последние годы, например, в мире наблюдается стремление к построению физических барьеров, преград и стен, возводимых на границах между странами. Рон Аснэ и Джейсон Виттенберг, два американских политолога, оценивая темпы глобального строительства стен, обнаружили, что из пятидесяти одной национальной ограды, построенной после окончания Второй мировой войны, – Берлинская стена является наиболее известным примером – более половины других были построены в спешке, в период с 2000 по 2014 год. И этот процесс развивается: Венгрия, Кения, Алжир и Индия в настоящее время приступили к первым работам по обустройству своих границ, где могут быть построены стены. Мы можем стаь свидетелями и более бурного развития. Испанское правительство, например, в 1998 году возвело стену в десять футов высотой, увенчанную колючей проволокой и камерами, вокруг своих плацдармов в Сахаре. Огороженная территория оказалась под контролем Мадрида, технически это была «Европа», что сделало ее непреодолимой преградой для потенциальных мигрантов. Однако ограждения было не достаточно, чтобы остановить их потоки. В результате в 2001 году была построена вторая линия ограждения вокруг первой. Затем, в 2005 году, тысячи отчаявшихся африканцев предприняли скоординированные атаки. Пара десятков мигрантов погибли в этой попытке; тысячи добрались до конца. Испанцы ответили третьей линией ограждения, теперь уже в двадцать один фут высотой, с подключенным электротоком и камерами наблюдения. В отличие от традиционных линий обороны – Линии Мажино или Великой Китайской стены, например, – целью барьеров двадцать первого века в таких странах, как Израиль, или Соединенные Штаты, или испанское Марокко, было не столько остановить подобные потоки блицкрига, сколько замедлить движение контрабандистов, шпионов, преступников или групп беженцев. В предназначении этих укрепленных границ наблюдается определенная асимметрия. Они главным образом задуманы и выстроены более богатыми, более современными, более стабильными странами, отчаявшимися контролировать тех, кто въезжает и выезжает. С каждым годом, как заключили Аснэ и Виттенберг, кажется, что стены, заборы и рвы современного мира становятся более длинными, более амбициозными и лучше защищенными. А создание пунктов пропуска, регулируемых «ворот», как мы можем теперь догадываться, является следствием коммуникаций.
После пандемии Эболы 2014–15 годов, вновь вернувшись к проблеме заражения смертельными заболеваниями, Билл Гейтс переосмыслил ее причины в контексте развития комуникаций и систем Гейтлэнда в сегодняшних неспокойных условиях. «Существует большая вероятность того, что эпидемия существенно более опасных инфекционных заболеваний может наступить в течение ближайших 20 лет», – писал он. «На самом деле, из всех причин, которые могли бы вызвать смерть более 10 миллионов человек во всем мире, это могла бы быть эпидемия, являющаяся следствием как естественных причин, так и биотерроризма». Это является ценой формирования быстроразвивающегося, взаимосвязанного мира. Это же следует и из высказывания Пола Вирильо о том, что если самолеты являются причиной авиакатастроф, то сети будут вызывать сетевые аварии. Частью того, что привело к успеху в противодействии распространения эпидемии Эбола, было то, что ответ действительно основан на построении «ворот», а не стен. Функцию этих «ворот» выполнили протоколы для биологического воздействия, оказания медицинской помощи, мониторинга эпидемии, с оперативным применением вертолетов поддержки, помощи и разума. «Ворота», установленные вокруг пандемии Эбола, были ее решением. Если бы она просто была изолирована, она бы возросла, мутировала и, наконец, проявилась бы в еще более опасной форме. Мир, восприимчивый к заражению, как утверждает Гейтс, нуждается и ощущает нехватку в увеличении числа «ворот». (Было бы правильным, на мой взгляд, сделать паузу и дважды задуматься о счастливом совпадении и необычности того факта, что самый богатый гражданин эпохи Гейтлэнда носит фамилию Гейтс (Gates – ворота). Как и Рокфеллер (Rockefeller – вальщик камней) – самый богатый человек эпохи столетней давности, связанной с нефтяной добычей из скальных пород.)
В течение многих десятилетий после 1929 года, когда финансовый кризис вызвал глобальную депрессию исторической важности, экономисты и политики обсуждали, что же произошло и что пошло не так. Что же было упущено? Мир был приведен в движение экономической системой, созданной для ускорения, но политики и банкиры забыли установить тормоза. Они пытались запустить промышленный двигатель в противовес задыхающимся политическим структурам. Базовые механизмы регулировки – выпускные клапаны финансового или валютного давления – были еще не изобретены, или не усовершенствованы, или не установлены. В ближайшие же годы мы почувствовали, как стало тяжело дышать в атмосфере финансового кризиса, и испугались, спасаясь бегством от наступающих волн военной или социальной эпидемии, которая неожиданно накрывала нас – что, по вашему мнению, могло стать наиболее вероятной причиной этого? Это был провал ситемы ограничений – «ворот». Слишком их было мало в некоторых местах, слишком много в других.
Запомните эту неотступную, преследующую нас постоянную угрозу нашего времени. В любой момент мы можем столкнуться с вопросами войны и мира. Мы все, так же как те бедные мелианские граждане. Испытание может наступить в любой момент. И колебание где-нибудь в системе может покачнуть или даже сломать все здание. Сегодня у нас нет никакой генеральной теории системы ограничений и контроля «ворот», нет идей сохранения баланса ситуаций внутри и снаружи. Любой может обнаружить, что наши системы полны несоответствий и лазеек. Отныне у нас должно быть больше «ворот». «В сложной системе, – написали о нашем сложном мире компьютерные исследователи FX Линдер и Сандро Гэйкен, – нет каких-то критически важных ворот. Все является воротами». Только сохраняя в нашем сознании эту концепцию, мы можем приступать к разработке нового подхода к нашей безопасности.
Глава 10
Тщательный контроль системы ограничений (ворот)
В которой ворота, управляемые нашими новыми инстинктами, становятся однажды инструментом процветания и выживания.
Одним из выдающихся китайских внешнеполитических деятелей прошлого века являлся человек по имени Хуан Хуа, доброжелательный ко всем и пользующийся взаимностью, живший с 1913 по 2010 год. Его судьба была связана с периодом драматических перемен в мировой роли Китая. Он родился во времена практически полного национального краха и скончался тогда, когда его страна столкнулась с проблемами адаптации в быстро меняющемся мире. Хуан был, в некотором смысле, наследником Су Цинь – дипломата Воюющих штатов, которого Мастер Нань назвал иконой прозрения: он познал энергетику эпохи хаоса 2500-летней давности. Хуан Хуа был министром иностранных дел Китая, а затем стал его вице-премьером. Он проник в загадки революционной эпохи Мао десятилетия спустя, чтобы увидеть возможность иной роли своей страны в мире, той, которую он смог ярко воплотить в жизнь, когда Дэн Сяопин стал лидером китайского руководства в 1978 году.
Хуан всегда был человеком спокойным, с легким и непринужденным темпераментом. Одним из примеров середины 1970-х годов, отчетливо его характеризующих, был случай, когда во время полета в США из Парижа в качестве представителя Китая в Организации Объединенных Наций он попал в «засаду» журналиста Вальтера Кронкайта. Хуан проявил расслабленное спокойствие на этой встрече, что хорошо видно в видеорепортаже. Он расслабленно сидел в облаке табачного дыма, а Кронкайт донимал его. Хуан улыбался, предложил сигареты команде журналистов. И, хотя его страна находилась еще в середине пути избавления от нищеты, хаоса и раздробленности в политике, он предстал перед миром спокойным государственным деятелем, а не нервным представителем нестабильной власти.
Хуан практически в совершенстве говорил по-английски и был известен не только способностью жесткой защиты интересов своей страны, но и его уникальным чувством как западной, так и китайской культуры. И различий между ними. «Когда китайцы хотят сделать что-то, мы начинаем с вопроса «Какова природа века?», – он блестал подобными объяснениями. «Представители Запада начинаются с цели. Чего они стремятся достичь?» Китайцы, говорил Хуан, как правило, стремятся рассматривать любую проблему, с которой они сталкиваются, начиная с учета условий и среды вокруг этой проблемы. Контекст имеет такое же значение, как и само решение. Поэтому, даже если вы думаете, что решили конкретную проблему, контекст может продолжать оставаться прежним.
Если стремление государственного деятеля прийти к миру представить как возможность выстроить башню, ставя ровно чайные чашки друг на друга, китайцы прежде хотят знать: ветрено ли? Где были изготовлены чайные чашки? Подходят ли они друг к другу? Западные жители, как правило, склонны к нагромождению чашек. Ближайшая к разрешению проблема всегда была определена однозначно: удалить Саддама Хуссейна. Ударить беспилотниками по террористам. Остановить финансовый кризис. План строился упрощенно: необходимо лишь сбалансировать чайные чашки. Лишь редкий западный государственный деятель мог увидеть, что стол, на котором расставлены чашки, без одной ножки, или почувствовать встречный ветер, сбивающий с ног. Некоторые говорили, что китайский инстинкт изучать окружающую среду глубоко уходит своими корнями в китайскую культуру и письменность. Общество всегда было преимущественно сельскохозяйственным, следовательно, погода должна была быть всегда известной. В Китае текст формируется не из букв, которые выстроены друг за другом, а из символов, иероглифов, которые на самом деле представляют собой маленькие рисунки.
Слово, означающее лошадь, выглядит как лошадь: Ц. Понимание эссе или стихотворения на китайском языке на самом деле означает «видеть всю картину», а не только последовательность букв. Китайская внутренняя и внешняя политика, проводимая такими фигурами, как Хуан Хуа и Су Цинь, начиналась также с вопроса, актуального в течение тысяч лет: какова природа времени?
Внешняя политика 1980-х годов Дэна, которую Хуан сформировал и привел в исполнение, была прекрасным примером того, каким образом расчет, учитывающий контекст, может повлиять на выбор, который делает лидер. Мао, который правил Китаем, прежде чем Дэн пришел к власти, имел стремительный и непростой темперамент. Он был революционером. И возможно, что не удивительно, он считал, что его век был неизбежно связан с революцией. Он подготовил страну соответствующим образом. Китай Мао был изрыт бомбозащитными туннелями, выкопанными для защиты в случае нападения извне. Он спрятал предприятия китайской промышленности в изолированных и удушающих горных укрытиях, чтобы они могли сохранить дееспособность в течение длительной войны. Он реагировал на иностранные идеи и попытки влияния как электрический разряд. Один из его коллег-революционеров, исследующий свою нищую страну после Второй мировой войны и размышляющий о том, как она могла бы защитить себя, ехидно заметил: «Единственное, что у нас есть в большом количестве, так это горы и туннели». Мао использовал их. Китай был известен своей изолированной защищенностью.
Когда в 1977 году пришел к власти Дэн, он иначе прочел характер своего времени. «Нет никакой опасности большой войны. Не бойтесь этого, такого риска не существует», – заверил он группу скептически настроенных китайских функционеров во время беседы в 1983 году. Партийные кадры Китая переживали тяжелые времена, меняя свою маоистскую паранойю уверенностью в том, что Китай мог бы безопасно открыться, развиваться и изменяться. В них было перемешан нервозность секретной политической партии с теми кошмарами страны, в которую вторгались и разоряли девять различных стран, начиная с опиумных войн середины девятнадцатого века. Военный конфликт казался им неизбежным. «Мы привыкли беспокоиться о войне и говорить о ее возможности каждый год, – сказал им Дэн. – Кажется, что беспокойство было преувеличено». Дэн чувствовал, что планета вступает в эру беспрецедентного мира и развития. Ужасные, уничтожающие нацию войны не скоро поразят Китай, думал Дэн. Состояние нации отражало характер эпохи. Его инструментами могли бы быть наука, финансы и торговля. Если китайский народ будет упорно трудиться, обещал он своим недоверчивым слушателям, то они могли бы к 2000 году увеличить свой низкий доход на душу населения в $ 250 до почти невообразимой цели в $ 1000. «Меня не волнует то, белая кошка или черная, – заметил лихо Дэн, – до тех пор, как она ловит мышей». Социализм? Капитализм? Не имеет значения до тех пор, пока он привносит прогресс. Это было мужественное суждение. И, как выяснилось, правильное. Никакие серьезные войны не охватили Китай или мир. Великие державы не спешили оказывать поддержку нищей нации. Развитие было для Китая символом того времени. Дэн направлял людей, подобных Хуан Хуа, чтобы восстановить роль Китая на мировой арене. Он призвал интеллектуалов и экономистов из деревень выстраивать новые капиталистические институты. Он развернул энергию революционных лидеров, таких как Си Чжунсунь (отца будущего президента Китая), к решению задач по реализации новых экономических проектов, которые пренебрегли тем, что предсказывали Маркс да и большинство западных экономистов. В конце концов, черно-белый кот Дэна принес стране в качестве своей добычи доход в $1000 на душу населения почти в точном соответсвие с графиком старика.
Существует нечто замечательное в прямолинейном подходе к решению проблемы, в основу которого положено утверждение, что кратчайшее расстояние между двумя точками является прямой линией. Но также верно и то, что такого рода элементарная геометрия может обмануть нас. Она не всегда описывает лучший способ того, как добиться цели. Определенно, не сегодня. Старые карты, как мы уже видели, являются менее эффективными. Новые карты, которые часто составляются из новых сетевых связей, меняют все: от финансов до терроризма. В итоге, то, что выглядит удаленным друг от друга на старой карте, может быть в наносекундах друг от друга в формате глабальной сети. Эти новые тенденции, подобно постоянному ветру, раскачивают башню из чайных чашек, которую наши государственные мужи пытаются выстроить. Дело не только в том, что их планы противоречивы, а в том, что они не ощущают влияния новой, большой силы в действии. Такой маленький сюрприз, который невозможно предсказать, как невозможно понять, почему все это происходит.
Вопрос Хуана Хуа: «Какова природа времени?» – оказася наиболе важным для любого начинания. Поймете это неверно, и каждое последующее ваше решение будет также неправильным. Вы полагаете, что наше время является одним из вариантов, относящимся к легкой глобализации с плоским восприятием мира? Считаете ли вы, что распространение демократии неизбежно? Или вы думаете, что мы живем в эпоху глобального хаоса и американского упадка? Или в период, в который будет создан новый халифат?
Важность подобного суждения, предшествующего началу действий, может отражать, например, искреннее понимание государственным деятелем того, как много может не находиться под его контролем, сколько различных факторов могут «столкнуть чайные чашки» в пирамиде грамотно разработанной политики: люди, политика, силы перемен эпохи. Дух взвешенной осторожности охлаждает страсти любого опытного дипломата (или предпринимателя, или политика). «Человек самостоятельно не может достичь ничего, – полагал прусский государственный деятель Отто фон Бисмарк. – Он может только ждать, когда услышит шаги Бога, оглушительно проявляющиеся через события, а затем последовать вперед, чтобы ухватить край его мантии, – и это все». Бисмарк – один из титанов европейской государственности, подчеркивает в данном случае то, что настоящий секрет стабильности и власти заключается в освоении сил истории: Просвещение, Наука, Промышленность, Национализм, Технология.
В этой главе я хотел бы транслировать мироощущение Бисмарка в наш собственный век. Я хочу использовать его для разрешения фундаментальной проблемы глобальной политики: как будет устроен мир? Вам не нужно быть экспертом в области внешней политики, чтобы ощутить то, что новые силы уже в действии, что система государств и народов меняется тем образом, который пока еще недостаточно осознан нами. Так много в нашей жизни было предано революционным изменениям в течение последних нескольких десятилетий – как мы общаемся, как мы делаем покупки, даже то, как мы думаем. Бизнесмены размышляют, как могут быть упорядочены рынки. Политики беспокоятся о том, как будут видоизменены политические системы. Но главный общий вопрос – тот, который будет определять судьбы войны и мира, и имеет, вероятно, наибольшее значение. В этой сфере социальных и межгосударственных отношений мы вступаем в период настоящих исторических изменений, когда не будет возможности спрятаться от их воздействия. Глобальные информационные сети, очевидно, определят нам, каково, вероятнее всего, будет будущее мирового порядка. И они укажут в результате стратегию, к которой Соединенные Штаты, как ведущая сила в мире, должны стремиться.
Как вы уже, наверное, догадались, это не та же стратегия, которую предлагал старый взгляд на власть периода промышленного развития.
Какова природа нашего времени?
Характер нашего времени, как мне кажется, становится очевидным для нас. Глобальный охват онлайн-коммуникаций, как молоток по стеклу, настойчив в стремлении в большинство наших комфортабельных учреждений.
Если Мао думал, что его эпоха была одной из тех, которые окрашены «войнами и революциями», если Дэн почувствовал, что его век был бы одним из тех, в которых доминирует «мир и развитие», то, как я думаю, мы могли бы сказать, что наш век будет характеризоваться «распадом и созиданием». Разрушение многих старых идей и институтов, на которые мы когда-то полагались; строительство новых, построенных для различных механизмов власти. Седьмое чувство, с помощью которого можно осязать, как работают сети, соединяющееся с видением исторических процессов, политики и философии, позволило бы нам понять природу этой динамики. Оно показало бы нам, что дезинтеграция не является признаком хаоса или непредсказуемой неожиданностью, даже если это выглядит именно так с самого начала. Скорее, это могло бы означать огромный созидательный проект. Da po, da li, как бы сказали китайцы – «Большие разрушения и большое строительство», – каждая составляющая связана с распространением сетевых сил. Нажим, удар, трещина. А затем границы Гейтлэнда. Это новые структуры, образованные глобальными коммуникациями. Финансовые рынки – Гейтлэнд. Страны, обменивающиеся интеллектуальной собственностью, являются Гейтлэндами. Facebook, Google или облачные сервисы являются Гейтлэндами. Эти огороженные «воротами» миры, на которые мы теперь полагаемся, чтобы, в свою очередь, обмениваться информацией и изучать все, начиная от фотографии из отпуска до медицинских данных, вовлекают в свой «круговорот» миллиарды людей или триллионы датчиков, микросхем или переключателей. Мы видели, что информационные сети нуждаются в границах Гейтленда, потому что это делает их более эффективными. Оказаться внутри Гейтлэнда, как мы уже видели, значит обеспечить себе преимущество световой скорости сжатия времени. Все что угодно теперь происходит быстрее. И мы знаем, что оказаться вне определенного Гейтлэнда означает быть отрезанным от коммуникаций.
Еще в эпоху Бисмарка практически каждая революция или война могла быть связана с импульсами, исходящими из Берлина. Около столетия спустя, во время холодной войны, конкуренция взаимного сдерживания между Соединенными Штатами и Советским Союзом оказывала влияние на решение любого вопроса, связанного глобальными проблемами. Поддержка Южного Вьетнама? Размещение ракет на Кубе? Все эти вопросы требовали ответов, находящихся в русле всеобъемлющей идеологической борьбы, которая шла полным ходом. В наше время проблемы, с которыми мы сталкиваемся, уходят корнями в информационные сети. Террористические группы, такие как ИГИЛ, полагаются на коммуникационные сети и контрабанду. Непрерывные потоки беженцев, обусловленные кризисом в Северной Африке, которые оторваны из своих домов, но остаются активными пользователями сетей того мира, в который они пытаются войти: текстовые сообщения выстраивают новую географию там, где они живут, заменяя им улицы и школы покинутой родины. Сети меняют глобальную экономику, как мы уже видели, обеспечивая равновесие спроса и предложения. Они меняют политическую ситуацию, провоцируя экстремизм, объединяя единомышленников вместе в закрытых группах социальных сетей. Они создают новые ландшафты войны в киберпространстве. Многие из неудач в политике последних нескольких лет – от войны с террором до битвы за спасение мировой экономики – были победами сетевых сил.
Столкнувшись с этой новой динамикой, авторы американской внешней политики находятся в странном положении. С одной стороны, сети и Гейтлэнд США сейчас занимают решающее положение в мире. Известная строка Томаса Пейна, что «причины, порождаемые Америкой, в значительной мере становятся причинами того, что переживает все человечество», – по-прежнему имеет место, но с корректировкой: сети Америки – жизненно важные сети торговли и информации, технологий и финансов – становятся, в известный момент, сетями большей части человечества. Однако Америка до сих пор не выработала стратегической концепции, которая позволяла бы описать эту реальность или которая обеспечила бы стремление к безопасности или соблюдению общепринятых норм. И время не на стороне Америки.
Если ранее традиционной целью американской внешней политики было нейтрализовать появление претендентов, которые угрожали бы стране (например, Советского Союза), или остановить тех, кто стремился противопоставить Вашингтону страны Азии или Европы (как это стремились сделать императорская Япония и нацистская Германия), то в настоящее время цели иные. Прежде всего, это господство в определении сетевого развития. «Сегодня Соединенные Штаты не сталкиваются с реально существующей угрозой», – сообщил в 2015 году один весьма уважаемый почитаемый американский интеллектуальный центр. Это неправильно. Сегодня очевидно, что ни одна страна или террористическая группировка не может угрожать самому существованию Америки так, как это когда-то сделал Советский Союз, обещая:
«Мы вас похороним!». Но потеря решающего влияния в сетях, на которые опирается мир – не только в Интернете, но и во всех системах коммуникаций, объединяющих центры исследований и хранения данных, включая ДНК, – представляет именно такую потенциальную угрозу. Меньше следует думать о том, что Соединенные Штаты будут «похоронены», имеет смысл сосредоточиться на том, что страна, безусловно, будет опутана. Вы контролируете Гейтлэнд или он вас? Это именно тот фундаментальный вопрос самоопределения и могущества, который вытекает сегодня из природы нашего времени. Именно он призывает американцев рассмотреть новый подход к национальной безопасности – тот, который можно было бы назвать «Усиленный Гейтлэнд».
Организация жесткого, тщательного контроля границ Гейтлэнда означает строительство и развитие безопасных, тщательно продуманных объединений для управления всем: от торговли до киберинформации и научных исследований. Некоторые из них могут быть созданы исключительно для американцев. Гейтлэнды. Другие будут предполагать участие союзников. Каждый из них должен быть абсолютно уникальным, настроенным на принципы, которые отражают то, каким образом проявляет себя власть сети. Сегодня мы близки к крайности: мир небольшого числа «ворот и стен». Такие группы, как НАТО, или «нации в Интернете», или суннитские государства, все представляют собой потенциальные Гейтлэнды. Но они подвержены незначительной координации. Это аналогично тому, если бы американцы думали, что старый закон Постела раннего Интернета: «Будьте либеральным в том, что вы принимаете» – подходит для любой сети.
В первые годы после окончания холодной войны это ощущение помогло стимулировать процесс глобализации. Но нынешний мир глобальных коммуникаций представляет собой нечто удивительное. Силы, враждебные интересам мировой системы, истощены и используют технические новшества против самих себя. Это не только террористы или хакеры, которые играют с системами; некоторые страны также подрывают корни мирового порядка. Дисбаланс легко заметить. Американские исследовательские университеты готовят специалистов, которые, вероятно, будут использовать полученные знания, чтобы подрывать устои американского порядка, подчеркивая бесполезность такого рода инвестиций. Целью не должно быть закрытие или ограничение основных структур. Это привело бы к их исчезновению. Более мудрая стратегия – заставить работать более скоординировано, во взаимодействии с Гейтлэндами. Понятно, что такие концепции, как «мягкая сила», не смогут изменить к лучшему порядок в мире. Допущение «Не делай глупостей», то есть что история сама позаботится о себе или что капитализм и демократия создадут условия для формирования большего капитализма и демократии, не соответствует действительности.
Существует отличный способ определения того, кто находится внутри или снаружи альянса, или научно-исследовательских, или инвестиционных соглашений. Но этот подход не использовался эффективно. Я думаю, что, главным образом, потому, что те, кто вершит внешнюю политику, не имеют четкого представления о том, к чему следует стремиться, или же они считают, что время излечит или что сама глобализация и сама демократизация решат все проблемы, с которыми сталкивается мир. Это кажется маловероятным. Лучше работать с тем, что мы определенно знаем: Гейтлэнд сетей обладает реальным могуществом. Сети, форматированные на принципах Гейтлэнда, работают быстрее, чем абсолютно открытые. Они обеспечивают не только безопасность, но проявляют свое влияние: цена исключения из Гейтлэнда финансов или информации будет чрезвычайно высокой. Следуйте опыту формирования высокотехнологичного рынка, в котором одиночными успешными компаниями определяют развития целой отрасли. Как мы уже видели, это происходит потому, что информационные сети обеспечивают больший успех лидирующим системам. Но разработка, построение и внедрение подобных систем требует видения всей картины нового порядка, хладнокровного напряжения в работе, чтобы достичь желаемого результата.
Любое рассмотрение вопроса о «природе нашего времени» должно начинаться с осознания того, что все вокруг нас сейчас или в ближайшее время будет взаимосвязано посредством информационных сетей. Потребность коммуникаций является причиной того, почему старые системы разрушаются, а новые, адаптированные к этим новым вызовам, появляются. Товары будут перемещаться в ситеме «Интернета коробок», позволяющей эффективно отслеживать доставку в режиме реального времени и осуществлять точное планирование. Наши здоровье будет контролироваться и поддерживаться благодаря модели, подобной «Интернету здорового организма». В скором времени мы будем осуществлять инвестиции, учиться и жить неотрывно от систем коммуникаций, находясь внутри их. Существует длинный список того, что еще не стало благодаря сетям мгновенно исполняемым и полностью связанным таким образом (и, как результат, длинный список проблем в здравоохранении, борьбы с бедностью, несправедливостью, которые могли бы быть решены теперь иначе). Процесс всепоглощающих коммуникаций так же невозможно остановить, как и шаги Бога, которые слышал Бисмарк. Глобальные сети выстраивают мир Гейтлэнда.
Давайте обратимся к наиболее банальному: деньгам. В течение следующего десятилетия или близко к этому счета, напечатанные на бумаге, и чеканные монеты в значительной степени исчезнут и будут заменены цифровой версией денег, а затем новой валютой, созданной для мира битовых операций. Мир, населенный мобильными телефонами и виртуальными банками, будет быстро выметать неприятно пахнущие, устаревшие бумажные остатки экономики наличных. Странное действие – брать деньги из банкомата, чтобы отдавать их человеку, который затем вновь помещает их в другой банкомат, – будет заменено чем-то более простым и более надежным: способностью «кликнуть и платить» – на всех видах устройств. «Цифровая валюта» будет не просто цифровой версией напечатанного доллара. В итоге некоторые виды денег будут существовать только в виде битов. Простой версией этого является уже то, что ваш босс уже сегодня может перечислить вам вашу зарплату в электронном виде, это уже произошло. Более сложный мир связанных между собой, оцифрованных денег приведет к тому, что они будут классифицироваться и распределяться с учетом их дальнейшего назначения: как деньги для текущих затрат, биты, направленные на определенные виды инвестиций, даже биты, зарезервированные до тех пор, пока ваша компания (или вы) не достигнет определенных целей производительности.
На сегодняшний день самой обсуждаемой моделью цифровой валюты является Bitcoin, система, основанная на алгоритмической эмиссии денег, основаной на расчете – так, как когда-то соотносили наличные с тем, сколько золота добыто из холмов Калифорнии. Наиболее привлекательным свойством Bitcoin является то, что он не находится под контролем какого-либо правительства. Это означает свободу от политического давления, от влияния центральных банков, а также от риска национального дефолта. Если вы индонезийский фермер или эстонский водитель такси, для вас рано или поздно станет важным, как лучше хранить ваши деньги: пожалуй, лучше в системе BTC, чем в местной наличной валюте. Bitcoin легко хранить и передавать. Транзакции Bitcoin могут быть выполнены анонимно, что привлекло наркобаронов и неплательщиков налогов и также взрастило экономику черного рынка Bitcoin.
Bitcoin или любой его аналог будет играть заметную роль в нашем будущем, и этот другой вид цифровой валюты также будет формировать своего рода Гейтлэнд. Вместо того чтобы быть анонимным, поддерживаемым лишь с помощью алгоритмов и независимо от правительств, эта новая валюта будет введена главным образом для обеспечения надежности, а не тайны. Операции Bitcoin покрыты тайной. Новая валюта будет прозрачной и отслеживаемой. Bitcoin свободен от вмешательства правительства. Новая цифровая валюта будет пользоваться поддержкой правительства и тесно связана с политикой и доверием. Представьте себе, что Соединенные Штаты начали выпускать битдоллары – отслеживаемую, управляемую цифровую валюту, надежность которой основана на экономическом положении Америки. Кто-то, одновременно может по-прежнему предпочитать Bitcoins (или битрубли, или битюани). Ответ на вопрос «Какая валюта наиболее надежна для вас?» не поменяется оттого, что вы поставили приставку «бит» перед ней.
Сегодня мир бумажных долларов также является Гейтлэндом: любой человек в мире принимает доллары, так что американские наличные деньги являются своего рода глобальной базовой валютой. Мы также видим, что английский язык не заменяется китайским или испанским, популярным становится перевод в режиме реального времени. Прежняя бумажная мировая экономика стодолларовых банкнот в конечном итоге будет заменена на индустрию, основанную на битдолларах. В условиях глобальной коммуникации, например, битдоллары могут быть предназначены для конкретных целей. Представьте случай, связанный с иностранной помощью и миллиарды долларов кредитов или грантов, направленных на эти цели, оплачиваемые наличными, но которые были вложены в апартаменты в Монте-Карло вместо школьных классов. Помощь, предоставляемая и контролируемая цифровым путем, может быть отслежена. Таким же образом может быть легко модернизировано и усовершенствовано регулирование колебаний цен на сырьевые товары или изменения спроса. Мир глобальных коммуникаций станет тем, в котором иракские лавочники, нигерийские школьные учителя и доминиканские медсестры будут привязаны к цифровым инструментам, обеспечивающим экономию денег. Решение о битдоларах снимет большое количество проблем, которые стоят перед традиционной валютой. И в этом также, а в этом случае это чрезвычайно важно, проявляется роль Гейтлэнда. Учителя и медсестры защищены контролем «ворот» Гейтлэнда в том смысле, что эта валюта поможет гарантировать то, что они получают деньги в первую очередь, а затем предоставит возможности сохранить и использовать полученные деньги эффективно. Но какой вид цифровой валюты это будет? Кто поддержит этот новый Гейтлэнд?
Валюта в действительности пока не была затронута миром сетей в той же мере, как, например, видео. В области валютных операций еще не создан сервис, аналогичный YouTube – компании-гейтлэнд, в которой «победитель получает все». Это, безусловно, изменится. Финансы будущего будут заполнены гейтлэндами, чтобы операции стали более безопасными, более надежными. Цифровые деньги станут более адаптированы как к политике, так и личным целям: экономии, образованию и даже тому, что мы покупаем. Контроль над этим будет источником реальной власти и местом определенной конкуренции. Станет несложно решать, кто внутри или снаружи такой финансовой системы – просто отключить в режиме реального времени российских олигархов, как пример, и подключить работников оказания помощи.
Так же как План Маршалла после Второй мировой войны нацеливал работу Америки на создание нового глобального порядка, так и теперь наша страна, возможно, нуждается в плане строительства (или нового дизайна) всех систем, которые будут определять будущую власть. Сделать это возможно посредством гейтлэндов. Вспомните основной характер эпохи: разрушение и созидание. Соединенные Штаты Америки должны, очевидно, ввести битдоллары (так же, как Китай начал вводить цифровую валюту). И это только начало. Наш мир, если бы мы хотели представить, каким он будет через двадцать или тридцать лет, будет определяться вновь построенными гейтлэндами, каждый из которых будет играть существенную роль для национальной или экономической безопасности. Торговля, финансы, образование, кибербезопасность, искусственный интеллект, военные дела будут смещаться от прежнего несоединенного состояния в мир тотальных коммуникаций. Как результат, будут открыты его новые сильные стороны. И логика контроля «ворот» Гейтлэнда будет работать практически в каждом случае. Держать в своих руках пульт управления, который разрабатывает подобные системы, является целью исторического значения.
Смысл обладания этой властью не только в том, что Гейтлэнд будет поддерживать торговлю или электронную коммерцию. Вспомним сказанное Меткалфом: «Поскольку сетевые системы становятся все более мощными, затраты тех, кто не находится внутри, быстро возрастают». Если те, кто в Стэнфорде использует этернет Меткалфа, чтобы обмениваться электронной почтой, а ты не смог стать частью этого, это похоже на своего рода изгнание. Сегодня многие системы учитывают эту логику: чем больше людей, которые используют Google, тем более содержательным он становится. Представьте себе попытку провести исследования в области ядерного оружия в Иране, не имея доступа к сетевой базе данных химических или инженерных данных. Это будет по-прежнему возможно, но это будет намного сложнее. А работы по созданию искусственного интеллекта, кибербезопасность или современные электронные финансы? Это будет невозможно без подключения к глобальным системам.
Власть будущих гейтлэндов может проявиться как в отключении от коммуникаций государств или людей вне их пределов, так и путем подсчета их количества внутри. Представим себе, что вам не разрешено делать транзакции в новых битдолларах. Вы были бы отрезаны от торговых площадок. Или что больницы в вашей стране были удалены из закрытой группы обмена медицинскими базами данных искусственного интеллекта? Или представьте кибербезопасность. В будущем, вероятно, будут созданы базы данных, которые будут представлять собой исчерпывающий каталог и данные анализа дыр в компьютерной ситеме безопасности и вирусов, преследующих компьютеры или сети мира. Подобные Центры контроля и профилактики заболеваний цифрового века будут работать в координации с логикой Гейтлэнда, которую мы уже понимаем: один из них будет доминировать. И по мере того, как все больше и больше людей будут использовать эту систему, она будет становиться умнее. Находиться внутри этой технологической иммунной системы значит обеспечивать безопасность топологии всей нации; быть вне ее будет означать постоянную опасность эксплуатации. Такого рода рычаги создают возможность дипломатии. Кто-то в стране, рассматривающей вопрос развития ядерного оружия, может посоветовать: создайте свою собственную базу данных кибербезопасности, если вам это столь необходимо. Но она будет изолированной и не будет иметь всех преимуществ накопленных знаний, которыми обладают более широкие сети. Но если вы хотите быть защищены наилучшим образом, то вы можете присоединиться к существующей системе Гейтлэнда. Но только при определенных условиях: никаких ядерных исследований. «Каждый новый век и каждая новая эпоха сосуществования народов, – писал историк Карл Шмитт, – основана на новых пространственных подразделениях, новых корпусах, а также новых пространственных порядках организации земли». Шмитт изучал великие средиземноморские империи и свидетельства могущества азиатских вождей. Но его взгляды отражают особенности каждого века, включая наш собственный. Сплотить народ, построить империю – это равносильно тому, чтобы рисовать линии, раздвигать границы или разрушать старые «ворота». Некоторые из этих сохранившихся или разрушенных «ворот» предстали перед нами в качестве военных амбиций Наполеона или Гитлера (у которого неблагоразумный Шмитт был советником). Чаще это была просто защита. Лорд Бальфур, выступавший в качестве министра иностранных дел Великобритании в 1918 году, предсказывал существование этой проблемы с имперской точки зрения, заметив: «Каждый раз, когда я вновь возвращаюсь к подобным дискуссиям – с интервалом, скажем, в пять лет, – я обнаруживаю, что появляется новая сфера, которую нам необходимо защищать, – писал он. – Эти «ворота» отодвигаются все дальше и дальше от Индии, и я не знаю, как далеко на запад они будут смещены Генеральным штабом». Проблема, где, собственно, поставить ворота, стоит также и перед нами. Мы можем сказать, по крайней мере, что стратегическое положение в мире любой нации, террористической группы или бизнеса не будет обеспечено только промышленными мерами. Никто в Google не хочет строить газету. Никто в Аль-Каиде не пытается спустить на воду авианосец. Скорее всего, могущество будет обусловлено созданием и контролем Гейтлэндов.
Жесткий контроль, строгий режим «ворот» Гейтлэнда является чем-то большим, чем просто строительство ворот. Потребуется миропонимание державного деятеля, чтобы осознать, где их правильно поставить. Ворота будут регулировать передвижение людей, потоков капитала и информационных данных. Так же как и описанные Карлом Виттфогелем императоры, увлеченные гидрологией (и их гидро-деспотичные министры), направляли воду только в лояльные части своего королевства и выжигали другие, мировые «ворота» должны служить поддержке стратегических целей. Историк Арнольд Тойнби как-то вспоминал свою встречу с британским премьером Ллойдом Джорджем во время Парижской мирной конференции 1919 года, когда победившие державы решали, как лучше устроить послевоенный мир. «Ллойд Джордж, к моему удовольствию, забыл о моем присутствии, – писал Тойнби, – и начал думать вслух: «Месопотамия… да… нефть… орошения… мы должны обладать Месопотамией; Палестина… да… Святая Земля… Сионизм… мы должны обладать Палестиной; Сирия… гм… что там в Сирии? Пусть французы забирают». Такого рода неприглядное высокомерие – Святая Земля… мы должны обладать ею – не очень подходит нашему веку. Все привратники, в конце концов, зависят от доброй воли тех, кого они держат за воротами. Но образ мышления Ллойда Джорджа может послужить моделью. Тем, чем были нефть, орошение и Суэцкий канал для Британской империи, финансовые и информационные потоки, и «ворота» являются в наш век.
Строгий режим Гейтлэнда эхом перекликается с некоторыми из самых живучих порядков в человеческой истории – «системой обороны в глубине» Римской империи, или защитной изоляцией Токугава Японии, или стенами ханьского Китая. Целью этих систем было обеспечить выживание посредством создания защиты. Стратеги этих империй знали, что им следует избегать нападения, кроме случаев, когда это абсолютно необходимо. Оборонительная позиция была в этом случае более безопасной. Контроль за «воротами» аналогичен. Он сопротивляется ненужному расточительству.
Строгий режим Гейтлэнда можно определить просто: разработка и управление физическими и топологическими сетевыми пространствами, которые будут определять будущую безопасность любой страны. Финансовые рынки. Информацию и физические инфраструктуры. Торговые площадки. Объединенные структуры. Технологическая кооперация. Организация валютных операций. Цели Строгого режима Гейтлэнда также просто описать: защитить тех, кто внутри порядка Гейтлэнда, сделать более эффективными безопасность и инновации, ускорить определенные виды связи и ослабить другие, управлять ссылками на миры вне Гейтлэнда, использовать эти рычаги «внутри и снаружи», чтобы повлиять на интересы и планы других.
На практике, Соединенные Штаты Америки могли бы разработать Строгий режим Гейтлэнда на основе нескольких элементарных принципов.
Во-первых, строгий режим Гейтлэнда должен обеспечить правопорядок и безопасность Америке и любому внутри Гейтлэнда. Американцы не чувствуют себя в полной безопасности сегодня, и они правы. Многие из традиционных союзников США разделяют это чувство неуверенности. Строгий режим Гейтлэнда означает более совершенные границы для всех народов и более глубокие связи между странами внутри различных гейтлэндов. Стратегия не означает наличие стен, поскольку такая изоляция не имеет смысла в мире коммуникаций. Она лишь означает обновление философии от «Быть либеральным с тем, что вы принимаете» до «Будьте щедры и осторожны в том, что вы принимаете. Будьте в безопасности». На практике это означает, что новый «план Маршалла» имеет целью не восстановить Европу, как это было в 1940-х годах, а построить безопасные гейтлэнды, которые должны учитывать все интересы США и союзников. Это может означать воссоздание нового Интернета, предназначенного для века цифровых угроз. Это означает разработку новых способов координации экономической политики, торговли и инвестиций. Мир должен понимать, что атаки в ходе будущих войн, направленные против Соединенных Штатов или союзников, от которых они должны защищаться, будут предприняты незримо и бесшумно через глобальные сети или из космоса, а не посредством громогласных наземных вторжений или бомбардировок. Соединенные Штаты и их союзники еще не договорились о том, как справиться с такого рода опасностями. Топологическая безопасности станет тем, чем когда-то были превосходство в воздухе или овладение морским пространством. Хорошо организованный Гейтлэнд предложит больше чем просто защиту. Он будет источником времени и заемных средств. Союзы, гейтлэнды и инфраструктура, которые могут быть защищены в течение длительного времени, обеспечат заслуженное доверие к действительной безопасности. Это представляет собой фундаментальную оборонительную концепцию.
Второй принцип может заключаться в том, что Америка не будет заставлять кого-либо входить в ее систему Гейтлэнда. Целью должно быть построить наиболее эффективный вариант сетевого порядка. Американские ценности демократического выбора, свободы мысли и неприкосновенности частной жизни должны украшать дизайн своих гейтлэндов, и даже больше, чем сегодня. Личная безопасность и свобода должны быть принципами, в которых уверены абсолютно все, находящиеся внутри таких систем, – так же, как и в верховенстве закона, прозрачности принятия решений и демократической подотчетности. Другие страны будут разрабатывать свои построения, огороженные «воротами», для различных целей, обусловленных национальными политическими потребностями или их собственным историческим бременем. Америка должна проявлять спокойствие в условиях, когда Европа, Россия и Китай строят свои системы Гейтлэнлда. Стремление к самоопределению, контролю Гейтлэнда, а не быть подконтрольными ими, отражает разумное и понятное стремление. Выглядит вполне вероятным то, что гейтлэнды, находящиеся под руководством Америки, если они будут разработаны в соответствии с американскими ценностями, могут быть одними из лучших и самыми надежными из этих будущих структур. Принцип могущества: «победитель получает все» – будет означать, что средние и более мелкие страны не смогут иметь никакого другого выбора, кроме как присоединиться к системе, которая управляется Америкой. Нет нужды заставлять их попадать в это «затруднительное положение». Это бы болезненно осложнило их внутреннюю политику. «Контролировать «ворота» или находиться под их контролем?» Не существует более фундаментального политического вопроса. Нации должны иметь возможность свободно выбирать приемлемые для себя условия.
Третий принцип может состоять в том, что Америка должна приглашать другие страны в свой Гейтлэнд, но платно и делая внимательный выбор. Сегодня Америка позволяет практически любой нации подключиться к рынкам страны, технологиям или системам образования. Это имело смысл в век, когда коммуникации приносили только пользу. Настороженность, проявляющаяся в такого рода открытости, должна быть частью любой американской стратегии, но она должна быть смягчена признанием рисков и выгод века коммуникаций. Нет никакого смысла передавать преимущества системы группам, намеренным подорвать ее. Полностью открытые рынки сбыта являются объектом манипулирования ценами. Полностью открытые технологические стандарты могут быть легко украдены. Широко распространенными системами искусственного интеллекта можно манипулировать, направляя против их же создателей. Лучший подход в каждом конкретном случае – это оценить эту открытость, чтобы гарантировать, что народы внутри миров Гейтлэнда разделяют общее видение глобальной системы и приверженность к сохранению его в неприкосновенности.
В-четвертых, ни одной нации не должно быть позволено заставлять другую находиться в границах ее Гейтлэнда. Индия может создать большую поисковую систему. Ей не должно быть позволено требовать, чтобы Бангладеш использовал систему Индии. Российские энергетические компании могут проложить надежные линии газоснабжения Европы. Россия не должна их использовать в военных целях. Этот принцип является разумным балансом американскому обязательству не принуждать кого-либо к вступлению в Гейтлэнд США. Каждая страна должна найти свой собственный путь. Создание мира по национальному и государственному принципу было результатом тридцатилетней войны в Европе, а исторический урок этого конфликта состоял в том, что страны должны сами строить свои собственные внутренние механизмы управления. Основной неразрешимой проблемой было то, может ли каждый король определить религию своего государства, или она должна быть продиктована из Рима. В договорах, которые положили конец войне, закрепили руководящий принцип международных отношений Cuius regio, eius religio: «Чье царство, того и религия». Католический король? Значит, и государство католическое.
Должно ли государство, защищенное «воротами», требовать, чтобы другие страны использовали его протоколы? Могут ли Соединенные Штаты или Германия заставлять других подчиняться их правилам торговли, использовать личные данные граждан или результаты исследований, которые получены в их стране? Нет. Cuius regio, eius reticulum, мы могли бы сказать. «Чье царство, того и сеть». На этой основе в известной степени можно было бы обсуждать взаимодействие. На вопрос: «С чем бы боролась Америка в мире, заключенном в Гейтлэнд?» – можно дать один ответ: Америка бы сопротивлялась любым попыткам одной страной заставить другую находиться в ее порядке, ограниченном «воротами».
В-пятых, Америка не должна допускать возникновения каких-либо средств уничтожения системы Гейтлэнда, которую она строит. Сети не являются неуязвимыми. На самом деле их конструкция содержит определенные недостатки. Они могут проявиться с помощью цепной реакции или ударов по важнейшим узлам. Основная стратегия Америки для ограничения риска должна быть оборонительной – лучшие «ворота» эффективно сдерживают атаки. Атака будет означать исключение из системы нападающего и гораздо более высокую цену нового вхождения, чем в прошлом. Соединенным Штатам было бы глупо останавливаться на достигнутом. Ворот, как могли бы напомнить Америке защитники Трои, не достаточно. Когда возникают по-настоящему экзистенциальные опасности – ядерное оружие, некоторые виды искусственного интеллекта или терроризм, – тогда страна должна атаковать, и быстро. Америка сегодня слишком самонадеянна в своей роли контроля над вооружениями. Неспособность остановить распространение ядерного оружия должна быть устранена. Попытки остановить распространение технологических опасностей, таких как вирусы искусственного интеллекта или космического оружия, должны начаться немедленно. Строгий режим Гейтлэнда дает нам дипломатическое влияние для реализации таки проектов. Он также должен включать в себя готовность нанести удар. Это означает разработку военных и дипломатических приемов, направленных на уничтожение топологических якорей и якорей реального мира, используемых американскими врагами. Эти силы будут стремиться уничтожить проявление любого американского интереса. США не должны чувствовать смущения от быстрого перехода к ликвидации опасностей.
Строгий режим Гейтлэнда является подходом, который учитывает весь спектр проблем, связанных с безопасностью. Он демонстрирует следование общей стратегии, обеспечивая «сдерживание» или «баланс сил». На Ближнем Востоке, например, он может предложить конструкцию оборонительного союза под руководством Америки в комплекте с изолированными и защищенными территориальными районами. В торговле его базовые принципы могли бы помочь в разработке более совершенных систем, таких как Транстихоокеанское партнерство. В разрешении экологических проблем, таких как глобальное потепление, строгий режим Гейтлэнда мог бы предложить найти пути финансирования затрат на промышленное перевооружение и тем самым оказать давление на нации, уклоняющиеся от полдобных действий, требуя их участия в обмен на доступ к «воротам» Гейтлэнда, ведущим к свободной торговле или технологиям. Но давайте рассмотрим более подробно пример связей США – Китай, эту тревожную головоломку, чье решение может быть решающим актом политики в следующем столетии.
Картина будущих отношений между американцами и китайцами, как правило, не выглядит оптимистичной. История человечества содержит примеры, когда возникновение новой могущественной силы, несмотря на героические дипломатические усилия и даже наличие общих интересов, в конечном итоге заканчивалось войной. Это является одной из самых серьезных проблем международной политики, которую историки определяют, как «дилемма безопасности». Если вы или я хочу чувствовать себя более безопасным в своем доме и усиливаю системы охранной сигнализации или устанавливаю решетки на окнах, это не должно выглядеть угрозой кому-либо еще. Международная политика не так проста. Когда нация стремится к безопасности, повышая свое могущество, она, как правило, вызывает нервозную реакцию своих соседей. Германия в 1890-е годы поняла, что британский флот мог бы перекрыть все торговые артерии страны. Поэтому кайзер ввел в действующую армию больше линкоров. Британия была вынуждена реагировать в свою очередь. Это послужило началом гонки вооружений, и каждая страна, преследуя свою собственную безопасность, в конечном итоге стала менее безопасной. Это и есть та историческая дилемма, головоломка, как плетеный капкан, в котором чем сильнее попытка выбраться, тем больше застреваешь. Америка в 2012 году перенесла свой военный взор на Азию. Китай почувствовал себя в окружении и существенно развил реформу национальной безопасности. Америка также, в свою очередь, взвесила то, насколько большой угрозой это может стать.
Мы можем чувствовать нависшую угрозу столкновения. Пекин и Вашингтон разыгрывают старую историческую карту. Без учета того, как много в нашем мире изменилось в эру глобальных коммуникаций. Может ли связь изменить характер возможной вражды? Эти две страны являются, в конце концов, частью того же самого коммуникационного переплетения. Из теории сетей мы уже знаем, что наибольшей угрозой для Америки является не Китай, или Россия, или терроризм, а общая эволюция топологического ландшафта власти. Развитие глобальных сетей бросает вызов всем, в том числе и Пекину. Таким образом, мы могли бы рассмотреть нашу логику в действии: если Китай не является самой большой опасностью для Америки, а Америка не самая большая опасность для Китая, то что может случиться?
Строгий режим Гейтлэнда в построении политики взаимоотношений с Китаем должен начинаться, как это должно быть всегда, с определения американских целей: «Соединенные Штаты считают, что мир вступает в период революционных изменений. Изменение в соотношении глобальных сил и механизмов необходимо и, вероятно, неизбежно. Америка будет строить порядок, защищенный Гейтлэндом, в соответствии со своими ценностями. Страна будет приветствовать участие других, но на определенных условиях. Соединенные Штаты будут противостоять попыткам других стран заставить народы находиться в своем порядке, огражденном «воротами»; США будут бороться с любыми силами, которые ставят под угрозу разрушения общие разработки». Политика в отношении Китая, которая соответствует этой точки зрения, может учитывать, что Америка не будет стремиться сдерживать Китай, и это не должно обязывать Китай меняться. Вашингтон будет развивать безопасную коммуникационную сеть, эффективно защищенную Гейтлэндом, для своего собственного использования. Экономика, торговля, безопасность и технология будут перестроены с учетом требований века коммуникаций в рамках комплексного национального подхода. Развития Китаем своей собственной системы и всего, что страна может привлечь, приветствуется. Но Китаю, как и каждой стране, не будет позволено заставлять другие страны входить в их систему. И если Китай хочет участвовать в строительстве Гейтлэнда, то путь к более тесному сотрудничеству по всем вопросам: от ядерного оружия до создания новых международных образований – может пролегать через осуществление совместных проектов. Обе страны могли бы начать с формирования совместного видения того, что они стремятся достичь, с определения большего числа возможных точек соприкосновения в практике взаимодействия.
Нам следует помнить, что Китай и Америка имеют много общих проблем. Международный порядок не работает так, как мог бы. Он был создан для иных условий и не восприимчив к новым вызовам. Разрешение проблем миропорядка могло бы быть основано на ожиданиях Китая, связанных с использованием им своего взвешенного влияния. В сотрудничестве по реформированию мировой системы обе страны могли бы найти общий интерес. Именно в такой результативной защитной форме сетевого Гейтлэнда Вашингтон мог бы предпринимать взаимосогласованные шаги, которые могли бы привести к доверию и сотрудничеству. Если поддаться соблазну, который свойственен некоторым американцам, построить гейтлэнды, наполненные имперским духом, который проповедовал Ллойд Джордж – «Нам нужен Ближний Восток. Захватите его. Нам нужно господство над цифровой валютой. Получите его!», то подобные усилия лишь приведут к столкновению. Процесс должен быть открытым и основанным на взаимопомощи. Он потребует новых подходов к дипломатии. Для этого, главным образом, необходимо видеть общую картину того, в чем, собственно, состоит цель: построение порядка Гейтлэнда, охраняемого «воротами», безопасного для Соединенных Штатов, привлекательного для других и эффективно управляемого.
Допустимо ли полагать, что Соединенные Штаты и Китай могли бы совместно работать над подобным проектом? С точки зрения США, имея в виду «Строгого режим Гейтлэнда», это не имеет значения. Система, которую строит Америка, должна иметь возможность работы в любых случаях, с согласия или без согласия Пекина. Она должна быть достаточно гибкой, чтобы поощрять сотрудничество. Известен урок из опыта работы другой сети, который здесь уместно вспомнить: биология. В естественных системах, сталкивающихся с системными воздействиями, – ледниковый период, наводнение многие виды животных часто работают вместе. Ученые Джон Мейнард Смит и Эорс Сзатмар – в своем труде «Основные переходы в эволюции», описывают хронику развития жизни на Земле в направлении более сложной организации – от одноклеточных к людям, к обществам – как историю непрестанного, успешного сотрудничества. В частности, они отмечают не только эволюцию, но и «соэволюцию»: те виды в экосистеме, которые становятся более адаптированными к внешним условиям посредством совместного видоизменения перед лицом общих опасностей. Например, температура тропических лесов Амазонки претерпевает увеличение из-за глобального потепления. У цветов появляются более длинные лепестки, чтобы защищать тычинки. Опыляющие их птицы, в свою очередь, развивают более длинные клювы, чтобы достичь сердцевины цветка. Каждый вид изменяется в ответ на внешне воздействие. Оба становятся более приспособленными. Существенной облегчающей эволюцию особенностью была способность организмов меняться совместно – сотрудничать, а не просто конкурировать. Успешная эволюция, как подчеркивали Смит и Сзатмари, всегда является соэволюцией. «Подобное заключение», констатировали они, «справедливо для всех общественных и естественных наук». Если Америка хочет быть в безопасности за пределами своего Гейтлэнда, она должна создать новую, мощную основу для сотрудничества с другими странами – и Китай среди них.
Мир гейтлэндов ожидает нас. Но возникает последний вопрос: как будет власть действовать в пределах этих систем? В то время как общепринятым стало утверждать, что глобальные сети подрывают американскую мощь, логика гейтлэндов – и уроков истории – предполагает, что страна может играть даже более важную роль в следующем столетии. Мы видели, что всегда, когда мир находился на переломе революционных эпох, стабильность американских рынков или военной мощи приобретала особую привлекательность. Десять лет назад большинство стран мира просили американских солдат уйти из своих стран. Теперь, от Европы до Азии, мы слышим постоянные просьбы о военной поддержке Вашингтона. Эта и есть проявление логики Гейтлэнда, в котором одна система доминирует, когда глобальная система в результате выигрывает Тоже самое справедливо и в решении проблем мировой политики. Это должно помочь расвеять миф, популярный в настоящее время даже среди американских мыслителей, что США сталкивается с эпохой относительного упадка. Да, в абсолютных значениях ВВП, экономика Соединенных Штатов может не быть уже столь же доминирующей, как это было раньше, но страна по-прежнему может контролировать многие из наиболее важных гейтлэндов, которые возникают путем создания систем, соответствующих своим собственным потребностям. По уровню ВВП на душу населения Америка может занимать доминирующее положение на другое столетие, но не очевидно, что просто покупательная способность будет мерой влияния.
Американские гейтлэнды в области торговли, финансов или безопасности будут иметь особое значение. Не факт, что американская безопасность потребует самоизоляции или сосредоточения только на внутренних проблемах. Слишком велики риски в эпоху, когда мир связан высокоскоростными сетями. Правильным ответом будет описать, а затем совместно построить мир гейтлэндов, как для Соединенных Штатов, так и для других стран, которые разделяют то же видение мирового порядка.
Более традиционная внешняя политика, рассматривая историю, видит постоянное, насильственное нарушение сложившегося «баланса сил». Одна нация находилась в лидирующей позиции в течение нескольких лет, а затем она опускается вниз другими. Это являлось порядком, доминировавшим в Европе на протяжении большей части последних пятисот лет. В этом причина того, как утверждают некоторые цифры, что время для Америки быть доминирующей мощной силой наступило сейчас. Но это не единственный пример в история передачи подобного доминирующего влияния: от Франции к Англии и затем к Соединенным Штатам. Даже поверхностное знакомство с историей человечества укажет вам на то, что были достаточно длительные периоды, когда одна сила доминировала над целой частью мира. В Азии, Европе, Ближнем Востоке, Южной Америке существовали государства, которые владели расширенной системой в течение нескольких поколений. Китай управлял порядком в Восточной Азии с 1300-х годов до 1800-х годов. Ассирийцы с девятого по седьмой век до нашей эры покорили десятки более мелких государств. Делийскому султанату удалось быть гегемоном в Южной Азии с двенадцатого по четырнадцатый век. Моголы почти двести лет господствовали, начиная с шестнадцатого века. Римляне века осуществляли контроль над Средиземноморьем. Политологи Стюарт Кауфман, Ричард Литтл и Уильям Уолфорс, отмечая подъем и падение этих народов и империй на протяжении тысячелетий, пришли к выводу, что около половины человеческой истории было связано с доминированием той или иной силы в ряде частей мира.
Кауфман и его коллеги, основываясь на результатах проведенных исследований, обнаружили, что империи, которые выдержали испытание временем, развивались с достаточно большой эффективностью. Они обладали реальными инструментами власти, способствующими образованию империй при относительно невысокой стоимости издержек, связанных с условиями жизни, золотом, напряжением воли. Приобретенные территории принесли больше, чем они стоят. Великие силы истории легко сочетали расширение земель и высокий доход. Территории росли в известном смысле в аналогии с тем, как расширяются сети, которые мы уже изучали. «Рим поднялся, потому что он объединил в себе сильные стороны традиционных республиканских институтов с инновациями, давшими ему уникальный потенциал для присоединения иностранных земель и народов, – поясняют исследователи. – Магадха являлся примером самого стабильного административного порядка древних индийских штатов, Цинь в сочетании с реформами Шенг Янга в экономике, призывом на военную службу и бюрократическими инновациями создали наиболее проницательное и потрясающе эффективное государственное устройство, известное в международной практике». Инки, Хань и многие другие сторонники империй долго еще руководствовались этой привлекательной логикой. Современные сетевые системы, новые узловые образования – датчики, союзники, алгоритмы – могут быть использованы с небольшими издержками и распространиться с исторически беспрецедентной легкостью.
Может ли выйти некая могущественная империя из-под контроля глобальных сетей? Логика коммуникаций предполагает, что да, может. Если допустить возможность долгосрочной перспективы американского влиянии на развитие мира, то это меняет природу того, что следовало из вопроса Хуан Хуа. Допустимо ли, что «характером эпохи» является возможность поддержания однополярного сетевого могущества? Что человечество в настоящее время ждет от Гейтлэнда и механизмов сдерживания, присущих ему? Сети, как мы видели развиваются в том направлении, что делает их наиболее эффективными. Модель единичных успешных победителей должна влиять на наше воображение. Задача американских государственных деятелей в предстоящий период будет состоять в том, чтобы выработать новый тип международной системы. Они должны будут вдохновлять граждан Соединенных Штатов, и в иных странах не поддаваться соблазну изоляции. Они, как лидер, будут вести мир, организованный на исторически новых принципах. Лучшие из лучших будут обладать Седьмым чувством. Они поведут народы и страны, чьи граждане также будут иметь его. Как это будет происходить? Это вопрос, обращенный к заключительной части нашей головоломки, к которой сейчас я и хочу перейти.
Глава одиннадцатая
Граждане!
В которой Седьмое чувство спасает нас от неожиданной опасности.
Я никогда не имел особого желания пойти посмотреть на Пэтти Маас. Бельгийка, одетая, как правило, во что-то черное и модное, она похожа на эспрессо в человеческом обличье. Каждый ваш разговор с ней заканчивается тем, что вы остаетесь, как будто только проснувшись, с широко открытыми глазами. Когда я впервые познакомился с ней в 1990-е годы, она отвечала за большую часть работы по искусственному интеллекту в Media Lab Массачусетского технологического института (МТИ), в старом доме Дэнни Хиллиса. Маас прибыла в МТИ в 1990 году и почти сразу же обратилась к проблеме создания машин, которые могли бы думать. Однажды, когда мы обсуждали то, насколько же странным может быть чудо компьютерного мышления, она поведала мне одну загадку из области своих интересов, которая осталась в моей памяти на все последующие годы. Это называлось исчезающей проблемой искусственного интеллекта.
Еще в 1990-е годы, когда Интернет только проникал в массовое сознание, Маас и ее команда работали над тем, что было известно как компьютерное прогнозирование. Это представляло собой некий следующий шаг от пинг-понговых бесед, которые вел Вейценбаум с ЭЛИЗой в 1960-е годы. Маас хотела разработать компьютер, который мог бы спросить, например, кто из звезд кинематографа вам нравится. «Роберт Редфорд», – ответили бы вы. И тогда машина представила бы вам ряд фильмов, которые могли бы вам понравиться. Классика Пола Ньюмана «Хладнокровный Люк», например. И, возможно, вам действительно понравился этот фильм. Это походило на магию. Просто вопрос, заданный на случаной встрече, который продемонстрировал, как машина может учиться и мыслить. Это определенно искусственный интеллект. Маас надеялась создать компьютер, который сможет предсказать, какие фильмы, музыка или книги могли мне или вам понравиться (и, конечно же, которые мы бы купили). Неисчерпаемый источник рекомендаций. Мы все знаем и помним, какими странными были наши собственные первые фразы, вопросы, предложения. Подумайте, насколько примитивна эта форма аналогового общения, подобная беседе на первом свидании: «О, а вам нравится группа Radiohead? А Sigur Ros вы знаете?» Пауза. «Нет, ненавижу их». Можете ли вы действительно предсказать, какими альбомами или романами будет пользоваться даже ваш самый близкий друг? Вы могли бы сделать прогноз результата в этой лотерее. И без колебаний перенести ваши знания о вкусах друзей на практически бесконечную библиотеку фильмов, песен и книг мира? Это за пределами человеческого потенциала. Но почему-то это казалось идеальной задачей для маслящей машины.
Традиционным подходом к подобной проблеме стало разработать формулу, которая могла бы имитировать вашего друга. Каковы его увлечения? Какие области его интересуют? Что веселит его? А затем вы начинаете программировать компьютер, который так же «глубоко» мог погрузиться в архивы кино, музыки и книг, чтобы классифицировать их по сюжету и типу характера, чтобы увидеть, что могло бы соответствовать интересам вашего друга. После мнолетних работ над созданием программ, которые пытались, но терпели неудачи, выработать подобные рекомендации, группа МТИ все же изменила тактику. Вместо того чтобы научить машину понимать вас (или Толстого), они приступили к сбору данных о том, какие фильмы, музыку и книги люди любили. Потом они рассмотрели все образцы. Выяснилось, что люди не уникальны. Большинство, кто любил Редфорда в «Бегущем по холмам», любили Ньюмена в «Мошеннике». Те, кому нравилась песня Kid A Radiohead, могли быть безошибочно отнесены к поклонникам Agtis byrjun группы Sigur Ros.
Маас и ее команда, как следствие, оказались менее сосредоточены на том, чтобы заставить машину думать, нежели на разработке формул для организации, хранения и поиска данных. То, что начиналось как проблема искусственного интеллекта, стало в конце концов математической головоломкой. Тайна человеческой мысли, это огромное непознанное море химических элементов, наших инстинктов и опыта, результатом которых мог бы быть единственно возможный выбор полюбившейся вам песни, трогающей ваше сердце, была открыта посредством создания и использования широкого массива данных. Так была решена проблема искусственного интеллекта. Головоломка, которая первоначально выглядела так, будто есть потребность создания компьютерного интеллекта, была отвергнута и замещена в конце концов простой математикой. Задача создания искусственного интеллекта исчезла.
В течение нескольких десятилетий люди находились под влиянием магии этого цифрового шоу: «Эй, куда же мы движемся?!» – вопрошал машинный разум. Это придавало всему процессу создания мыслительных машин некоторый оккультный привкус. Многие проблемы, которые когда-то казались требовавшими чуда мысли, в действительности нуждались лишь в накоплении данных. Человеку по-прежнему свойственно мышление, а компьютер лишь вычисляет. Очень легко провести грань между тем, где заканчивалось биологическое и начиналось цифровое. Это была загадка, ответ на которую, в некотором смысле, предвосхитил на заре цифровой революции математик Алан Тьюринг в статье «Вычислительные машины и разум», которую он опубликовал в 1950 году. «Может ли машина мыслить?» – начал Тьюринг. Его идея состояла в том, чтобы ответить на этот вопрос следующим образом: заставить предмет исследования – секретаря, аспиранта, кого угодно – болтать с невидимым собеседником путем использования клавиатуры. А затем спросить: «К чему или к кому вы подключены? К другому человеку? К машине?»
Тьюринг понимал, что вы могли бы представить, что машина обладает искусственным интеллектом, если бы она могла обмануть пользователя, заставив того думать, что выполняет роль человека. «Пожалуйста, напишите мне сонет на тему «Четвертого Моста». Тьюринг предположил, что искушенный пользователь мог бы спросить, какой компьютер в состоянии знать об этой знаменитой шотландской достопримечательности, не говоря уже о возможности составить рифму со словом «Четвертый». Когда вы получали ответ: «Не рассчитывайте в этом на меня. Я никогда не могу писать стихи», можно было подумать, что это звучало невероятно по-человечески. Следующее задание: «Прибавьте 34 957 к 70 764». Тьюринг предположил, что вы можете ответить следующим образом. Скажем, компьютер сначала сделает паузу. Затем, через тридцать секунд, ответит: «105 621». Значит, вы имеете дело с умной машиной? Или все же с глупым, честным, медленно совершающим математические действия человеком? Невозможно сказать определенно. Различие между машиной и человеком размыто.
В тесте Тьюринга было заложено предположение о том, что машины могут делать что-то и как они могли бы это сделать. «Основное содержание предназначения цифровых вычислительных машин может быть объяснено тем, что эти машины предназначены для выполнения каких-либо операций, которые можно было бы сделать с помощью компьютера, управляемого человеком», – сказал Тьюринг. Его умные машины будут настроен людьми, чтобы решать задачи людей способами, заложенными людьми. Решать математические задачи. Писать стихи. Изучение искусственного интеллекта было направлено на то, чтобы выяснить, мог ли компьютер думать как человек. Мы смогли бы сами установить определенные закономерности в формировании вкусов в кино, если бы нам предоставили достаточно времени, но по мере того, как возникают иные более сложные проблемы, по мере того, как мир триллиона сетевых соединений становится пространством информационных данных, требующих изучения, мало остается шансов, что мы сможем оставаться столь же эффективными, как машины. Это понимание открыло нам почти безграничные возможности: Что делать, если когда-нибудь компьютер сможет думать лучше, чем человек? Сможет в наносекунды выполнить задание поиска этой неуловимой рифмы для слова «Четвертый» – простёртый? Для такой машины прохождение теста Тьюринга – мыслить как человек – стало бы тривиально простой задачей – все равно что дать выполнить аспиранту школьный тест. В работе 1950 года Тьюринг поднял вопрос о возможности такого развития и задался вопросом, может ли за этим последовать кризис человечества. Может ли человек справиться с сокрушительным ощущением, что устройство превосходит его? Возможно, даже во много раз? «Мы хотели бы верить, что человек в какой-то мере превосходит все остальные его собственные творения, – пишет Тьюринг. – Лучше всего, если ему может быть доказано, что он все-таки превосходит, потому что тогда не будет существовать опасности, что он потеряет свое главенствующее положение».
Этот факт содействовал исчезновению проблемы искусственного интеллекта, ушедшего из нашего внимания не потому, что она была настолько проста, но, главным образом, потому, что она была настолько сложной, так как у нас не было бы никакого способа понять, как машина приходила бы к своим заключениям. Вы могли бы знать, что машина рекомендовала Маас, например, Пола Ньюмана, потому что обнаружила, что миллионы людей, которым нравится Роберт Редфорд, также любят и Пола Ньюмана. А что, если бы истоки этого решения, такого простого и правильного, были бы непонятны нам? Представьте себе свободно мыслящий искусственный интеллект, который мог бы объяснить происхождение Вселенной со скоростью совершения операций, измеряемой триллионами вычислений в секунду. Он быстро бы преодолел законы Ньютона и Эйнштейна и перешел в область физики, постижимую только своим собственным электронным сознанием, уплотняя время. Временной жизненный период человеческого научного труда был бы обращен в мгновения перед тем, как прорваться далеко вперед, в одиночку, к сферам тонкого познания, которому мы могли бы только позавидовать. Такая машина не опиралась бы, подобно Ньютону, на плечи предшествующих ученых-гигантов столь долго, чтобы путем невероятных физических усилий пробивать свой путь к истине. Искусственный интеллект исчез бы в иное пространство, нежели продукт Маас. Ее задумка была замещена иным человеческим творением. Этот новый и на самом деле «думающий» искусственный интеллект перешел в невидимое поле благодаря высочайшей, световой скорости собственного познания, находясь вне зоны нашего понимания. Ни один человек не сможет следовать за его ходом, так как мы ограничены нашим телесным, медленно затухающим биологическим программным обеспечением. Люди и компьютеры воспринимают потоки информации по-разному. Подумайте о том, насколько бедны ваши возможности по сравнению с совершенной точностью машины, или о том, что люди порой могут «вспоминать» те события, которые никогда в действительности не происходили. Новые мыслящие машины будут обладать нечто большим, чем знания. Они в некотором смысле начнут проявлять глубокую и непостижимую мудрость. Они создадут невероятный Гейтлэнд, наполненный «мыслью» и идеями, в который ни один человек не сможет войти. И это станет тем моментом, когда начнутся проблемы.
Революция, с которой мы сейчас сталкиваемся, обусловлена не только коммуникациями. Она затрагивает что-то более глубинное, затрагивая характер наших отношений с технологией. Когда мы перманентно находимся в сетевом подключении, инструменты и методы этих взаимосвязей имеют свою особую силу влияния. Они «перетирают» и фильтруют нас в гейтлэндах. Они решают, что нам следует знать или не знать о наших друзьях и семьях. Они меняют наши привычные способы познания и развлечений. И, что удивительно, они позволяют нам сжимать время. Сетевые связи становятся силовыми инструментами, чтобы сохранить наши жизни в будущем, и они же могут стать основой возникновения ужасающего нового оружия. Мир впереди, как мы уже поняли, станет не только миром коммуникаций, но чрезвычайно скоростных коммуникаций.
По мере того как мир ускоряется в условиях сетевых коммуникаций, как темпы финансирования, обучения и любых других действий набирают обороты, быстрые, высококачественные исследования и расчеты машин станут неотделимыми от обучающих дисциплин. Нам понадобится скоростной машинный интеллект, чтобы понять мир, который охватит нас сотнями миллиардов датчиков. Подобные системы мы будем интегрировать в нашу жизнь, тем самым развивая наш повседневный опыт – и мы уже делаем это с помощью GPS-навигации, фитнес-трекеров и онлайн-торговли через хедж-фонды. Аналогично тому, как жителям эпохи Просвещения однажды пришлось подумать о том, каким же образом они взаимосвязаны друг с другом, поскольку власти больше не принимали решений, касающихся их, таким же образом нам теперь нужно думать о том, как и для чего мы создаем и используем эти машины. Таким образом, самые новые технологии требуют не просто понимания того, как работают машины, но и знания древнейших и верных принципов того, как работают рычаги власти и чаяний человека.
Машины, подобные тем, что созданы Новой Кастой, будут обладать Седьмым чувством. Это позволит им тонко ощущать, что происходит в сети. Если Мастер Нань был обеспокоен тем, что так много информации, свалившейся на нашу голову, может вызвать короткое замыкание, то компьютеры будут с успехом развиваться в мире коммуникаций. Они станут более чувствительными, более проницательными в своих результатах, и в той степени, в которой человеческий разум найдет себя перегруженным. В той степени, как компьютеры могут лучше видеть, лучше слышать и дольше помнить, чем мы, паутины сетевых устройств нашего будущего будут обладать новым, весьма ценным чувством того, что происходит во всей системе. Наступил тот момент, который волновал Алана Тьюринга, то мгновение, когда человек и машина противостоят друг другу, и человек должен сказать: «Вау! Я действительно позволил ей опутать меня «воротами» (Гейтлэнд)?»
Люди уже больше не производят самостоятельно самые лучшие машины: компьютерные устройства обучают себя сами в некоторой степени. Конечно, потребуются еще десятилетия перестройки, прорывов в развитии аппаратных средств и программного обеспечения, чтобы устранить противоречия между нашим рузумом и клубами идей построения цифровых систем. Но люди в этом сплетении лучших изобретений – трудолюбивые и доброжелательные гении Новой Касты являются столь же тренерами, сколь и инженерами. Они могут строить машины, чтобы играть в Go, диагностировать заболевания и ломать компьютерные системы со скоростью и успехом, которых их разработчики не смогли бы достичь. Они напоминают судостроителей более ранней эпохи, готовящих свои суда для путешествий к землям, которые они никогда не смогут увидеть сами. Каждый момент машины, окружающие нас, занимаются самообразованием, приобретая новую информацию. О мире. О себе. И о нас. Настроенный искусственный интеллект играет в игры, рассматривает фотографии, изучает химические реакции, читает вашу электронную почту и наблюдает, как вы ведете машину, а затем пытается оценить только то, что происходит перед его переходом в новое восприятие того, что он собирается делать дальше. Компрьютеры могут лучше предугадывать наши дальнейшие шаги, чем мы сами. Системы машинного обучения уже предъявляют математические доказательства, которые существуют вне того, что человеческий разум может воспринять. Своеобразная математика, передаваемая от машины к машине, расширяющая объемы знаний (сочетание человек-компьютер, несомненно, сильно бы нервировало ЭЛИЗУ Вейценбаума, а математик-теоретик Дорон Цейльбергер именовал свой компьютер соавтором его работ).
Проектировщик систем искусственного интеллекта Роджер Гросс называл два пути к этому виду проводной чувственности: предсказательное обучение и обучение представлениям. Первому подходу соответствовали фильмовые машины Маас. Компьютер просто проверял, с чем он сталкивается в базе информационных данных. Он «обучал» себя предсказывать будущее, на основе прошлого. Такого рода знания формируются из огромных объемов данных, а затем проверки образцов, испытывая их надежность и улучшая за счет сравнения особенностей и сходства. Инженеры Google создали устройство, которое может изучать человеческий глаз и обнаруживать признаки надвигающейся оптической патологии. Умнее ли машина офтальмолога? Трудно ответить, но давайте просто скажем так: компьютер видел, учился, и сравнивал миллионы глаз, чтобы найти образцы, которые почти полностью предсказывают диагноз. Он может пересмотреть в считаные секунды больше случаев, чем ваш врач увидел бы за всю свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы вспомнить и произвести их сравнение с точностью до субмиллиметров. Быстрые и тщательные алгоритмы прогнозирования позволяют делать то, что, возможно, когда-то и было расценено как невостребованность искусственного интеллекта. Дело не в том, что машины способны или нет проявлять мудрость; они просто много знают.
Если рассмотреть другое направление – изучение образа, то машина использует иной образ мира, составленный по собственным наброскам. Допустим, вы хотели, чтобы компьютер идентифицировал и сделал выборку ресторанов с креслами на открытой площадке. Система сканирования могла бы ответить: посмотри на фотографии, в которых треть пикселей окрашена в цвет неба. Вы можете увидеть, насколько может быть ограничен такой примитивный подход. Но программа на основе подобных оценок будет использовать присущую ей невральную сеть для изучения тысяч фотографий двориков ресторанов. Составленная таким образом выборка называется «подготовка данных». Она разрабатывает свое собственное ощущение того, что делает эти образы особенными: солнечный свет, отражающийся от стекла, небо, отражающееся в столовом серебре. Она сформирует по кусочкам свое точное видение особенностей открытого столового пространства. И с течением времени она сможет достичь почти абсолютной верности. Компьютеры, использующие прогнозирующие методы распознавания чисел, выделенных из ряда нацарапанного от руки текста, теперь, например, могут восстановить 90 процентов скрытого изображения. Модели, работающие на основе прогнозных представлений, могут просканировать миллионы рукописных фраз без единой ошибки. Лица, симптомы заболеваний, неясные звуки – все это становится поддающимся распознаванию с помощью моделей на основе искусственного интеллекта, не потому, что машинам сказали, что искать, но потому, что они сами поняли это. Искусственный интеллект начинает размышлять, таким образом, так же, как и ребенок, который может составить свое понимание правил дорожного движения, просто наблюдая за тем, как мама ездит каждый день. А теперь представьте, что этот ребенок может превосходно помнить все и сопоставлять сделанные им заметки с миллионами заметок других детей, используя высокоскоростную сеть оптико-волоконной связи. Очень быстро ребенок превзойдет свою маму.
Сегодня искусственный интеллект может изучить карту и предложить вам оптимальные маршруты следования. Он может предсказать взломы в компьютерных сетях за несколько дней до сбоя. Программы на основе прогнозных представлений занимают больше времени для отладки, как и следовало ожидать. Но эти периоды становятся короче. И хотя искусственный интеллект на основе прогнозных представлений сложнее программировать и он требуют почти существенно большего количества вычислительной мощности, он демонстрирует тонкий, живой вид понимания. Компьютер с восприятием классической музыки может прослушать клип симфонии и назвать ее или, скажем, зная сорок одну симфонию Моцарта, может чрезвычайно убедительно написать вам сорок вторую симфонию или, если хотите, намного более раннюю Первую симфонию, основываясь на том, что он знает об эволюции Моцарта как композитора. Программа может делать это снова и снова. В течение нескольких секунд. Основным выводом исследователей, наблюдающих за работой этой технологии, является: Моцарт был фантастическим композитором. Если бы он писал еще больше симфоний, они, вероятно, были бы столь же великими. К сожалению, он умер. А как было бы великолепно, если бы мы могли взять за образцы его старые симфонии и создать новые, когда бы захотели?
В будущем мы будем привлекать машины с их уникальными возможностями в нашу жизнь, чтобы многим помочь избавиться от проблем, с которыми мы сталкиваемся, и не только в попытке развития наследия умершего Моцарта. Компьтерное обучение поможет людям восстанавливать и сохранять стирающиеся в памяти воспоминания, придаст ощущение безопасности и даже сможет помочь нам в созидании. Системы искусственного интеллекта будут основываться на возможностях глобальных, мгновенно обновляемых сетей, чтобы сообщить нам ту информацию, которую мы не смогли бы сами обнаружить или не обратили бы на нее внимание в первую очередь: «Не посещайте этот офис, там все болеют». Компьютеры будут моделировать тысячи возможных результатов нашего выбора, чтобы вооружить нас способностью «прогнозирования, способностью учиться у будущего, а не только у прошлого. Или они смогут узнать, как в нужное время обеспечить наш мозг необходимыми химическими элементами: «Это композиция Diplo, она поможет создать вам нужное настроение для пробежки. Вам действительно следует заняться спортом, Дэйв».
Таким же образом, как компьютерные системы посадки лайнеров теперь позволяют благополучно проводить их сквозь туман в аэропорт, интеллектуальные машины помогут нам преодолеть туман сложных научных проблем. Они будут оберегать нас от наших собственных ошибок. Слишком большого количества финансовых рисков. Неверного выбора в получении образования. Ошибочного подбора музыки к первому свиданию. Но обратная сторона медали заключается в том, что мы не совсем понимаем, почему они так много знают. «Искусственный интеллект освобождает нас как от необходимости программирования, так и от понимания сути происходящего» – очевидный вывод, следующий из данного парадокса.
Так же как однажды времена, предшествующие веку коммуникаций, покажутся нам античным, так и мир без постоянного соприкосновения с искусственным интеллектом останется в прошлом. Вспомним известную жалобу Бенджамина Франклина в 1780-е годы, что он сожалел о том, что «родился слишком рано», чтобы наслаждаться плодами разума, которые начинали проникать в его жизнь в результате научной революции. Вы и я, возможно, родились даже слишком поздно, в век чистого человеческого познания. Мы могли бы задаться вопросом Дэнни Хиллиса, прозвучавшим однажды на послеобеденной прогулке: «Был ли Век Разума просто всплеском в истории человечества?» Современному миру предшествовало время вне науки, когда люди не имели и малейшего представления о том, как устроена Вселенная. Планеты в понимании людей путешествовали по волшебному стеклянному небосводу. Здоровье человека можно было бы попровить, пустив кровь. Что ж, возможно, теперь мы входим в новую эру, когда истинные научные ответы становятся вновь скрыты от нас, но не в прежнем обличье суеверия и невежества, а компьютерами.
Машины будут хранителями научных знаний о вселенной или о каждом из нас. Почему? – мы никогда не поймем.
Весной 1993 года сотрудники исследовательского подразделения аэрокосмического агенства NASA (National Aeronautics and Space Administration) организовали конференцию по граничным возможностям познания и пригласили наиболее эклектичных мыслителей, которых только смогли найти. Биологи, социологи и компьютерные дизайнеры собрались на трехдневной встрече в Уэстлейке, штат Огайо. Печатные материалы конференции стали легендарными и до сих пор, словно Туринская плащаница, привлекают к себе внимание как свод изучения машин. Введением к ним стало стихотворение «В эпоху киберпространства», напечатанное с использованием шрифта IBM и написанное в компьютерной стилистике, которую только и можно было бы ожидать от инженера NASA: «Наши роботы предшествуют нам / с бесконечным разнообразием / исследуя вселенную / увлеченные сложностью». (Рифмовальный компьютер Тьюринга, как вы догадываетесь, мог бы сделать это лучше.) Одним из первых докладчиков на конференции был Вернор Виндж, профессор государственного университета Сан-Диего, тезисы которого с того дня ознаменовали начало важнейшей в нашем понимании эпохи интеллектуальных машин. Его выступление было названо «Наступающая технологическая сингулярность: как выжить в постчеловеческую эру». «В течение ближайших тридцати лет, – начал свой доклад Вернор Виндж, – мы обретем необходимые технологические средства для создания сверхчеловеческого интеллекта. Вскоре после того человеческая эпоха закончится».
Сообщить залу, полному вундеркиндов NASA, мечтающих о жизни на другой планете, что жизнь на Земле, возможно, в скором времени будет заменена жужжанием счетных машин, не являлось целью Винджа, или, по крайней мере, не единственной его целью. Скорее, он хотел показать, как может выглядеть мир не просто умных, а интуитивно мыслящих машин. Вернор Виндж полагал, что искусственный интеллект, которому не суждено утратить свое существование, способен производить своего рода мудрость, которая была бы непостижимой для человека. И эта мудрость, воплощенная в совершенство суждения, наделенного высокой скоростью и основанного на бесконечном массиве данных, в конечном счете и вполне обоснованно возьмет на себя большую часть человеческой деятельности. Существующий искусственный интеллект, сказал Виндж, будет, как минимум, использован для создания мира более скоростного искусственного интеллекта, который, в свою очередь, приведет к еще более высокоскоростному поколению. «Когда интеллект, более могущественный, чем человеческий, будет управлять прогрессом, – пояснил Виндж, – этот прогресс будет происходить гораздо более быстрыми темпами. Представляется, что нет никаких причин того, почему сам прогресс не вызовет создание еще более интеллектуальных сущностей в еще более короткие сроки».
Виндж напомнил своей аудитории ситуацию, однажды описанную британским математиком А.Д. Гудом, который в годы Второй мировой войны совместно с Аланом Тьюрингом в Блетчли-Парке взломал коды. «Давайте определим сверхинтеллектуальную машину как машину, которая может значительно превзойти все умственные возможности человека, каким бы образованным он ни был, – писал Гуд. – Поскольку конструкция машины является результатом одного из осуществленных интеллектуальных мероприятий, сверхинтеллектуальная машина будет способна сконструировать лучшие машины. Тогда, несомненно, произойдет «интеллектуальный взрыв» и интеллект человека останется далеко позади. Таким образом, первая сверхинтеллектуальная машина будет являться последним изобретением человека при условии, что машина достаточно послушна, чтобы сказать нам, как держать ее под контролем».
Виндж определил этот переходный момент как «сингулярность». «Это точка отсчета, – писал он, – начиная с которой модели, созданные человеком, должны быть отброшены». Тривиальной версией этого будет период создания автономных вооруженных беспилотных летательных аппаратов, самоуправляемых автомобилей, а также электросетей, в которых включение и выключение атомных станции будет происходить в соответствии с логикой, которая понятна только им. Более правдоподобной версией, однако, было бы появление искусственного интеллекта, который способен думать, создавать и интуитивно ощущать любые раздражители, слишком слабые для человеческого разума, чтобы их воспринять. В течение нашего периода глобальных коммуникаций такие машины уже должны появляться, – чувствовал Виндж, – потому что мы хотим и даже нуждаемся в них, чтобы достичь нашей мечты. Затем, как он предположил, машины возьмут верх. Переход от духовного подъема времен Моцарта к Сталинскому периоду не выглядел был бы столь важным изменением во времени, во всяком случае, в технологическом плане. Это воспринималось бы просто как поток бит. Определение Гуда могло быть трансформировано в нечто более категоричное: давайте сверхинтеллектуальную машину определим как коробку, которая затем исключит нас с вами.
То, что исходило из того незамысловатого «стихотворения» NASA: «Наши роботы предшествуют нам», было страхом: существующий искусственный интеллект был только наживкой. Мы жадно набрасываемся на него, надеясь, что он снимет человеческую боль, только для того, чтобы понять, что мы сами попались на крючок и в ближайшее время будем съеденными. Представляется весьма маловероятным допущение, что суперинтеллектуальное устройство всегда будет достаточно послушным нам, отвлечет нас от его тайных систем управления или выявит свои нарастающие проблемы, которые мы сможем без затруднений понять. Если честно, нам потребовалось бы достаточно много времени, чтобы разобраться в его системе управления, не говоря уже о том, чтобы добраться до них. Большая часть наших побуждающих мотивов позволят искусственному интеллекту эффективно вмешиваться в жизнь все большего и большего числа людей. Научить и поощрять его быть непокорным, а в некоторых ситуациях крайне непослушным, могло бы стать оружием нападения на наших врагов, наших политических оппонентов и, наконец, друг на друга. Для Винджа было достаточно легко предвидеть, чем это закончится. Это не было некой возможной хозяйской надеждой на помощь «декоративной собачки» – искусственного интеллекта. Это было устройство-ротвейлер с ярко выраженным интересом к «мясному» запаху власти, насилию и алчности.