Птица не упадет Смит Уилбур
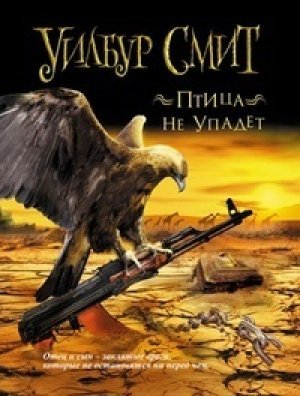
Эту книгу я посвящаю своей жене Мохинисо. Прекрасная, любящая, верная и преданная, ты единственная в мире.
Тучи цвета старого кровоподтека, низко нависшие над полем боя, тяжело и величественно двигались в сторону немецких траншей. Бригадный генерал Шон Кортни провел во Франции всего четыре зимы, но уже научился предсказывать погоду почти так же точно, как в родной Африке. Навыки фермера и скотовода никуда не исчезли.
— Вечером пойдет снег, — сказал Шон, и лейтенант Ник ван дер Хеевер, его адъютант, оглянулся через плечо.
— Я бы не удивился, сэр.
Ван дер Хеевер был плотного сложения. Кроме ружья и обязательного снаряжения, он нес на плече брезентовую сумку, потому что генерал Кортни собирался отобедать в офицерской столовой второго батальона. В данный момент полковник и офицеры этого подразделения знать не знали о выпавшей им чести, и Шон злорадно улыбнулся, представив себе, какую реакцию вызовет его неожиданный визит. Это потрясение отчасти могло компенсировать то, что они несли в сумке: полудюжина бутылок вина и гусь.
Шон прекрасно знал, что офицеров смущают его неуставное поведение и привычка внезапно и без сопровождения штаба появляться на переднем крае. Неделю назад он подслушал разговор майора и капитана по полевому телефону.
— Старый ублюдок думает, что он все еще на войне с бурами.
— Неужели вы не можете посадить его в клетку при штабе?
— Как посадить в клетку слона?
— Ну, в следующий раз хоть предупреди нас.
Шагая за своим адъютантом, Шон снова улыбнулся. Полы его шинели хлопали по ногам в крагах; под каской в форме супницы был повязан теплый шелковый шарф. Доски под ногами генерала проседали, и грязь булькала и выступала между ними.
Эта часть передовой Шону была незнакома — бригада переместилась сюда всего неделю назад, — но зловоние было тем же, что и везде. Тяжелый дух сырой земли, смешанный с вонью гниющей плоти и испражнений, застарелый запах сгоревшего бездымного пороха и взрывчатки.
Шон принюхался и с отвращением сплюнул. Он знал, что через час привыкнет и перестанет замечать этот смрад, но сейчас он встал колом в горле, как застывший жир. Генерал снова посмотрел на небо и нахмурился. Либо ветер слегка изменил направление, либо люди в этом лабиринте траншей свернули не туда: облака катились не в том направлении, куда им следовало двигаться согласно карте, которую Шон держал в руке.
— Ник?
— Сэр?
— Вы не заблудились?
Шон увидел, что молодой младший офицер неуверенно оглянулся. По крайней мере с четверть мили траншей были пусты, спутники не встретили среди высоких земляных стен ни одного человека.
— Нам надо осмотреться, Ник.
— Есть, сэр.
Ван дер Хеевер устремил взгляд вдоль траншеи и нашел то, что искал. На следующем перекрестке к стене была приставлена деревянная лестница. Она доходила до самого бруствера из мешков с песком. Лейтенант направился к ней.
— Осторожней, Ник! — крикнул ему вслед Шон.
— Все в порядке, сэр, — ответил молодой человек и прислонил ружье к стене у лестницы.
Шон считал, что они еще в трех-четырех сотнях ярдов от передовой.
Быстро темнело. Из-за густых облаков все вокруг приобрело слегка лиловый оттенок. В такую погоду попасть в цель трудно, к тому же Шон знал, что ван дер Хеевер опытный солдат: он выглянет из-за бруствера быстро, как мангуст из норы.
Шон смотрел, как адъютант на самом верху прижался к стене, на мгновение высунулся и тут же убрал голову.
— Холм слева от нас, но слишком далеко, — сообщил он.
Ник имел в виду низкое круглое возвышение, поднимавшееся всего на сто пятьдесят футов над однообразной равниной, почти лишенной ориентиров.
Когда-то холм был покрыт лесом, но сейчас там торчали лишь обломанные стволы высотой по пояс, а склоны были изрыты воронками от разрывов.
— Далеко ли ферма? — спросил Шон, по-прежнему глядя наверх.
Упомянутый дом в самом центре батальонного сектора представлял собой прямоугольное строение без крыши, с обвалившимися стенами, и обычно служил пристрелочным ориентиром для артиллерии, пехоты и самолетов.
— Посмотрю еще раз. — И ван дер Хеевер высунулся над бруствером.
Из маузера стреляют с очень характерным звуком, высоким и зловещим; этот звук Шон слышал так часто, что мог определить по нему расстояние и направление.
Одиночный выстрел с пятисот ярдов, почти прямо впереди.
Голова ван дер Хеевера дернулась назад, словно от сильного удара, и его металлическая каска уподобилась гонгу. Подбородочный ремень лопнул, каска высоко взлетела в воздух, упала на доски на дне траншеи и откатилась в лужу серой грязи.
Еще мгновение руки ван дер Хеевера оставались на верхней перекладине лестницы, потом пальцы, лишившись команд мозга, разжались, и лейтенант рухнул на дно траншеи; полы его шинели разлетелись при падении.
Шон стоял как вкопанный — ему не верилось, что в Ника попали, но, как военный и охотник, он со страхом и благоговением оценил этот единственный выстрел.
Что за виртуоз? Пятьсот ярдов при тусклом свете; один короткий взгляд на высунувшегося на мгновение Ника; три секунды на то, чтобы установить прицел и выстрелить во вновь показавшуюся голову. Немец, сделавший это, либо превосходный снайпер с рефлексами леопарда, либо самый удачливый солдат на всем Западном фронте.
Эта мысль промелькнула мгновенно. Генерал тяжело шагнул вперед и склонился над своим офицером. Шон просунул руку ему под плечи, перевернул и почувствовал, как что-то холодное сжимает грудь.
Пуля вошла в висок и вышла за противоположным ухом.
Шон положил прострелянную голову к себе на колени, снял свою каску и принялся разматывать шелковый шарф. Он ощутил пустоту утраты.
Шон медленно обернул голову молодого человека шарфом, и сквозь тонкую ткань сразу просочилась кровь.
Бесполезный жест, но он помог занять руки и отогнать ощущение беспомощности.
Хмурый Шон, сгорбившись, сидел на грязных досках, держа на коленях голову мальчишки. Благодаря густым, темным, жестким, с седыми прядками, волосам, блестевшим на морозном воздухе, Шон казался большеголовым. Короткая густая борода тоже с проседью, большой нос с горбинкой свернут на сторону и кажется сломанным.
Только черные дуги бровей гладкие, ровные, а глаза ясные и кобальтово-синие — глаза молодого человека, спокойного и внимательного.
Шон Кортни сидел так долго, потом вздохнул и опустил голову убитого на землю.
Встал, взвалил на плечо сумку и двинулся дальше по траншее.
За пять минут до полуночи полковник, командир второго батальона, пригнувшись, прошел через завешанный одеялами вход в столовую и, распрямившись, рукой в перчатке принялся стряхивать снег с плеч.
Полугодом ранее столовая была немецким блиндажом, и теперь второму батальону завидовала вся бригада. Блиндаж глубиной в тридцать футов был недоступен даже для самого тяжелого артиллерийского снаряда. Пол был выстлан прочными бревнами, стены обиты панелями для защиты от холода и сырости.
У дальней стены приветливо светилась пузатая печь.
Вокруг нее на принесенных отовсюду стульях сидели с полдюжины офицеров.
Но полковник смотрел только на мощные плечи генерала, занимавшего самый большой и удобный стул у самой печи. Полковник сбросил шинель и торопливо пошел через блиндаж.
— Генерал, прошу прощения. Знай я, что вы придете, я бы отложил обход.
Шон Кортни усмехнулся, тяжело встал и пожал полковнику руку.
— Я так и подумал, Чарлз. Ваши офицеры развлекли меня, и мы оставили вам кусок гуся.
Полковник оглядел кружок и нахмурился, заметив раскрасневшиеся щеки и блестящие глаза некоторых молодых офицеров. Надо предупредить их, что глупо пытаться пить наравне с генералом: старик крепок как скала. Глаза у Шона были как штыки, но Чарлз достаточно хорошо знал его, чтобы понять — в животе у генерала кварта вина и он чем-то встревожен. Потом он вспомнил.
— Жаль молодого ван дер Хеевера, сэр. Старшина рассказал мне.
Шон махнул рукой, и на мгновение его глаза потемнели.
— Если бы сообщили о своем визите, я бы вас предупредил, сэр. С тех пор как мы здесь разместились, нам житья нет от этого снайпера. Это один парень, но невероятно опасный. Никогда ни о чем подобном не слышал. Серьезная проблема во время затишья. Все наши потери за неделю только из-за него.
— Что вы собираетесь против него предпринять? — спросил Шон.
Все увидели краску гнева на лице генерала, и тут вмешался адъютант полковника.
— Я побывал у командира третьего батальона, Кейтнесса, и мы договорились. Он согласился прислать к нам Андерса и Макдональда.
— Вы их заполучили! — Полковник явно обрадовался. — Отлично! Я не думал, что Кейтнесс расстанется со своими лучшими стрелками.
— Они явились сегодня утром и весь день изучали местность. Я предоставил им полную свободу. Как я понял, назавтра они планируют отстрел.
Молодой капитан, командир роты, взглянул на часы.
— Они работают в моем секторе, сэр. Кстати, я хотел сходить проведать их. В половине двенадцатого они собирались занять позицию. Если разрешите, сэр.
— Да, идите, Дики, и пожелайте им от меня удачи.
Все в бригаде слышали об Андерсе и Макдональде.
— Я хотел бы с ними встретиться, — неожиданно сказал Шон Кортни, и полковник покорно согласился.
— Конечно. Я буду вас сопровождать, сэр.
— Нет-нет, Чарлз, вы и так всю ночь провели на холоде. Я пойду с Дики.
С темного полуночного неба падал густой снег. Он укутал звуки ночи пухлым одеялом, приглушив регулярные очереди из «виккерса» на левом фланге батальона.
Марк Андерс сидел, закутавшись в одолженные одеяла, и читал, приноравливаясь к желтому дрожащему свету свечного огарка.
Из-за снегопада в окопе значительно потеплело. Это разбудило спавшего рядом с Андерсом человека. Тот закашлялся, повернулся и приоткрыл брезентовый полог возле головы.
— Черт возьми! — Человек снова зашелся громким кашлем заядлого курильщика. — Провались оно все к дьяволу! Снег пошел. — Он повернулся к Марку и грубо спросил: — Опять читаешь? Вечно носом в долбаную книгу. Испортишь зрение и не сможешь стрелять.
Марк поднял голову.
— Снег идет уже целый час.
— На что тебе книжки? — Фергюса Макдональда было нелегко сбить с мысли. — Ничего хорошего это тебе не даст.
— Не нравится мне этот снег, — заявил Марк. — Мы его не учитывали.
Снег осложнял решение задачи. Он покроет все вокруг предательским белым покровом. Всякий, кто направится на нейтральную полосу, оставит заметные следы, и рассвет сразу выдаст его врагу.
Загорелась спичка, Фергюс прикурил две сигареты и протянул одну Марку. Они сидели плечом к плечу, закутавшись в одеяла.
— Можешь отказаться от стрельбы. Скажи им. Ты ведь доброволец, парень.
Они молча курили целую минуту, прежде чем Марк ответил:
— Этот немец опасен.
— Может, в снег он не покажется, останется на печке.
Марк медленно покачал головой.
— Если он настолько хорош, то придет.
— Да, — кивнул Фергюс. — Он дока. Его вчерашний выстрел… парень пролежал весь день, да расстояние в пятьсот ярдов, словно один дюйм, да при таком освещении… — Он замолчал, потом быстро продолжил: — Но ты тоже молодец. Ты лучше.
Марк промолчал и старательно погасил окурок.
— Пойдешь? — спросил Фергюс.
— Да.
— Тогда вздремни. День будет долгий.
Марк задул свечу, лег и укрылся одеялом с головой.
— Поспи подольше, — произнес Фергюс. — Я разбужу.
И он сдержал желание по-отцовски похлопать Марка по костлявому плечу.
Молодой капитан негромко сказал что-то одному из часовых на передовой, тот шепотом ответил и подбородком указал в сторону темной траншеи.
— Сюда, сэр.
Капитан, закутанный так, что походил на медведя, пошел по доскам, Шон следом, возвышаясь над ним на целую голову.
У следующего поворота сквозь полог из падающего снега виднелся тусклый красный свет жаровни в углублении в стене траншеи. Вокруг жаровни, как ведьмы на шабаше, теснились темные фигуры.
— Сержант Макдональд?
Один из сидящих поднялся.
— Я. — Голос прозвучал уверенно.
— Андерс с вами?
— Так точно, — отчеканил Макдональд, и из темноты возник еще один человек. Он был высокого роста, но двигался грациозно, как спортсмен или танцовщик.
— Готовы, Андерс? — Капитан говорил траншейным шепотом.
За Андерса ответил Макдональд:
— Он готов к стрельбе, сэр. — Сержант чувствовал себя хозяином, как импресарио борца-чемпиона. Ясно было, что парня он считал своей собственностью, обладание которой давало ему то, чего он сам никогда не достиг бы.
В этот миг высоко над головой разорвался осветительный снаряд; ослепительно яркую бесшумную вспышку приглушил падающий снег.
Шон умел оценивать людей и лошадей. Он мог выделить из толпы и человека с гнильцой, и человека с большим сердцем. Ему помогали жизненный опыт и какое-то глубокое необъяснимое чутье.
При свете жаровни он посмотрел в лицо старшему, сержанту. У Макдональда была костлявая физиономия вечно недоедающего жителя трущоб, глаза посажены слишком близко, губы тонкие, их уголки опущены.
Ничего интересного в этом лице не было, и Шон обратил свой взор на второго.
Глаза золотистые, светло-карие, широко расставленные; спокойный, безмятежный взгляд поэта или человека, долго жившего в открытой местности с далеким горизонтом. Они широко распахнуты, позволяя видеть чистую белую полоску по краям радужной оболочки, так что зрачок, казалось, плывет, точно полная луна. Шон в прошлом встречал такие глаза всего несколько раз, и их воздействие было почти гипнотическим — искренность и прямота этого взгляда словно проникали в самую глубину души.
К этому первому впечатлению добавились и другие. Главное — стрелок был очень молод. Ему не более двадцати, решил Шон, и сразу заметил, как напряжен этот мальчик. Вопреки спокойствию взгляда он натянут как стальная струна, и от внутреннего напряжения вот-вот лопнет.
Шон часто видел такое за прошлые четыре года. У парнишки обнаружили особый талант и принялись безжалостно его эксплуатировать, все они: Кейтнесс из третьего батальона, этот похожий на хорька Макдональд, Дики и теперь он. Самым жестоким образом, все время посылая в дело.
Мальчишка держал в руке кружку с горячим кофе, из-под рукава виднелось его запястье, худое и покрытое красными следами укусов вшей.
Шея слишком длинная и тонкая, щеки впалые, глаза тоже ввалились.
— Это генерал Кортни, — сказал капитан; Шон обратил внимание, что глаза у паренька загорелись, и у того перехватило дыхание.
— Здравствуйте, Андерс. Много о вас слышал.
— А я о вас, сэр.
Превознесение его заслуг раздражало Шона. Конечно, мальчишка наслушался рассказов о нем. Бригада гордится своим генералом, и каждый новобранец обязательно получает свою порцию баек. А Шон ничего не может сделать, чтобы помешать их распространению.
— Большая честь познакомиться с вами, сэр. — Андерс чуть заикался — еще один признак крайнего напряжения, но сами слова звучали искренне.
Легендарный Шон Кортни, предприниматель, заработавший пять миллионов фунтов на золотых полях Витватерсранда и потерявший все до последнего пенни, когда от него отвернулась удача. Военачальник, который гонялся за бурским генералом Леруа по половине Южной Африки и в конце концов схватил его после ожесточенной рукопашной. Солдат, который остановил в ущелье свирепых зулусских воинов Бомбаты и оттеснил их прямо под огонь поджидающих «максимов». Светлый ум, который вместе со своим бывшим врагом Леруа задумал и создал Союз, объединивший четыре независимых государства Южной Африки в единое могучее целое, а потом сколотил новое огромное состояние: земля, скот, лес. Политик, который отказался от своего поста в кабинете Луиса Боты и от положения главы Законодательного совета Наталя, чтобы возглавить части во Франции; такой человек должен вызывать блеск в глазах мальчика и заставлять его заикаться, но это все равно раздражало Шона.
«В пятьдесят девять лет я слишком стар, чтобы играть в героя», — меланхолично подумал он.
Осветительный снаряд погас. Воцарилась тьма.
— Найдется еще одна чашка кофе? — поинтересовался Шон. — Сегодня чертовски холодно.
Он принял побитую эмалевую кружку, присел к жаровне, зажал чашку ладонями, подул на дымящуюся жидкость и шумно отпил; через мгновение все нерешительно последовали его примеру. Неловко было сидеть вот так рядом с генералом, словно они старые товарищи. Наступила глубокая тишина.
— Вы из Зулуленда? — неожиданно спросил Шон у паренька, расслышав знакомый акцент, и без остановки продолжил по-зулусски: — Velapi wean? Откуда ты?
Зулусский в устах Марка Андерса прозвучал совершенно естественно, хоть он и не говорил на нем уже два года.
— С севера, за Эшове, у реки Умфолози.
— Да. Я хорошо знаю эти места. Я там охотился, — снова перешел на английский Шон. — Андерс? Я знавал другого Андерса. Он привел транспорт от залива Делагоа в 1889 году. Джон? Да, так его звали. Джонни Андерс. Родственник? Может, отец?
— Это мой дед. Отец умер. У деда есть земля на Умфолози. Там я жил.
Мальчишка расслабился. Шону показалось, что в свете жаровни он видит, как разжимаются напряженные губы.
— Не думаю, чтобы вы знали, как живут бедные люди вроде нас, сэр, — фыркнул Макдональд, наклонившись к жаровне и повернув голову, так что Шон разглядел складку злобы у его рта.
Шон медленно кивнул. Макдональд один из этих.
Один из тех, кто хочет установить новый порядок, сторонник марксистских профсоюзов и большевиков, которые бросают бомбы и называют друг друга «товарищами». Неожиданно — и не очень к месту — Шон заметил, что у Макдональда рыжие волосы и большие золотистые веснушки на тыльной стороне ладоней. Он повернулся к Марку Андерсу.
— Стрелять вас учил дед?
— Да, сэр. — Парень впервые улыбнулся, согретый воспоминаниями. — Он дал мне первое ружье, «мартини хендри», оно выбрасывало столб дыма, как пожар в буше, но точно било на сто пятьдесят ярдов. С ним я охотился на слонов.
— Хорошее ружье, — согласился Шон, и неожиданно, несмотря на разницу в сорок лет, они почувствовали себя друзьями.
Возможно, недавняя смерть другого многообещающего юноши, Ника ван дер Хеевера, оставила в жизни Шона зияющую брешь, ведь генерал всегда по-отцовски покровительствовал молодым. Фергюс Макдональд как будто тоже почувствовал это, и вмешался в разговор, словно ревнивая женщина.
— Тебе лучше начать готовиться, парень.
Улыбка на губах Марка погасла, глаза стали совершенно спокойными, и он сдержанно кивнул.
Фергюс Макдональд суетился вокруг него, и снова Шон подумал о тренере, который в раздевалке готовит своего бойца к схватке. Марк сбросил тяжелую просторную шинель и военный китель. Поверх теплого белья он надел шерстяную рубашку и два вязаных жилета. Горло повязал шарфом.
Еще — комбинезон механика, который плотно обтянул слои одежды, так что на ветру ничто не привлечет внимание вражеского наблюдателя. На голову — вязаную шапочку и кожаный шлем летчика. Шон понял зачем: английская стальная каска имеет заметную кромку и, кроме того, не защищает от пули из маузера.
— Держи башку низко, Марк, мальчик мой.
На руки — митенки, а на них — толстые пуховые варежки.
— Пусть пальцы работают, парень. Не позволяй им цепенеть.
Небольшая кожаная наплечная сумка удобно ложится под левую руку.
— Сэндвичи с ветчиной и уймой горчицы, шоколад и ячменный сахар, как ты любишь. Не забудь поесть, чтобы не замерзнуть.
Четыре полные обоймы патронов калибра 0.303 — три в наколенных карманах комбинезона, четвертая в особом кармане, нашитом на левый рукав.
— Я сам натер их воском, — провозгласил Фергюс, преимущественно для генерала. — Войдут, как… — сравнение было непристойным и должно было показать, что Фергюс презирает ранги и звания. Но Шон спокойно пропустил грубость мимо ушей — его очень заинтересовали приготовления к охоте.
— Хочу показать Катберта, пока солнце еще не спряталось.
— Что за Катберт? — спросил Шон. Фергюс усмехнулся и показал на фигуру, неподвижно лежавшую в глубине окопа. Шон впервые обратил на нее внимание; Фергюс снова засмеялся, увидев его удивление, и наклонился к фигуре.
Только тут Шон понял, что это манекен, но в свете жаровни его черты были почти живыми, а голова в шлеме располагалась под естественным углом к плечам. В районе бедер манекен неожиданно заканчивался длинной палкой, похожей на ручку метлы.
— Я хотел бы посмотреть, как вы его используете, — обратился Шон к молодому Марку Андерсу, но ответил с важным видом Фергюс:
— Вчера немец работал с северного склона. Мы с Марком прикинули углы двух его выстрелов и определили его положение с точностью до пятидесяти ярдов.
— Он может сменить позицию, — заметил Шон.
— Он не уйдет с северного склона. Там круглый день тень, даже когда выходит солнце. Ему нужно стрелять из тени на свет.
Шон кивнул, оценив логику этих рассуждений.
— Да, — согласился он, — но он может располагаться на площадке в немецких траншеях.
— Не думаю, сэр, — негромко произнес Марк. — Там слишком далеко, окопы проходят по верху холма, а ему нужно меньшее расстояние. Нет, сэр, он будет стрелять с более близкой точки. Он выбирает позицию на нейтральной полосе, возможно, ежедневно меняет ее, подбираясь к нашим траншеям как можно ближе, но не выходя из тени.
Теперь мальчик ни разу не запнулся — его мозг был занят решением проблемы. Голос его звучал низко и напряженно.
— Я выбрал для Марка хорошую позицию, под фермерским домом. Оттуда в зону обстрела попадает весь северный склон, по крайней мере на двести ярдов. Сейчас парень выйдет и расположится, пока еще темно. Я отправляю его пораньше. Пусть будет на месте раньше немца. Не хватало еще в темноте наткнуться на этого ублюдка, — с властным видом распоряжался действиями Марка Фергюс Макдональд. — Мы подождем, пока совсем не рассветет, а тогда я начну работать здесь с Катбертом. — Он похлопал по манекену и снова рассмеялся. — Чертовски трудно придать ему естественный вид — мол, какой-то болван высовывает голову, чтобы бросить первый взгляд на Францию. Если позволить немцу слишком долго на него смотреть, он поймет, в чем штука, а если убрать его слишком быстро, немец не успеет выстрелить. Нет, это нелегко.
— Могу себе представить, — сухо заметил Шон. — Это самая опасная и трудная часть всего дела.
Он увидел, как лицо Фергюса Макдональда стало страшным, и снова повернулся к Марку Андерсу.
— Еще чашка кофе, юноша, и пора начинать. Вам надо занять место до того, как перестанет идти снег. — Он сунул руку за пазуху и достал фляжку, которую подарила ему Руфь в день отправления части на фронт. — Налейте немного в кофе.
И он протянул фляжку Марку.
Тот застенчиво покачал головой.
— Нет, спасибо, сэр. От этого у меня глаз косит.
— Не возражаете, если я возьму, сэр? — быстро спросил Фергюс Макдональд, протягивая руку к фляжке. Прозрачная коричневая жидкость полилась в его кружку.
Старшина еще до полуночи отправил наряд, чтобы в проволочном заграждении перед расположением роты сделали отверстие.
Марк остановился на дне траншеи у подножия деревянной лестницы и переложил винтовку в левую руку; взорвался новый осветительный снаряд, и в его свете Шон увидел, как сосредоточен парень на своей задаче. Он оттянул затвор, и Шон заметил, что это не стандартная винтовка № 1 Ли-Энфилда, рабочая лошадка британской армии — парень предпочел американскую П-14, которая тоже калибра 0.303, но имеет более длинный ствол и лучше сбалансирована.
Марк вложил в магазин две обоймы и закрыл затвор, оставив в казеннике два тщательно смазанных и отобранных патрона.
В догорающем зареве он посмотрел на Шона и легонько кивнул. Свет погас, и в наступившей тишине Шон услышал легкие шаги по деревянной лестнице. Он хотел пожелать Марку удачи, но сдержался и стал рыться в карманах в поисках портсигара.
— Сэр, пойдемте назад, — негромко предложил капитан.
— Идите, — ответил Шон хриплым от предчувствия надвигающейся трагедии голосом. — Я еще немного побуду здесь.
Хотя он ничем не мог помочь парню, уйти сейчас казалось ему дезертирством.
Марк неслышно шел вдоль провода, проложенного патрулем, чтобы было легче добраться до бреши в ограждении. Наклоняясь, чтобы не потерять провод, зажатый в левой руке (в правой он нес свою П-14), он осторожно поднимал и опускал ноги, стараясь равномерно распределять вес и не потревожить снежный покров, не проломить корку наста.
Но всякий раз, как вспыхивал осветительный снаряд, парню приходилось падать ничком и лежать неподвижно, съежившись, темным пятном на ослепительном свету, под защитой лишь непрерывно идущего снега. Поднимаясь в темноте и двигаясь дальше, он отдавал себе отчет, что оставил после себя приметное пятно.
При обычных обстоятельствах это не имело бы значения, ведь на голой, прострелянной снарядами нейтральной полосе такие легкие царапины незаметны. Но Марк знал, что, едва забрезжит рассвет, каждый дюйм поверхности примется обыскивать в поисках именно таких следов пара необычных глаз.
Внезапно — холоднее, чем ледяное прикосновение снежного воздуха к щекам — он ощутил одиночество, свою уязвимость, осознал, что ему противостоит искусный и неуязвимый враг, невидимый, ужасающе удачливый противник, который за малейшую ошибку покарает неумолимой смертью.
Последний осветительный снаряд догорел и погас, и Марк поднялся и побрел во мраке к темной неровной стене разрушенного фермерского дома. Он присел у этой стены и постарался выровнять дыхание: неожиданно нахлынувший ужас грозил задушить его. Он впервые почувствовал нечто подобное.
Страх был ему знаком, он стал его постоянным спутником в последние два года, но Марк никогда еще не знавал такого парализующего ужаса.
Парень тронул свою ледяную щеку пальцами правой руки и почувствовал, как они дрожат; словно из сочувствия, часто застучали зубы. «Я не могу так стрелять, — подумал он, стиснув челюсти до боли в зубах и прижав руки к телу, — но и оставаться здесь не могу. Надо уходить отсюда, и побыстрей. Развалины — слишком очевидное место для позиции снайпера». Неожиданно его ужас превратился в панику, и Марк приподнялся, чтобы ползти назад, бросив винтовку у разрушенной стены.
— Bist du da?[1] — донесся до него из темноты, совсем близко, негромкий голос.
Марк мгновенно застыл.
— Ja! — ответили чуть дальше у стены, и Марк обнаружил, что его левая рука естественным образом легла на ствол, а правая обхватила затвор; указательный палец лег на спусковой крючок.
— Komm, wir gehen zuruck[2].
Рядом с собой Марк скорее ощутил, чем увидел движение тяжело нагруженной фигуры. Он повернул винтовку в ее сторону, готовый стрелять. Немец грузно ступал по предательски тонкому снежному покрову. Катушки проводов, которые немец нес, негромко звякнули. Он выругался:
— Scheisse!
— Halt den Mund![3] — выпалил второй, и они направились по холму в сторону своих траншей.
Марк удивился, что наряд немецких связистов вышел в такую погоду. Прежде всего он подумал о вражеском снайпере и только потом о своей неожиданной удаче.
Наряд проведет его к немецким окопам и скроет след от снайпера.
Приняв решение, Марк с удивлением почувствовал, что паника прошла, руки прекратили дрожать и обрели твердость камня, а дыхание стало спокойным и глубоким. Он невесело улыбнулся собственной слабости и скользнул вслед за немецким нарядом.
Они были уже в ста шагах за фермерским домом, когда снег перестал идти. Марк пришел в отчаяние (он рассчитывал, что снег будет скрывать его по крайней мере до рассвета), но продолжал красться за связистами. Немцы, приблизившись к своим окопам, пошли быстрее и увереннее.
В двухстах ярдах от вершины Марк отстал от них и двинулся наискось по склону, отыскивая проход в проволочном заграждении, пока наконец не узнал точку, которую они с Фергюсом выбрали накануне днем, разглядывая местность в бинокль. Он добрался до цели.
Один из больших дубов, что росли на холме, упал, выворотив из вспаханной разрывами земли путаницу корней.
Марк забрался внутрь, выбрал место, которое под косыми лучами зимнего солнца окажется в самой глубокой тени, и полз на животе, пока корни наполовину не скрыли его, в то же время не лишив возможности поворачивать голову и плечи, изучая весь северный склон холма.
Теперь прежде всего следовало тщательно проверить П-14, обратив особое внимание на уязвимый высоко установленный прицел и убедившись, что его не сбило во время перемещения по нейтральной полосе. Проделав все это, Марк съел два сэндвича, выпил несколько глотков сладкого кофе и закрыл шерстяным шарфом нос и рот — ради тепла и чтобы скрыть пар от дыхания. И лег головой на приклад винтовки. Он выработал привычку мгновенно засыпать. Пока он спал, снова пошел снег.
Когда Марк проснулся в тоскливом свете серого дня, он был укутан мягкими белыми хлопьями. Стараясь не нарушить покров, Марк осторожно поднял голову и помигал, чтобы глаза быстрей привыкли. Пальцы в перчатках оцепенели; он принялся разминать их, усиливая приток крови.
Марку снова повезло: дважды за ночь — это перебор. Вначале наряд провел его сквозь ограждение, а теперь снег обеспечил естественную маскировку, так что фигура парня слилась с корнями дуба. Слишком большая удача, маятник должен качнуться в противоположном направлении.
Тьма медленно отступала, видимое пространство расширялось, и все существо Марка сконцентрировалось в широко раскрытых карих с золотом глазах. Эти глаза быстро обыскивали местность, изучая все неправильности и складки поверхности, каждую особенность, каждый объект, каждый оттенок текстуры и цвета снега, грязи и земли, каждый пень и каждую ветку, края всех углублений; они искали тени там, где их не должно было быть, высматривали, не потревожен ли новый слой снега — искали жизнь.






