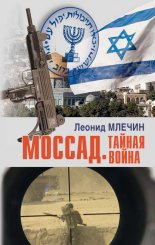Остаться в живых. Прицельная дальность Валетов Ян

Но жизнь ждала впереди, и он это знал. Просто не мог попрощаться иначе.
Эфир был наполнен шорохами и треском — где-то неподалеку еще шла гроза, и электрические разряды мешали наладить связь.
— Мэйдэй! — сказал Пименов в микрофон, вдавив клавишу передачи. Голос у него был слабый, чужой, и он сам бы не узнал себя, услышав со стороны. — Мэйдэй! Говорит прогулочное судно «Тайна», порт приписки Новороссийск. Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь слышит меня?
Санкт-Петербург. Три месяца спустя
Небо над Невским было тоскливо-серым и настолько напоминало набрякшую от воды побелку, что прохожие невольно втягивали головы в плечи. Словно ждали, что с неба оторвется кусок и с хлюпающим, липким звуком упадет в глубокую ноябрьскую лужу, обдав брызгами, а то, чего доброго, и им за шиворот.
Вода в канале Грибоедова была того же цвета, что и небо, только еще и грязная вдобавок. У гранитных подпорных стенок плавал смытый дождем мусор — разовые стаканчики, кульки и пластиковые пивные бутылки. Картину довершало прыгающее на волнах надкушенное яблоко и порванная газета с фотографией президента на первой полосе. Фотография была большая и цветная. На ней Путин жал кому-то руку, а вот кому — было не рассмотреть.
Пименов отвел взгляд от свинцовой воды, по которой ноябрьский ветер с Залива гнал мелкую, как морщинки, рябь, и посмотрел на часы. До встречи оставалось всего тридцать пять минут, но и идти до места было пару шагов — не опоздаешь.
Несмотря на промозглую питерскую погоду, Леха нисколько не жалел о том, что решил прогуляться. Он бывал в Питере только ребенком, когда тот еще был Ленинградом, и практически ничего не помнил. Всплывали в памяти только Невский проспект с чешскими троллейбусами, дом на Набережной Мойки, тяжелая громада Исакия, воткнувшийся в небо шпиль с корабликом, «Аврора» на вечном приколе да полуденный грохот пушки со стен Петропавловской крепости.
Пименов поднял воротник плаща с подстежкой, надвинул поглубже мягкую шляпу, купленную здесь же, в Питере, в каком-то модном салоне на Васильевском и за немалые деньги, и не торопясь пошел к Русскому музею.
Шляпа была, как у Макса из фильма «Однажды в Америке», — мягкая и широкополая: он давно мечтал о такой.
Нынешний Невский уже ничем не напоминал тот старый, из детства. По мостовым ползло плотное стадо машин, среди которых было немало иномарок, над ними возвышались не прежние, скромные, а расписанные рекламой, как член Якудзы татуировками, троллейбусы. Сверкали яркие витрины дорогих магазинов, крутились, мигая, новомодные рекламные щиты.
Город настолько отличался от Новороссийска, Краснодара или Ростова, что первые дни его брала оторопь. Ни люди, ни дома не поразили — поразил темп, с которым здесь жили.
Он, правда, не шел ни в какое сравнение с Москвой, где Пименов провел трое суток по дороге сюда. Там жизнь летела, как ракета, на которую питерцы давно опоздали. Но все равно рядом с сонным, неторопливым Югом и эти анемичные северяне казались одержимыми трудоголиками. Недостаток солнца и темперамента отлично заменялся обилием текущих дел и проблем, которые надо было решать сиюминутно. Ни завтра, ни сегодня к вечеру, а именно сейчас — мгновенно!
Этого никто от них не требовал, но именно так делалось, хотя все понимали, что никакой срочности в действительности нет. Питерцы усиленно играли в москвичей, а сам Питер — в столицу, но ни близкие отношения с президентом, ни достаточно солидные финансовые потоки не могли скрыть тот факт, что в Москве пахнет огромными деньгами, а в Питере — сыростью и стоялой водой.
Леха, привыкший к морю и ветру, уставал от такой атмосферы, едва открыв глаза со сна, но сбежать домой, в Новороссийск, не решался — сказывалась привычка обязательно выполнять до конца поставленную перед собой задачу.
От питерской сырости у него начала ныть рана под ключицей и дырявая лопатка. А еще — сердце, потому что Пименов никак не мог избавиться от мысли, что не сегодня, так завтра он встретит Ленку на улице. Хотя наверняка знал, что не встретит.
Когда он переходил Невский, снова пошел дождь. Прохожие сразу прибавили ходу, раскрывая зонты всех цветов и размеров. Мимо Пименова проскочила счастливая парочка — девушка была в ярком желтом дождевике поверх короткой кожаной курточки и громко смеялась. Юноша смотрел на нее жадными, влюбленными глазами.
Деревья в Питере давно облетели, и холодные осенние дожди вместе с аккуратными дворниками убрали опавшую листву с тротуаров и газонов. В воздухе висело предчувствие близкой зимы и скорого первого снега. В этом году морозы и снег запаздывали, но природа уже впала в летаргию, устав от ожидания.
А в Новороссийске, откуда он улетел неделю назад, было еще сравнительно тепло, и деревья по склонам гор радовали глаз слегка привядшей зеленью, рассыпанной по густому, изобильному желто-красному буйству осенних красок. Море, сине-зеленое, засыпающее, плескалось в огромной чаше Цемесской бухты. Стояли в очереди танкеры, и по утрам над медленно остывающей водой вился белый, текучий пар…
И кричали чайки.
Тут тоже было море, но бесцветное, серое и мелкое.
Вчера Пименов долго стоял на берегу Финского залива, вдыхая сырой солоноватый ветер всей грудью. Тут все было иначе, даже язык, на котором говорили питерцы, был стерильно правилен, словно здешняя сырость вымыла из него все краски и акценты. Он чувствовал себя чужестранцем, и единственное, что удерживало его от того, чтобы броситься в аэропорт и немедля улететь туда, где помидоры пахнут помидорами, а на женских лицах даже в ноябре еще видны следы от поцелуев солнца, — это сегодняшняя встреча.
Человек, с которым он должен был увидеться, уже ждал его на условленном месте — сравнительно свежий «Мерседес» цвета «антрацит», отплевывался от мелкой водяной пыли голубоватым выхлопом. За тонированными стеклами никого не было видно, но номер автомобиля был тот, что Борис Яковлевич назвал ему по телефону.
Пименов подошел к машине со стороны пассажира, постучал в окно, которое немедленно поехало вниз, и дребезжащий голос из темного нутра приказал ему:
— Назад садитесь. Вы Пименов?
Леха уселся на кожаные подушки, снял шляпу и провел ладонью по гладкой, словно бильярдный шар, голове.
— Да, я Пименов, — подтвердил он.
— Документик можно? — поинтересовался Дребезжащий с переднего сиденья. — А то времена нынче неспокойные.
Пименов протянул паспорт в промежуток между спинками кресел и произнес, не скрывая иронии:
— Так я не наркотики к вам привез.
— Ну, — отозвался Дребезжащий, — если уж совсем доверительно, Алексей Александрович, то кто знает, что опаснее. Уж кто-кто, а вы понимать должны…
Пименов усмехнулся.
— Вы Борис Яковлевич?
— Нет, с Борисом Яковлевичем вы увидитесь через пару минут. Он ждет вас.
Дребезжащий протянул паспорт обратно.
— Я, конечно, понимаю, что это ничего не гарантирует, но для порядка лучше, чтобы мы приехали к нему сами. Только вы и я.
— Я… — Пименов даже слегка растерялся. — Я в общем-то один… А кто вы?
«Мерседес» плавно тронулся с места и нырнул в один из небольших переулков.
— Я? — переспросил Дребезжащий. — Я друг Бориса Яковлевича. Старый друг. Я обеспечиваю, хм-хм.
— Что обеспечиваете?
— Безопасность и прозрачность сделок.
— Мне, в принципе, пока только информация нужна.
— Я знаю, — коротко отозвался Дребезжащий. — Мы получили рекомендации.
Рекомендации Пименову давал Хомяк — новороссийский антиквар, барыга, не брезговавший ничем, даже ворованным, и скупавший добычу у опасных, как кобры, «черных археологов». Толстомордый, приземистый и шустрый, как животное, название которого и было его фамилией. Не прозвищем, а именно фамилией. При такой фамилии ему-то и прозвище было ни к чему, да и имя тоже. Все так и звали его — Хомяк.
Именно ему Пименов продал первый десяток монет из золотого клада «Ноты». Именно он организовал сбыт остальной части сокровища, нажившись с двух сторон: и со стороны продавца, и со стороны покупателя. Именно он посоветовал, крутя непонятную пирамидку с иероглифами на ней в толстых, как сардельки, пальцах, приехать сюда.
— Есть несколько человек, Пима, — сказал он. — Только несколько человек на весь Союз, которые реально волокут в этих прибамбасах. Я не волоку. Как на меня, — он посмотрел на пирамидку через лупу, — так это полная херня. Но тебе повезло. Одного из этих умников я знаю. Только надо будет в Питер слетать? Ты как?
— Нормально, — отозвался Губатый. — Слетаем.
— Боря — приятный человек, — сообщил Хомяк доверительно. — Только малость, ну… Как бы тебе сказать правильнее?.. Не в себе!
— Не понял? — удивился Пименов.
Хомяк рассмеялся и положил пирамидку в деревянный футляр.
— Он у нас Юлиана Семенова перечитал. Ему везде враги мерещатся. Ну, знаешь, все эти охраны, боди, прости меня, Господи, гарды всякие. Заговоры против него и его драгоценной дочери. Но по Китаю — круче его нет. Он вообще-то профессор, без пяти минут академик был… В прошлой жизни!
— Ну, прямо так и без пяти минут! — не поверил Пименов.
— Ну, без десяти… Все равно, Пима, тебе надо столичным спецам ее показать, раз уж ты решил добиться полной ясности в этом вопросе. А Борис Яковлевич у нас интеллигент! Настоящий! Он и сидел за, — тут Хомяк мечтательно завел глаза к потолку, — воровство музейных экспонатов, правда, недолго, потому что не все доказали. А судя по тому, как он сейчас живет, нашли и доказали далеко не все. Ну, что это я тебя гружу?! Сам увидишь — он тебе понравится!
Человек, сидевший в нише за низким столиком, Пименову действительно понравился. Аккуратный, седой, как лунь, с длинными волосами, взятыми в косичку, он не сидел — восседал, скрестив кисти длиннопалых рук на рукоятке трости и внимательно смотрел на вошедших. Глаза у него были посажены глубоко, и тень, заполнявшая просторную нишу, делала их почти неразличимыми. И голос у него был соответствующий — густой, низкий, слегка дребезжащий на басах, как у Криса Нормана. Ну ни дать ни взять отставной рокер, переквалифицировавшийся в бизнесмена.
— Простите, Алексей Александрович, — сказал он, — что руки не подаю, странность у меня такая. Не люблю физического контакта, уж извините великодушно. Но это не значит, что я не рад нашей встрече. Присаживайтесь.
Пименов сел.
Неподалеку работал декоративный фонтан. Журчал едва слышно ручеек воды, изливающийся из разбитого кувшина, над которым склонилась мраморная женская фигурка. В ресторане было тепло, и воздух, как ни странно, пах растениями, которые произрастали здесь в изобилии в разнообразных кадках и горшках. Впечатление того, что они встретились в саду, было настолько реальным, что Пименов невольно поискал глазами птичек, порхающих среди ветвей. Но птичек не было.
— Мне тоже здесь нравится, — произнес Борис Яковлевич, не сводя с него внимательного взгляда. — Особенно когда приходит осень. Я и делал интерьер согласно собственным вкусам. Ну, молодой человек, показывайте, что у вас? Не стесняйтесь, мы тут одни. Это моя ресторация, и в это время нас здесь никто не побеспокоит.
— Да, в принципе, никаких особых секретов у меня нет, — Пименов запустил руку во внутренний карман пиджака и извлек на свет замшевый мешочек с затянутой плетеным шнуром горловиной.
— Да? — удивился антиквар и еле заметно улыбнулся одними уголками губ. — Я бы на вашем месте, Алексей Александрович, так уверенно бы не говорил. Спорное, знаете ли, утверждение. Я, например, не поручился бы за то, что у вас нет секретов. Мне люди без секретов встречались крайне редко. Специфика такая у моего бизнеса наблюдается.
Пименов положил мешочек на стол, стоящий между ними, убрал руку, и только после этого Борис Яковлевич протянул свою.
Пирамидка, покрытая причудливыми штрихами иероглифов, была тусклой, словно до сих пор хранила на своих металлических боках сырость морских глубин.
— Хм… — произнес антиквар задумчиво. — Прелюбопытная вещица. А можно ли полюбопытствовать — где сия штучка найдена? Откуда она у вас?
— Полюбопытствовать можно… — сказал Пименов, глядя в лицо Борису Яковлевичу. — А вот ответом — мне придется вас разочаровать.
— Что? Совсем? — спросил антиквар, поднимая на Пименова насмешливый взгляд.
— Пока — да.
— А… Это вы в ответ на мои сентенции о секретах, — протянул старик с уважением в голосе. — Понимаю. То есть скажете ли вы мне что-нибудь или нет, зависит от того, что скажу я вам?
Пименов кивнул.
— Ну, хорошо, — согласился антиквар. — Договорились. Баш на баш, как говорят в определенных, не очень любимых мной кругах.
Он достал из кармана глазную лупу и ловко вставил черный цилиндр в глазницу и прихватил его седой бровью.
— Посмотрим, посмотрим…
Пальцы у него были, как у музыканта или хирурга, — длинные, холеные, с коротко обрезанными ногтями, скорее всего старик делал маникюр как минимум раз в неделю. Пименов невольно спрятал свои обветренные руки под скатерть. Переломы на пальцах срослись, но он все еще с трудом их сгибал, и отметины шрамов резко выделялись на загорелой коже.
— Вы чем-то ее обрабатывали? — спросил Борис Яковлевич, не поднимая склоненной головы. — Я имею в виду керосин или WD?
— Нет.
— Это хорошо.
Он распрямил спину, щелкнул пальцами, и неизвестно откуда у столика материализовался давешний Лехин сопровождающий с подносом, на котором стояла фотографическая кювета с какой-то жидкостью.
Пименов с интересом наблюдал за тем, как антиквар обрабатывает плоские бока пирамидки специальным тампоном, протирает металл ветошью. Потом старик омыл ладони в чаше с водой и воспользовался влажными салфетками с легким цветочным запахом, перед тем как снова взять пирамидку в руки.
— Ну-с, — сказал он, — попробуем…
От нажатия на донышко и на одну из граней что-то громко щелкнуло, но с самой пирамидкой ничего не произошло. Во всяком случае вначале. Борис Яковлевич сделал странное движение ладонями, одна пошла вверх, другая вниз, словно сдвигая одну часть пирамидки относительно другой по вертикальной оси, и Пименову показалось, что перед ним на столе раскрылся веер. Антиквар и открывал пирамидку, как открывают веер, или даже скорее как шулер раскрывает колоду карт — плавным, отработанным движением. Раздававшееся при этом легкое металлическое пощелкивание перекрывало журчание воды в фонтанчике, и Пименова от этого звука невольно бросило в дрожь. Он почувствовал на своем лице легкое дуновение, словно кто-то невидимый выдохнул рядом, и в этом дыхании был нездешний цветочный аромат (странный аромат, смесь приятного теплого запаха с тяжелым мясным духом) и влажное прикосновение чужого соленого бриза. Пименов знал — Черное море так не пахнет. Но пахло морем — тут он ошибиться не мог.
Пирамидка развернулась на 360 градусов, в последний раз щелкнула — все ее части стали на свои места: скользнули в пазы крошечные зацепы, и места соединений превратились в невидимые тонкие линии — перед Пименовым и антикваром лежал металлический круг с травленым на нем рисунком. В причудливой пляске кривых легко угадывались очертания островов с извилистой береговой линией. От края окружности к ее центру, словно «льющиеся» строчки из фильма «Матрица», бежали иероглифы.
— Что и требовалось доказать, — сказал Борис Яковлевич негромко. — Любуйтесь, Алексей Александрович. Любуйтесь. Не так часто встречается на самом деле…
— Что это? — спросил удивленный гость, рассматривая бывшую пирамидку с пристальным вниманием. — Никогда такого не видел…
— Как и я, — согласился антиквар и достал из внутреннего кармана массивный серебряный портсигар. — Хотя слышал, скрывать не буду. Так что, Алексей Александрович? Меняться будем? Или так разойдемся?
— Это я нашел ее, — проговорил Пименов, не сводя глаз с переплетения тонких линий, змеящихся по тонким бронзовым пластинам. — Совсем недавно. В конце лета.
— В Китае? — поинтересовался Борис Яковлевич и открыл портсигар. Тот был заполнен тонкими черными сигариллами, и к запахам цветов и растений, наполнявших зал, добавился резкий аромат крепкого табака.
Пименов покачал головой.
— Нет. В Черном море. Под Новороссийском.
— Еще интересней…
Зажигалка у старика была золотой — изящной, небольшой, но при этом тяжелой. Взметнулся вверх огонек, и над столом потянулась голубовато-серая струйка плотного дыма.
— Что это? — повторил Пименов.
— Это? Это — тинграм. Китайская головоломка. Только нестандартная, так как по идее тинграм не должен включать в себя круги. Только фигуры с углами. Семь фигурок, вырезанных из одного квадрата. Этакий пазл. Вы ведь знаете, что такое пазл, молодой человек?
Тот кивнул. От запаха сигарилл антиквара ему до чертиков захотелось курить.
— Так вот, — продолжил Борис Яковлевич, — суть игры состоит в том, что лист бумаги разрезают на семь частей, каждая из которых есть геометрическая фигура. Задача игрока сложить из фигур лист. Задача, как ни странно, не из простых. Китайцы называли это развлечение «доской мудреца». Ваш ход, Алексей Александрович…
— Судно называлось «Нота». Пакетбот «Нота». Затонуло в 1918 году, в июне, подорвавшись на мине.
— Они были в Китае?
— Нет. Только лишь в Южно-Китайском море. Незадолго до возвращения они натолкнулись на сгоревшую джонку. Живых там не было, но был жемчуг — довольно много, и, как я понимаю, эта пирамидка. Как вы сказали, она называется? Тинграм?
— Тинграм, — подтвердил антиквар. — И что интересно…
Он медленно затянулся и выпустил в воздух несколько колец, которые тут же пронзил струйкой дыма.
«Ну и пижон, — подумал Пименов беззлобно. — Но это же надо — так держать паузу!»
— И что интересно, — повторил Борис Яковлевич. — Я о вашем тинграме слышал многократно, но в то, что смогу подержать в руках, честно говоря, верил мало. Не бывает такого. Знаменитый фрагмент вам достался, Алексей Александрович, куда как знаменитый! А позвольте полюбопытствовать, что вы подняли еще с этой вашей «Ноты»? Жемчуг? Золото?
Пименов пожал плечами.
— Я смотрю, вы дорого одеты, — антиквар улыбнулся краем рта, — а вот привычки носить такую одежду я не наблюдаю. Вас она тяготит, и это видно. Ваши руки, опять-таки… Они не похожи на руки богача, молодой человек. Это руки работяги. И в глазах у вас я не вижу, как ни странно это звучит, избалованности, из чего делаю выводы, что это еще будет, но не сегодня. Вы еще к деньгам непривычны, в счастье свое окончательно не верите и еще вчера зарабатывали себе на кусок хлеба собственными мозолями. Вы разбогатели, друг мой, но недавно, совсем недавно. И еще не привыкли к новой роли. Так? Я потому и спросил, что многое вижу. Не от любопытства вовсе. Не хотите — не отвечайте.
— Особого секрета тут нет, Борис Яковлевич, — сказал Пименов. — Искали мы жемчуг, но с ним не задалось.
Антиквар кивнул, щурясь сквозь густой табачный дым.
— А поднял я золото…
— Вот, значит, как? — произнес старик, задумчиво разглядывая Пименова. — Искали, значит, «мы». А поднял — уже «я». Я правильно расслышал?
— Да.
— Жемчуг «скис»?
— Да.
— Странно, что вы этого не предвидели… Ну, скажу вам, золото тоже неплохо! Знавал я людей, которые на поиски эфемерных сокровищ жизнь положили, а не нашли ничего.
Антиквар развел руками.
— То есть — вообще ничего. Так что — считайте себя счастливчиком. Вы живы, вы богаты, вы молоды, что, пожалуй, самое ценное в этом списке. Зачем вам рисковать?
— Чем? — не понял Пименов. — Чем я рискую, придя к вам?
Борис Яковлевич протянул вперед руку и постучал сухим указательным пальцем по металлическому кругу, лежащему на скатерти.
— Тинграм, — сказал он, четко выговаривая каждую букву в чужом невкусном слове. — Т-и-н-г-р-а-м! Они появились в восемнадцатом веке, но в Европе. В Китае их знали раньше. А этот… Шесть фрагментов его я видел в Гонконге, в одной прелюбопытнейшей коллекции… А седьмой — центральный фрагмент, как вы догадались, — отсутствовал. И, как часто бывает, отсутствующая часть была ключевой. Весь тинграм — это карта целого куска Индонезийского архипелага и еще — интересная история, на нем написанная. Но история без начала и без конца… Вы, Алексей Александрович, знаете, что такое Тордесильясский договор?
— Нет. А должен?
— Зависит от образованности на самом деле, но ваш вопрос принимаю. Дела давно минувших дней. Был такой Папа Римский — Александр VI из славной семьи Борджиа, который, глядя на то, как его любимые дети — Испания и Португалия — не могут не воевать друг с другом, решил поделить между ними мир. И поделил. Как арбуз разрезал. Но если учесть, что в 1494 году, когда этот раздел происходил, не был открыт даже Тихий океан, то сам Папа не понимал, кому и что он дарит. Но этот договор должен был обеспечить в христианском мире мир и согласие. Увы, не случилось ни мира, ни согласия. Но не суть важно… Все это, молодой человек, — преамбула. Никто, естественно, ни с кем не помирился, испанцы, где могли, резали португальцев, а португальцы — испанцев. И корабли под прикрытием корсарского патента — и испанские, и португальские — бороздили моря-океаны в поисках добычи, невзирая на договоренности, достигнутые в Риме. Интересующая нас с вами история произошла спустя двести с лишним лет после мудрого решения Александра VI.
Из португальского Макао в Лиссабон вышли три каравеллы под охраной линейного корабля «N.S. da Assuncao». Грузили их в обстановке полной секретности, и, как часто бывает, каждая собака в Макао знала, что на борту судов, помимо пряностей, находится еще и золотой груз — несколько тонн золота. Корабли вышли из порта сразу после окончания сезона муссонов и, как назло, попали в свирепый шторм неподалеку от берегов Сиама. Буря истрепала суда, отнесла их южнее — гораздо южнее их маршрута, и вдобавок столкнула нос к носу с испанскими корсарами. Судьбу золотого каравана решило одно ядро, попавшее прямиком в пороховой погреб «N.S. da Assuncao», — линейный семидесятипушечный корабль разнесло в щепу. Оставшиеся без прикрытия каравеллы смело приняли бой. И две из них в течение часа камнем пошли ко дну, до последней секунды продолжая палить из пушек по врагу. Третья, та, которая по иронии судьбы несла в своих трюмах только пряности, была взята на абордаж, разгружена и из-за больших повреждений корпуса и такелажа, делающих ее непригодной к буксировке, затоплена неподалеку от других судов. Оставшиеся в живых члены команд либо «прогулялись по доске» с ядрами на шее, либо просто, без затей, отправились за борт. Судьба португальских судов оставалась тайной на протяжении нескольких лет, но… Нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным. Спустя три года в Макао появился один из членов экипажа каравана, чудом спасшийся из пиратского плена… И… Ну, вы сами понимаете. Якобы тинграм был нарисован с его помощью. Он, один португальский негоциант и китаец, по слухам, глава могущественной триады Макао, образовали триумвират, целью которого было поднять сокровища. Тинграм был поделен на части, каждая из которых была ключом для двух других… Чувствуете интригу?
— Пожалуй — да. Даже догадываюсь, чем дело кончилось. Сокровища не нашли, а члены триумвирата, как водится, перерезали друг другу глотки…
— Это вы по собственному опыту судите? — спросил Борис Яковлевич, прищуриваясь, и сухонько кашлянул в кулак.
Пименов окаменел лицом.
— Ладно, ладно, считайте, что я неудачно пошутил… Никто никого не резал. Они сделали две попытки, и обе неудачные. Правда, в одном случае они подняли со дна несколько монет и пушку, но на этом все и кончилось. Негоциант и китаец трогательно заботились о своем бедном партнере, и он умер далеко не в нищете, как гласит история, от пьянства и умер. Если бы дело было позднее — умер бы от сифилиса, но сифилис был занесен в Европу матросами Колумба и до провинций еще не добрался… Очень уж наш морячок уважал крепкие напитки и женский пол!
— Откуда такие подробности? — удивился Леха искренне. — И где все это написано?
— В самых разных местах, поверьте, друг мой! Вы просто себе не представляете, сколько ненужных мелочей хранится в загашниках у истории! Рассыпанного по крупицам, разбросанного по листам ветхой бумаги, поеденной мышами! Единого источника просто не существует! Но все это так похоже на правду, что, скорее всего, чистая правда и есть!
— И на этой карте…
— Да, Алексей Александрович, на вашей карте место, где был потоплен золотой караван… Индонезия — страна тысяч островов, и без центрального фрагмента старого тинграма найти место было просто немыслимо! А он считался утерянным еще ХІХ веке — тогда был ограблен дом одного известного купца в Гонконге, потомка того самого старого негоцианта, и во время кражи пропала его коллекция жемчужин, несколько очень ценных свитков и принадлежащая ему часть тинграма. Именно эта часть теперь принадлежит вам.
— Забавно, — задумчиво выговорил Пименов. — Даже очень забавно! И за что мне такое счастье?
— Да уж не знаю, — отозвался антиквар, пожимая плечами. — Наверное, отличились чем-нибудь! Сигару хотите?
— Не откажусь.
Борис Яковлевич положил портсигар на стол в распахнутом виде, и гость осторожно, под внимательным взглядом старика, вытащил из серебряной коробки необычную тонкую сигариллу.
— Ну? — спросил антиквар, когда Пименов закурил. — Что будем делать?
— А что можно?
— Да что угодно! — старик рассмеялся. — Масса вариантов. Сообщить на телевидение, например. Или написать статью в журнал «Вокруг света»! Так, броско: «Загадка золотого каравана». Или… «Золото снова вернулось к людям». Мало ли что в голову приходит? Вот вам что больше нравится? А можно и просто забыть?
— Вы не похожи на человека, который умеет забывать.
— На самом деле вы ошибаетесь. В моей профессии забывать так же важно, как и помнить то, что нужно. Но спорить не буду. Знаете, молодой человек, вся эта история вызывает у меня прелюбопытнейшие аналогии. Вот вы, например, Алексей Александрович, почему-то ассоциируетесь у меня с тем самым спасшимся из плена португальским матросом. Забавно, не так ли?
Гость помолчал, глядя на то, как тлеет алый уголек на кончике сигариллы, выпустил в воздух голубую плотную струйку дыма и спросил не торопясь:
— А какую роль вы отводите себе? Португальского негоцианта?
— Я? Негоцианта? — удивился антиквар и рассмеялся негромко. — Увольте, молодой человек! Ну какой из меня негоциант?! Я — собиратель, коллекционер, личность увлеченная и торговаться толком не умею. Сразу злюсь и, что скрывать, иногда бываю даже неадекватен! Сильные эмоции, знаете ли, побеждают разум!
— Что-то я не помню в той тройке собирателей, — произнес Пименов, рассматривая собеседника.
Борис Яковлевич склонил голову к плечу и смешно наморщил лоб, отчего брови у него уехали вверх и лицо приобрело совершенно ухарское выражение.
— Так и не было его там — собирателя, — ответил он неторопливо, не скрывая иронии, но не ядовитой, а добродушной, вызванной некоторым превосходством более интеллектуального партнера над менее интеллектуальным. Так говорят преподаватели с нерадивыми, но неглупыми учениками. — В то время собиратели встречались, но в нашей истории он не появлялся.
— Неужели? — спросил Пименов, не скрывая недоверия. — Китайский гангстер? Вы?!
— А что вас, собственно говоря, удивляет? И почему китайский?! Я что, должен быть похож на Бармалея? — деланно возмутился старик, пряча улыбку под веками. — Алексей Александрович, вы меня удивляете! Откуда такие предрассудки у зрелого человека? Вы «Бригаду» смотрели? Меняются времена, меняются и лица! Даже обидно, честное слово! Я, кстати, и негоцианта подходящего знаю. Банкира одного питерского, сбрендившего на старине, кладах и сокровищах…
— Борис Яковлевич, — сказал Пименов серьезно, вцепившись глазами в ускользающий взгляд антиквара. — Давайте-ка начистоту, а? Что вы хотите? Карту?
— Начистоту? — переспросил старик уже без тени смешливости в голосе. — Ну что ж, давайте начистоту, друг мой! Лет двадцать назад наш разговор давно бы закончился, можете не сомневаться! И закончился бы трагично для вас. Верите?
Пименов посмотрел в темные провалы его глазниц, на дне которых поблескивала живая ртуть взгляда, и молча кивнул.
— Вот и хорошо, — продолжил Борис Яковлевич, скаля крупные желтоватые зубы. — И правильно, что верите. Но я постарел. И поумнел. И научился не быть максималистом там, где можно поделиться прибылью без особого ущерба для себя. Мне все нажитое до конца жизни не потратить, а детей, как сами понимаете, у меня нет… Мне не нужна карта. Хотите, я вас удивлю?
— Попробуйте, — сказал Пименов и подумал, что собеседник почему-то врет.
Хомяк говорил, что питерский антиквар помешан на своей дочери. К чему было скрывать от малознакомого человека сам факт ее существования? Та самая паранойя?
— Как ни странно, мне в этой истории интересна слава первооткрывателя.
— Если она будет, — с сомнением в голосе произнес гость.
— Если она будет, — согласился старик. — Но если она будет, то именно она мой главный приз. В этой истории материальная часть наиболее интересна именно вам, Алексей Александрович. И частично, думаю, совсем чуть-чуть, интересна Индиане Джонсу!
— Кому? — удивился было Пименов, но, не услышав ответа и сообразив, что речь идет о сбрендившем банкире, переспрашивать не стал.
Лицо у Бориса Яковлевича застыло на несколько мгновений, помертвело, словно опытный врач-косметолог ужалил его в чело ботоксной инъекцией, и тут же оттаяло, но за эти секунды на Пименова дохнуло холодом. Стоящий у портьеры, молчаливый, как Сфинкс, Дребезжащий напрягся, словно сторожевая собака, учуявшая запах чужого, и тут же расслабился, вслед за лицом хозяина.
— Давайте я сделаю вам предложение, — сказал антиквар, кривя губы. — Вернее, расскажу единственно возможный вариант сотрудничества, если вам будет угодно…
Над ослепительной синевой моря в восходящих воздушных потоках, прямо за кормой, висели две чайки, ожидающие подаяния. Птицы даже не взмахивали крыльями — висели неподвижно, как на фотографии, вытянув шеи и подобрав лапы. Когда же одна из них начинала терять высоту, стоп-кадр оживал, крылья совершали мах, и воздух оглашал пронзительный крик.
Ветер был влажным и теплым. Пименов всей кожей ощущал его упругое прикосновение. «Тайна» неуклюже переваливалась на пологой волне, бухтела движком, раздвигая массивными скулами белые «барашки», и старые покрышки, словно серьги модницы, колыхались на ее носу.
На настиле бака, подставив лицо солнечным лучам, сидела Ленка — загорелая, цветом похожая на молочный шоколад, — и слушала музыку через наушники, в такт ей качала головой и смешно двигала босыми ступнями.
Пименов музыки не слышал. Он слушал шлепки волн о борт буксира, бормотание дизеля и звонкие крики обленившихся чаек. На смуглом Ленкином плече ветвился след, похожий на отпечаток листа папоротника, или, если присмотреться, на рисунок реки на карте — с толстым основным руслом и ветвями притоков.
Он мог позвать ее, но не позвал — бесполезно. Изотова и головой бы не повела — вытекая из синей перламутровой коробочки MP-плеера через черные нити проводов, в ее тело непрерывным бурным потоком вливалась музыка — и весь мир мог отдохнуть.
Плясали в такт ударнику и ветру короткие выгоревшие волосы, стучали по горячим, выскобленным доскам белые пятки, шевелились обветренные шероховатые губы, выпевая неразличимые слова.
Слева возвышалась громада мыса Дооб, справа, словно верблюды на водопой, тянулись в порт танкеры — один, второй, третий… Пименов сверился с GPS и взял на полтора румба к югу. Впереди было море и вся жизнь. Долгая и счастливая, пусть и бескрылая, но зачем крылья тем, кого греет гнездо?
Вот только не змеился бы по Ленкиному плоскому животу еще один отпечаток Нила с притоками, не сочилась бы из приоткрытого рта тонкой струйкой сукровица и не ползали бы в пустых глазницах жирные зеленые мухи…
…если вам будет угодно меня выслушать. Речь может идти об очень больших деньгах, Алексей Александрович! О гораздо бльших деньгах, чем разыгрывались этим летом там у вас, на Юге. Знаете, каждому из нас жизнь дает шанс, и чаще всего такое случается только один раз!
Он улыбнулся то ли словам собеседника, то ли своим собственным мыслям, отрицательно качнул головой и аккуратно раздавил хрупкий окурок сигариллы в хрустальной ванне пепельницы.
В тот момент Пименов еще не знал, что колесо судьбы пошло на новый круг и от его решений уже ничего не зависит.
Прицельная дальность
Глава 1
Если бы кто-нибудь сейчас спросил Сергея Савенко, как чувствует себя заживо погребенный, он мог бы рассказать все в деталях.
Убежище действительно более всего походило на гроб. Он лежал на спине, уткнувшись носом в старые, пахнущие трухой и плесенью, изъеденные жучками доски, уже шестнадцатый час. Тоненький туристский матрасик, который вначале был мягким и удобным, теперь казался засыпанным горохом: дико болела спина, затекший бок кололи сотни иголок, крутило шею.
Кейс с винтовкой, уложенный аккуратно сбоку, как казалось тогда, вплотную, но все же на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы не касаться бедра, врезался замками в кожу выше колена.
Ватки, пропитанные раствором серебра, он менял уже пять раз — без них он бы задыхался от кашля и обязательно выдал бы себя. Чердак проверяли четырежды, причем два раза достаточно серьезно. Бригада из пяти человек осмотрела каждый уголок и даже простучала стены в подозрительных местах. Скосив глаза, прикрытые пластиковыми линзами очков для плавания, чтобы не засыпало трухой, через неширокую щель в полу он видел проверяющих: молодые ребята, самому старшему было от силы лет тридцать пять, вооруженные короткими автоматами, скользили между наклонными балками, подпиравшими скат крыши. Они брезгливо отмахивались от клочьев паутины, матерились вполголоса, иногда шутили. Свет, падавший сквозь чердачные окна искрящимися от пыли столбами, позволял рассмотреть их достаточно хорошо. Трое в штатском, в приличных костюмах, белых рубашках и галстуках, и двое в черной спецназовской форме.
Работали парни профессионально, придраться не к чему. Но и его убежище было подготовлено не новичком — внутри чердака, вдоль внешней стены здания, как раз под чердачными окнами, тянулся уступ, похожий на подиум — ступенька высотой сантиметров сорок-сорок пять и шириной около метра. Именно в нем и был оборудован схрон размерами не больше пресловутого гроба, в котором он должен был провести почти сутки, а, учитывая особенную, всем известную пунктуальность одного из людей, ради которых он здесь находился, скорее всего сутки с небольшим.
Покинуть свое убежище он мог за несколько секунд, но толку от этого было чуть. Пара секунд при некоторых обстоятельствах все равно, что пара дней. Лаз, ведущий из схрона, был узок, так как из боковой части подиума при нажатии выпадала только одна доска. Неудобно, конечно, но куда денешься? Маскировка. Нужно стать незаметным, раствориться в полутьме чердака, в запахе кошачьих испражнений, в шорохах и вздохах старых деревянных балок. А это значит минимум изменений в окружающей обстановке: не смахнуть многолетнюю пыль, густо покрывавшую каждый сантиметр на чердаке, не нарушить хитрую вязь паутины, затянувшей углы и пространства между балками. Посему и доска, которую превратили во входную дверь в убежище, была только одна. И распил, сделанный в старом дереве, был настолько тонким, что рассмотреть его можно было, только если знать, где искать.
Если бы проверяющий чердаки наряд обнаружил его во время одного из рейдов, то выбраться Савенко не успел бы при любом раскладе. Его расстреляли бы прямо через пол, начни он выползать. Никто не стал бы с ним церемониться: больно уж нервной была обстановка. Времена Майдана канули в лету. Совместное предвыборное мероприятие президента и премьер-министра охранялось должным образом — с СБУшными снайперами на господствующих точках, перекрытыми проходными дворами, запертыми чердаками и множеством агентов в самой толпе, которая сплошной массой заполнит площадь через несколько часов.
При отработке мероприятий по обеспечению безопасности первых лиц государства, как и в любом другом регламентном деле, выполняется уйма действий, которые любому думающему человеку покажутся глупыми и ненужными. Опыт же спецслужб всего мира говорит о том, что террористический акт невозможно стопроцентно предотвратить даже при буквальном исполнении всех инструкций. А любое отклонение от них увеличивает вероятность удачного покушения во много раз. Человеческий фактор был, есть и остается главной причиной любых удач и неудач в каждом деле, и исключить его влияние не удалось еще никому.
Чердак был чуть-чуть в стороне от прямой линии выстрела, вернее, так казалось на первый взгляд. На самом деле обзор площади отсюда был и с небольшой дистанции — между предполагаемой точкой прицеливания и стрелком пролегало ровно триста двадцать пять метров, согласно показаниям лазерного дальномера. Но для того чтобы занять нужную позицию, стрелок должен был оказаться под потолком чердака, на высоте более трех метров, как раз напротив чердачного окна. Именно с такого угла и такой высоты становилась видна небольшая часть Майдана, с построенной там по поводу совместного выступления Президента и Председателя Правительства трибуной.
Чердак и выбран был Алексом и его хозяевами именно потому, что на первый взгляд не был «красной» зоной и мероприятия на нем выполнялись, но не по высшему уровню. В таком месте не сажали на дежурство группу прикрытия, не располагали снайпера, выслеживающего возможных террористов. Отрабатывали чердак в большей степени формально, ввиду близости расположения оного к месту выступления первых лиц государства — не более. Вроятность обнаружения, конечно, существовала, только зависела она от случайности, которой в любых обстоятельствах найдется место, и добросовестности проверяющих, в коей им отказать было трудно.
Но наряд, несмотря на то, что провел досмотр очень основательно, Савенко не нашел.
Несколько раз высокий парень в дорогих туфлях на кожаной подошве прошелся прямо по нему — мелкая древесная труха и густая, как мука, пыль сыпалась через щели прямо Савенко в лицо, он брезгливо сжимал губы. Доски скрипели и прогибались под тяжестью крепкого тела ретивого сотрудника Службы Безопасности, почти касаясь щеки Сергея. С обратной стороны доска была покрыта тысячами похожих на свалявшуюся шерсть щепочек. От старости они стали мягкими, и у Савенко создалось впечатление, что лица касается огромный мохнатый паук, пропахший ветхостью и прелой древесиной. От такой иллюзии он содрогнулся. Не будь в носу турундов с серебром — он бы обязательно расчихался. А окажись на его лице такое членистоногое — предпочел бы умереть.
Пауков Савенко боялся до смерти, даже на картинках и на экране телевизора. В учебниках по психиатрии такое заболевание называют арахнофобией. При виде многоногого омерзительного существа Савенко охватывала такая паника, что все остальные страхи, включая страх смерти, казались несущественными. Перед тем как ложиться в схрон, он тщательно обработал одежду и доски специальной жидкостью, отпугивающей насекомых, но от мысли о том, что из одной из щелей выберется восьминогий вражина, дыхание сбивалось, и сердце колотилось в ребра изнутри, словно воробей, случайно залетевший в комнату в оконное стекло.
Когда на дверях защелкнулся навесной замок и шаги наряда зазвучали в подъезде на лестнице, Савенко перевел дух. Потом позволил себе поменять позу, так, чтобы давление переместилось на другой участок спины, и чуть приподнял ягодицы.
Тем, кто рекламирует памперсы, стоит хоть раз в жизни попробовать их поносить. Перед тем как занять позицию, Сергей специально не пил несколько часов и, уже лежа здесь, на чердаке, позволил себе буквально несколько глотков лимонного сока, смешанного с водой, которые выпил из плоской фляги через соломинку. Но организм продолжал функционировать, почки работали, и он все-таки помочился один раз часов шесть назад, на удивление обильно. Далось ему это нелегко, навык, полученный много лет назад, уже ушел в небытие, и он долго боролся сам с собой, прежде чем решился сделать в штаны, но другого выхода не было, хоть он и пытался терпеть, сколько мог.
Специальная ткань чудо-памперса впитала в себя горячую, как расплавленный свинец, жидкость, но легенда «про совершенно сухие попки» оказалась все же легендой. Гениталии после мочеиспускания прели так, что Савенко отдал бы многое, чтобы снять с себя наполненные мочой «трусы-промокашки». Лежа на свежем воздухе, в обычном снайперском гнезде, он бы не испытывал таких ощущений. Здесь же, не имея возможности даже очень медленно, но кардинально сменить позу, он вынужден был смириться с мучительным дискомфортом в паху и ждать, ждать, ждать…
Еще пять с половиной часов — и можно будет выбираться. Останется почти тридцать минут на то, чтобы собрать винтовку, осмотреться и приготовиться к стрельбе. Ну и, конечно, на то, чтобы проверить свой путь к отступлению.
Вчера, перед тем как залечь в схрон, у него такой возможности не было. С ним был Алекс и еще один — мрачный тип лет сорока-сорока пяти, с бритой головой и дергающимся глазом, которого ему не представили. В отличие от лощеного и всегда элегантного Алекса, этот мрачный, как грозовое небо, тип был нарочито неопрятен. И пахло от него, как от плохо вычищенной беговой лошади после тренировки. Вот только руки у него почему-то были ухожены — подпиленные ногти, нежная кожа на ладонях — и это сразу чувствовалось при рукопожатии. Алекс был любителем маскировок, но, как и многие, кто считал себя докой в разного рода скользких делишках, перебарщивал с основными акцентами, недорабатывая в деталях. Голова у мрачного была брита недавно — на коже виднелись мелкие, замазанные тоном порезы и раздражение, а череп не имел такого основательного красивого блеска, какой приобретает после многократного привычного выбривания. Даже запах от одежды (интересно, где они ее раздобыли в такой кондиции?) в сочетании с ухоженными ручками кабинетного работника терял часть своей убийственной интенсивности.
Вообще во всей истории, в результате участия в которой Савенко оказался на чердаке старого здания в центре Киева, было много настораживающих, чтобы не сказать, пугающих, деталей. Деталей, на которые Савенко, будь он тем, за кого себя выдавал, никогда не обратил бы ни малейшего внимания. Но он носил эту фамилию сравнительно недавно — двенадцать лет не срок. И под личиной Сергея Савельевича Савенко (1960 года рождения, несудимого, бывшего члена КПСС, ныне беспартийного, бывшего контрактника, отработавшего в Афгане, прошедшего через горячие точки Приднестровья и Карабаха), скрывался совершенно другой человек.
Он не был профессиональным военным, совсем наоборот, был он человеком мирным до мозга костей. А каким может быть врач, выпускник Первого Московского МедИна, пусть и отслуживший в армии до поступления? И не случись в свое время перестройки, не проснись в нем коммерческая жилка, был бы он и по сию пору Сафроновым Николаем Алексеевичем, 1962 года рождения, беспартийным и прочее, прочее, прочее…
А так случился многомиллионный кредит, отконвертированный и переведенный за рубежи родины на закупку оборудования для диагностического центра. Случилась на той стороне границы сверхнадежная партнерская фирма, за которой стояли обычные московские бандюки, прикупившие себе в услужение грамотных финансовых советников.
А дальше — все пошло как по нотам.
Оказался господин Сафронов под банальной раздачей — меж двух пылающих огней. С одной стороны, те самые московские «пацаны» со шпалерами, с другой — банковская безопасность и чекисты с наручниками, колоссальный шум в прессе и небогатый выбор между тюрьмой или безымянной могилой где-нибудь на стройке в ближнем Подмосковье.
Тогда он нашел третий путь — благо на черный день были отложены кое-какие деньги.
Черновцы, где он пересидел самые «горячие» дни, залечивая простреленное плечо. Вильнюс, где он прикупил документы. Сонный городок Смела, недалеко от Черкасс, где он легализовался, и Киев, где он, спустя полтора года после московского беспредела, начал новую жизнь.
В новой жизни был и новый девиз — не высовываться!
Его искали. Иногда (очень редко) он звонил своему близкому другу, единственному из оставшихся, кому он мог доверять, и узнавал безрадостные новости. Искало его ФСБ — друг говорил, что видел его фото, висящие рядом с фотографиями «чехов», объявленных в федеральный розыск. А это однозначно указывало на то, что и крепкие парни с толстыми золотыми цепями на шее, о нем не забыли. Несмотря на низкие лбы, у них была хорошая память.
Раз в год, а иногда реже, о его деле, получившем название «дело о двухстах миллионах», писали газеты — журналисты стряхивали пыль со старых расследований, оставшихся нераскрытыми, и приводили дело Сафронова как яркий пример коррумпированности и беспомощности органов, а также беспринципности новых русских бизнесменов.
Николай Алексеевич эту чушь читал, скрежетал зубами, напивался по-черному, но сделать ничего не мог. Бессилие грызло его, как бездомный пес кость: жадно и ожесточенно.
Он был человеком талантливым, деятельным, способным — в тысячи раз способнее тех, кто, не обладая и малой толикой его талантов, с успехом ковал денежные знаки. Да, он был оторван от привычной среды! Он, еще не утратив модного московского лоска, канул в дебри провинции, словно нож в омут, без всякой надежды выбраться.
Конечно, можно перечитать «Графа Монте-Кристо», но скорее как лекарство для души, а не как руководство к действию. И душе станет легче. А телу… Тело останется в славном граде Киеве, который, несмотря на всю свою столичность, был в сравнении с метрополией просто местечком. И это местечко должно было стать для него новой родиной, что мучительно, но неизбежно… Потому, что вернуться назад нельзя.
Слишком хорошо запомнил Сафронов, ставший Савенко, смертельный холод, который он почувствовал тем зимним вечером февраля 1994 года, когда, спотыкаясь, ковылял прочь от пылающего после выстрела из «мухи» «Мерседеса».