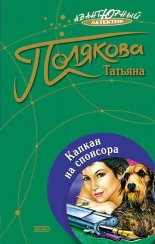Величие и крах Османской империи. Властители бескрайних горизонтов Гудвин Джейсон
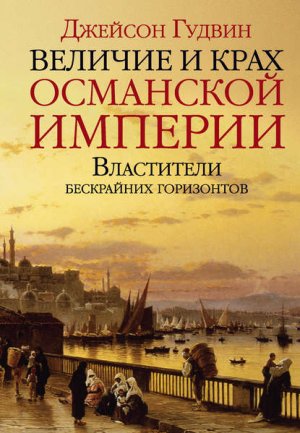
Хотя правители на местах время от времени и прикладывали все усилия для того, чтобы избавиться от опеки Константинополя, они по-прежнему нуждались в нем для придания легитимности своей власти. Султаны (или их визири) обеспечивали лояльность своих могущественных подчиненных с помощью сложной сети личных связей. Пашам давали в жены родственниц султана (по этой причине «султанат женщин» XVII века иногда называют также «султанатом зятьев»).[73] В 1720 году Хасан-паша объявил себя правителем Вавилона. «Открыто захватил власть над провинцией, — писал венецианский посол, — после пятнадцати лет издевательств над Портой и неподчинения ей и властвует, словно монарх, хотя и посылает каждый год традиционную дань Великому сеньору. Лицемерие нынешнего правительства столь велико, что оно не только не объявляет его мятежником и не пытается усмирить его силой, но сносится с ним и выказывает ему всяческое доверие, а недавно пожаловало его сыну, которому всего семнадцать лет, титул паши».
Хаджи Али Хасеки, губернатор Афин в конце XVIII века, правил так деспотично, что местные жители направили в столицу делегацию, состоящую из турок и греков, чтобы упросить власти сместить его. Посланникам удалось добраться до великого визиря, и крестьяне бросили свои лемехи к его ногам, умоляя выделить им землю в каком-нибудь другом месте. Хаджи Али был смещен, но он состоял в любовной связи с сестрой султана, и через несколько лет с помощью взяток ему удалось вернуться на прежнее место. После этого он изгнал из провинции своих противников из числа турок и продолжил присваивать земли и принуждать крестьян работать на себя; Афины наполовину опустели, поскольку горожане почли за благо бежать куда подальше. Только смерть сестры султана привела к падению Хаджи Али. Он был сослан на Кос и впоследствии обезглавлен.
Часто Порта просто называла сумму, которую желала ежегодно получать с той или иной провинции, и предоставляла бейлербею полную свободу в установлении размера налогов на подвластной ему территории; таким образом система, которая прежде применялась только в самых отдаленных и опасных землях, в XVII веке распространилась по всей империи. В этот процесс перетекания власти были вовлечены самые разные люди: священнослужители, кадии, традиционные предводители кланов и племен, вроде сербских князей или капитанов боснийских мусульман, продажные чиновники. Одновременно центральные власти стали по мере возможности освобождать столицу от янычар, отправляя их в гарнизоны, разбросанные по всей империи; когда начинались задержки с выплатой жалованья, янычары начинали вести себя в привычном духе и на новом месте. Особенно много их было в Боснии и Сербии, а к 1792 году половина мужского населения Салоник была записана в тот или иной янычарский полк. Все эти местные властные группировки представляли собой опасный противовес коррупции и нерешительности центральной власти, чьи наместники часто вели себя как почетные гости, благосклонно наблюдающие за спектаклем, главные роли в котором играют совсем другие люди.
Следствием хаоса во власти и равнодушия центрального правительства к тому, что происходит в провинциях, стало появление местных династий аянов, или деребеев, то есть «правителей долин»,[74] словно государство было слишком измождено, чтобы лазить по горам и подниматься на перевалы, разделяющие эти долины.
Албанец Али-паша, один из самых самовластных и грозных аянов, правил своим пашалыком двадцать лет. Родился он в Янине в 1745 году. Земли прибирал к рукам хитростью, силой, страхом, жестокостью и дерзостью; его владения включали большую часть Южной Албании, Северной Греции и Македонии; он свободно вел переговоры с европейскими державами от своего собственного имени. Когда изучаешь его деяния, порой кажется, что вся его жизнь была посвящена мести албанцам-сулиотам, которые когда-то обесчестили его мать, настоящую ведьму; порой же думаешь, что он был диктатором современного типа, родившимся не в свое время: он построил хорошие дороги и разбирался в вопросах торговли. Однажды он любезно предложил Генри Холланду остаться у него на службе в качестве личного врача, а когда тот, разумеется, отказался, попросил снабдить его каким-нибудь хорошим безвкусным ядом. Среди подданных он пользовался определенной поддержкой, поскольку, угнетая народ, не давал угнетать его никому другому. Порой он использовал Порту в своих целях, порой оказывал ей открытое неповиновение, но та долгое время успешно делала вид, что Али-паша — именно тот самый человек, которого она желает видеть на этом месте, и только в начале 1820-х годов разрыв стал открытым и неизбежным. Старый лев Янины продолжал сражаться, палить в своих врагов, отдавать приказы и клясться, что жестоко отомстит, когда османские солдаты уже ворвались в его дом; он внушал такой ужас, что они убили его, даже не пытаясь сойтись лицом к лицу, а стреляя вверх сквозь дощатый пол.
В таких обстоятельствах простой народ беднел, но кое-кому удавалось существенно обогатиться. В каждой деревне находились люди, нажившие состояние на военной службе, сборе налогов, ростовщичестве, торговле или скупке по дешевке наследственных земельных наделов. Последствием экономических потрясений XVII века в следующем столетии стало развитие торговли и рост имущественного неравенства; социальные и демографические изменения, по всей видимости, нашли отражение в более быстром, чем раньше, распространении эпидемий из города в город (заразу разносили войска и торговые караваны).
Чума обычно начиналась в Константинополе в апреле или в мае, достигала пика в августе и прекращалась в октябре; корабли везли ее в Каир и Александрию, караваны — в балканские города. Распространению заразы способствовали войны: в 1718 году татары принесли ее в Белград, в 1738-м русская армия, подхватив чуму в Молдавии, разнесла ее по всей Украине, а австрийские армии регулярно разносили ее по Банату и Венгрии. Иногда эпидемия вспыхивала ни с того ни с сего, неожиданно и необъяснимо, за пару месяцев опустошая целые города, в которых о чуме не слыхивало уже несколько поколений. Казалось, она всегда с особенной свирепостью обрушивается на районы, уже пострадавшие от неурожая, землетрясений или прохода армии. Если в XVI веке численность населения росла, то в XVII — падала, причем явственнее всего это было заметно в сельской местности, жители которой бежали в города, где было безопаснее. Там их ждала чума, но все равно доля христиан в городском населении на Балканах выросла очень сильно.
Один немец заметил в 1553 году, что почти все дома в османском городе выглядят одинаково: «Построены из дерева в один этаж, стоят прямо на земле и на одном с ней уровне, подвалов нет». (Исключением была своевольная Албания: там дома напоминали крепостные башни, а вход в жилые помещения лежал через люк) В конце XVIII века в греческой деревне Амбеликья, где делали краску, известную как «турецкая красная», процветала группа торговцев этой краской, имевшая представителей в Вене и Лондоне; их роскошные и богато украшенные дома стоят до сих пор. В 1787 году один коммерсант-грек, живший на Сифносе, оставил жене и детям доли в оливковых рощах, виноградник, три корабля и лодку; то ли из озорства, то ли, наоборот, по здравом размышлении он завещал своей жене лестницу, ведущую к реке, а одной из дочерей — железный причал у ее подножия.
Развитие денежной экономики началось еще в конце XVI века, когда возникла нужда в профессиональной пехоте на денежном довольствии; однако хотя османы и полюбили прикарманивать все, что плохо лежит, они никогда по-настоящему не умели обращаться с деньгами. «Многие из них обладают недюжинным умом, — писал делла Валле в начале XVII века, — но во всем, что касается коммерции, мы можем дать им фору, поскольку у них гораздо меньше, чем у нас, знаний в этой области». Все средства, которыми османы располагали, они тратили на продвижение по карьерной лестнице. Служба в администрации, в армии или по духовной линии определяла их принадлежность к правящей касте, поскольку османы не были объединены общим этническим или географическим происхождением. Конечно, среди них встречались исключения — например, губернатор, который утверждал, что пашам следует заниматься торговлей, чтобы смягчать тяготы, лежащие на простом народе, — но вообще турки, обладавшие хоть каплей честолюбия, были по натуре своей рантье: вечно мечтая о повышении по службе и о благах, которое это повышение принесет, они использовали все свои деньги для того, чтобы получать должности, позволявшие им наложить руку на часть богатств, которые создавались у них под носом.
В отличие от аристократии Запада, которая в конечном счете занялась торговлей, промышленностью и финансами, для османов понятие богатства по-прежнему ассоциировалось с поблескивающей грудой награбленных сокровищ. Если в странах Западной Европы война служила экономике и оказывала на нее в целом стимулирующее влияние, то в Османской империи все было наоборот: экономика служила войне. Власти проводили реквизиции, как это было в старину, когда богатства империи распределялись по воле султана, а большая часть воинов могла сама себя прокормить. Реквизиционные цены были куда ниже рыночных, и страдали от этого, разумеется, самые лучшие производители. Культурные различия были причиной отчуждения между османами и теми жителями империи, которые превращали их труд в капитал, а капитал — в доход. Представители меньшинств, то есть люди, по определению не игравшие ни малейшей роли в политике, все активнее вкладывали деньги в торговлю, промышленность и даже в землю. Османское государство не считало поощрение торговли своей задачей — впрочем, даже если бы и считало, к XVIII веку у него уже не было для этого достаточных возможностей. Поэтому масштабы деятельности доморощенных капиталистов оставались, по меркам Западной Европы, относительно скромными; да и в любом случае быть очень богатым человеком в империи всегда было небезопасно. Хитрость и интриги в определенной степени позволяли османам и меньшинствам использовать друг друга к взаимной выгоде — так что важно было не кто ты есть, а с кем ты знаком.
В зените власти Али, паша Янины, вел себя самым непредсказуемым образом. Его обаяние не уступало его чудовищной жестокости: Байрон был им совершенно очарован (и написал об этом своей матери). Генри Холланду он выдал паспорт, предписывающий всем подданным относиться к этому путешественнику так, словно это сам Али. Ослушникам паша грозил не Кораном, не властью султана и не судом. В самом низу свитка извивалась зловещая черная надпись: «Поступай по сему, иначе будешь пожран Змеем».
«Империя падет, — писал Мустафа Али (1541–1600), — когда наши потомки скажут: „Закон — это то, что угодно нам“.» Но на самом деле империя, с грехом пополам залатывая пробоины и заделывая бреши, дожила до того времени, когда западные путешественники не то что перестали восхищаться системой османского государства, а стремились удивить своих читателей, обнаружив в этом государстве хоть какие-то признаки системы. Впрочем, среди гостей с Запада было и несколько романтиков, полагавших, что беспорядочное и случайное насилие Османской империи, пусть и прискорбное само по себе, уравновешивается столь же беспорядочными проявлениями благородства и мудрости. Уркварт, много путешествовавший по Албании в 1830-е годы, пришел к убеждению, что гибкость османских законов предпочтительнее, чем положение дел на Западе, где безжалостная жестокость и мерзости промышленной революции находили в законе полную поддержку. Он считал, что личностная природа власти автоматически обеспечивает империи необходимую систему сдержек и противовесов, а также способствует постоянному диалогу между теми, кто этой властью обладает. Размышляя о той детской беспечности, с которой вожаки восстаний стремились к своему неизбежному концу, Уркварт пришел к выводу, что восстания здесь начинаются с человека, а не с идеи, и что предательство каждого из вожаков есть «следствие той же самой отваги и решительности, на которых единственно зиждется их авторитет». По любому поводу велись переговоры и обсуждения; жалобы и претензии внимательно выслушивались, после чего всякий раз находилось решение, устраивающее обе стороны. До чего же это лучше, думал Уркварт, чем слепое неправосудие, ежедневно осуществляемое по отношению к его собственным соотечественникам равнодушной и безжалостной системой!
Османы полагали, что раз уж все люди несовершенны, то лучше, чтобы власть принадлежала тем, у кого во всем, что происходит вокруг, есть свой денежный интерес. Чиновник, продающий должности, плут-откупщик или просто «предсказуемый» судья,[75] очевидно, уже успели нагреть руки, и для того, чтобы на них можно было положиться, достаточно небольшой, вполне разумной суммы. А вот люди, открыто объявляющие о своей честности, решительно у всех вызывали страх. Некоторое время они действительно держались неприступно, из-за чего отправление правосудия задерживалось и все дела стояли, — но всем было известно, что от решимости праведника не останется и следа, как только он получит жалованье — и тогда берегись: он рьяно возьмется наверстывать упущенное.
22
Иллюзия
Наверное, термин «упадок» не совсем подходит для описания ситуации в Османской империи той эпохи. Старая система пережила потрясения начала XVII века и вышла из них более сложной и дробной, лишенной цели, заурядной — и более современной. Войско сипахи разложилось во многом потому, что чем дальше, тем большую роль в экономике начинали играть деньги. Власть в провинциях все крепче держала в своих руках местная знать, гораздо лучше знакомая с положением дел в конкретном районе, чем центральное правительство, и любезно избавляющая последнее от необходимости принимать решения по любому поводу. Правящие круги были разбиты на группировки, вызывающие тем больше ненависти у проигравших, чем больший успех им сопутствовал; но протекция в Османской империи, как и везде, была разновидностью меритократии: человек, отправивший ко двору способного десятилетнего мальчика, будущего великого визиря (1706–1710) Чорлулу Али-пашу, сделал это для того, чтобы расширить свои связи и, «будучи его покровителем, когда-нибудь получить от этого выгоду». Писари XVIII века писали на худшей бумаге, чем их коллеги, жившие столетием раньше, но записи их были более точны и подробны. Люди пера, похоже, перенимали эстафету у людей меча — как это, собственно, происходило во всех крупных европейских государствах.
Мир менялся, уходя от средневекового натурального хозяйства и вступая в новую, более беспокойную и гибкую эпоху — и проигрывали от этого одни лишь крестьяне, где бы они ни жили. В Османской империи они испытывали на себе давление растущего класса земельных магнатов, которые объединяли мелкие крестьянские наделы в латифундии, и крупных скотовладельцев, которые прогоняли крестьян с земли угрозами и действием (например, перекрывая доступ к воде); кроме того, накалялись отношения между крестьянами и кочевниками, которые все активнее проникали в оседлые районы, где земледелие находилось в упадке.
В структуре общества появлялись новые элементы, нарушавшие былую простоту, когда по одну сторону были османы, по другую — райя, а между ними — тонкая прослойка исламского духовенства и торговцев. Однако общество, которое могло вместить в себя безземельных издольщиков, ростовщиков, местных шишек, вольных ремесленников и династии на каждом уровне власти, было намного ближе к тому обществу, которое возникло и развивалось в Европе.
Проблема заключалась в самих османах. Древние традиции государственного управления не претерпели никаких изменений — государство не развивалось параллельно с обществом. «Да простирается тень величия и могущества султана на весь мир и на высоты небес, и да будут шнуры шатра его преуспеяния крепко привязаны к колышкам, ниспосланным Аллахом!» — льстиво писал османский посол в 1776 году, отправляясь заключать заслуженно унизительный мир с русскими. Казалось бы, излишним было прибавлять к этому, что «его благословенное восшествие на трон было щедрым даром весны розовому саду мира» — но посол не преминул это сделать, не зная, конечно, что этому самому «щедрому дару весны» суждено погибнуть в 1807 году, сражаясь со своими собственными сановниками, а его забрызганный кровью кафтан будет храниться в музее Топкапы как ужасное напоминание о временах упадка империи.
Пропасть между теорией и реальностью ширилась с каждым годом. Слишком многие люди жили не в реальном мире, а в лживых декорациях, начиная с султана с его иллюзорным всемогуществом и продолжая правительством, притворявшимся, что контролирует всю территорию империи, янычарами, притворявшимися, что они солдаты, улемой, притворявшейся, что верит во всемирное и вечное торжество ислама, наместниками, притворно покорными центральной власти, дающей им легитимность… Тысячи людей ежедневно приходили на работу во дворец Топкапы, но лишь человек двадцать из них занимались там чем-то действительно важным и нужным. Правительство откомандировывало в провинции десятки наместников, чьей единственной обязанностью было покуривать кальян: они считали, что им крупно повезло, если удавалось тихо-мирно жить в четырех стенах, предоставив управлять подведомственной территорией какой-нибудь местной клике или шайке громил; из Константинополя время от времени приходили невыполнимые распоряжения, а в ответ, разумеется, летели донесения о том, что все исполнено в лучшем виде. Афинам посчастливилось попасть под покровительство могущественного главы черных евнухов, так что порой горожанам удавалось добиться снятия неугодных им наместников. Как-то раз, когда в столицу прибыла очередная делегация жалобщиков, входивший в ее состав торговец по имени Димитрий Палеолог говорил так красноречиво, что глава черных евнухов снял серебряную чернильницу с пояса своего писаря и вручил ее оратору, сказав: «Возьми эту чернильницу и знай, что с этого дня я назначаю тебя наместником Афин!» Вне всякого сомнения, евнух, который никогда не покидал гарем, не говоря уже о том, чтобы съездить в Афины, был весьма доволен своим великолепным жестом и умением разбираться в людях, но бедняга Димитрий, который жил в реальном мире, не на шутку испугался. Вскоре по возвращении в Афины он был убит, причем в организации убийства участвовали как турки, разъяренные его назначением, так и ослепленные завистью греки.
Завеса иллюзии была густой и повсеместной. Всякий, кому удавалось завладеть властью или деньгами в реальном мире, мог, как правило, легко конвертировать их в видное положение в мире иллюзорном: на Балканах, в тех районах, откуда ушла регулярная армия, было полным-полно надменных тиранов местного масштаба, разъезжавших по своим владениям с бунчуками и в сопровождении свиты янычар. «Они облачены в золотые и серебряные одежды, словно принцы; за их великолепными татарскими лошадьми ухаживают их наложницы, которые следуют за ними, одетые в мужскую одежду».
Однако следствием подобной двойной бухгалтерии было то, что способные люди растрачивали свои таланты впустую, а гора нерешенных проблем приобретала такие размеры, что любые попытки ее разгрести становились совершенно безнадежными.
Атмосфера великого усердия, окружающая пашу за работой, писал Элиот, производила на стороннего человека в высшей степени сильное впечатление и неизбежно наводила на мысли о крайней важности происходящего: коридоры заполнены просителями и людьми, вызванными по тому или иному делу; сам паша, разговаривая с вами, одновременно занимается десятком дел — то диктует распоряжения, то сам что-то записывает и не может позволить себе ни минуты отдыха. Но Элиот знал, что к чему. «Хотя турки и исписывают огромное количество бумаги, они не придают никакого значения этой документации и, как правило, просто сваливают ее в мешки, которые через месяц-другой выбрасывают».
Даже экономный и емкий турецкий язык, в котором «я люблю» можно сказать одним словом, а «я очень сильно люблю» — другим, пострадал от пристрастия османов к литературным аллюзиям — того, кто ими не пользовался, могли счесть необразованным невеждой. Письменный язык стал сложным, неясным, исполненным темных для понимания намеков и аллюзий на аллюзии. Неудивительно, что перепуганные сановники, упоминавшиеся в одной из предыдущих глав, забормотали на своих родных языках: османский турецкий был искусственным образованием, буквально нашпигованным арабскими и персидскими словами. Арабская письменность, не отображающая гласные, так плохо подходила для турецкого, что многие годы спустя «рассказывали, будто во время войны с греками многие солдаты посылали домой, в Анатолию, письма, в которых сообщали о своих ранениях и просили прислать им денег — однако такую просьбу, записанную профессиональным составителем писем и с грехом пополам прочитанную деревенским грамотеем, часто понимали в том смысле, что дела у солдата обстоят как нельзя лучше и он шлет привет своим друзьям».
На низших этажах власти фальши и притворства тоже было хоть отбавляй — и это было тем более очевидно, что теперь у каждого европейского дипломата была своя сеть осведомителей. В Константинополе было запрещено есть свинину — однако европейские дипломаты купили разрешение привозить свиней в Перу на Сырную седмицу и забивать их на месте. Свиней гнали по улицам к посольствам ночью, при тусклом свете лучин. Многие европейцы рассказывали о том, как высокопоставленные османские чиновники толпами стекались к их столу, чтобы выпить вина, и расходились навеселе, а когда их упрекали в нарушении религиозного запрета, с подобающей надменностью отвечали, подобно муфтию Алеппо, что этот запрет не распространяется на почтенных мужей, которые знают, когда следует остановиться. Бусбек вспоминал одного старикана, который, поднося ко рту бокал с вином, всякий раз принимался неистово вопить, чтобы «предупредить свою душу, что ей следует удалиться в какую-нибудь укромную часть его тела, дабы не участвовать в преступлении, которое он собирается совершить». Когда Эдвард Додвелл в 1805 году ходил в Акрополь работать над этюдами, его покой частенько нарушало прибытие губернатора Афин, который называл своего нового друга-художника не иначе как «свиньей, дьяволом и бонапартистом и редко когда расставался с нами, не выпив большую часть нашего вина, говоря при этом, что это вино недостаточно хорошо для таких ученых людей, как мы». А Байрон записал в своем афинском дневнике: «Воевода и муфтий Фив ужинали с нами и изрядно набрались рома; тут же был и настоятель монастыря, выпивший не меньше нашего, так что пошумели мы во время моего аттического пира изрядно».
Впрочем, рассказы о пьющих мусульманах — дешевый прием, сродни байкам о распутных священниках. Тюльпаномания, охватившая двор в 1720-е годы, была более серьезным признаком побега от реальности. Романтический тюльпан Средней Азии, цветок в форме лиры и с острыми лепестками, был эмблемой дома Османа, его часто изображали на тканях, выкладывали мозаикой и воспевали в стихах. На краткий период в конце XVII века господству тюльпана в османских садах бросили вызов дыни и огурцы, однако в 1720-е годы, в правление султана Ахмеда III, этот цветок вновь обрел былое могущество и породил вспышку безумия, напоминавшую (в своих наименее постыдных проявлениях) голландскую тюльпаноманию середины XVII века.
Разница заключалась в том, что в Голландии эта мания была мыльным пузырем, раздутым спекулянтами, а в Турции она стала символом овладевшего двором гедонизма. У Ахмеда III было такое множество детей, что во дворце царила атмосфера бесконечного праздника: то и дело рождались новые отпрыски, сыновья султана проходили обряд обрезания, дочерей выдавали замуж. «Будем же смеяться и веселиться, сполна вкушая плоды наслаждений!» — писал придворный поэт Недим, любимый стихотворец султана. Матерые седые капудан-паши заботливо склонялись над луковицами с лопатками в руках, а главный садовник подальше убирал свои палаческие орудия, когда наступал быстротечный сезон цветения тюльпанов и во дворце устраивались ослепительные ночные празднества. Французский посол так описал одно из подобных празднеств, прошедшее в доме великого визиря:
Когда тюльпаны расцветают и великий визирь желает показать их султану, то на место тех цветов, что не образовали бутонов, с большим тщанием ставят в бутылках тюльпаны, принесенные из других садов. Рядом с каждым четвертым цветком зажигают свечу высотой вровень с бутоном. Вдоль аллей сада вешают клетки со всевозможными птицами. Трельяжи украшены невероятным количеством самых разных цветов, поставленных в бутылки и освещенных великим множеством светильников из разноцветного стекла. Такие же светильники развешаны на зеленых ветвях кустарников, которые специально по случаю празднества пересадили сюда, за трельяжи, из соседних лесов. Говорят, что все это богатство красок и огни, отражающиеся в бесконечном множестве зеркал, производят завораживающее впечатление. Иллюминация, сопровождаемая шумной игрой на турецких музыкальных инструментах, устраивается каждую ночь, пока цветут тюльпаны, и все это время Великий сеньор и вся его свита живут в особняке великого визиря и едят за его счет.
Десять лет весь Константинополь был погружен в волшебные иллюзии. По садам Топкапы ползали гигантские черепахи с укрепленными на панцирях мерцающими светильниками. «Порой двор плывет по водам Босфора или Золотого Рога в изящных лодках под шелковыми балдахинами; порой же выезжает длинной кавалькадой в какой-нибудь из увеселительных дворцов… Эти процессии особенно великолепны благодаря красоте лошадей и их богатым украшениям: сбруя из серебра и золота, на головах плюмажи, на чепраках блистают драгоценные камни».
За всем этим, впрочем, стояла рискованная и вдохновенная политика одного-единственного великого визиря — Дамада Ибрагим-паши, который увлеченно дергал за шелковые ниточки, приводя сказочную страну в движение. Высшую должность империи он получил в 1718 году, и, если учесть, что предыдущие двенадцать лет Ахмед III менял великих визирей в среднем каждые четырнадцать месяцев, а Дамад Ибрагим-паша продержался на своем посту до 1730 года, то уже понятно, что он был человеком незаурядных способностей. Он создавал для султана убаюкивающую атмосферу, исполненную красоты, очарования и поэзии; подарил ему загородную резиденцию Саадабад («Дворец счастья») на берегу Золотого Рога, известную также как Сладкие воды Европы; и сам оплатил грандиозное празднество по случаю своей свадьбы с сестрой султана. Однако вся эта роскошная мишура не мешала ему напряженно работать, занимаясь государственными делами и пытаясь заделать трещины в здании империи, зловеще расширившиеся после заключения унизительных договоров — Карловицкого (1699) и Пожаревацкого (1718).
Так что, как ни странно, так называемая Эпоха тюльпанов была не только временем, когда двор погрузился в пучину чувственных наслаждений, — к этому периоду также относятся первые попытки османских властей по-новому, более пристально взглянуть на Запад и его достижения. Не для того только отправляли османы посланников в Голландию и Францию, чтобы отыскать невиданные сорта тюльпанов; и не из пустой прихоти Саадабад был скопирован с французского дворца Марли. В 1719 году Ибрагим-паша снарядил посольство в Вену, а в 1721-м — в Париж, причем послам были даны инструкции «тщательно изучить устройство жизни и образования и доложить обо всем том, что может быть использовано в османском государстве».
Такая политика породила всплеск интереса ко всему французскому, в особенности к французским садам, декору и мебели (а во Франции, в свою очередь, вспыхнула мода на все турецкое). Но этим дело не ограничилось. В 1720 году француз-вероотступник организовал в Стамбуле пожарную команду. В 1729-м состоялось еще более значительное событие — в Константинополе было впервые в истории позволено открыть типографию. Управлял ею Ибрагим Мютеферрика, рожденный в 1674 году в Коложваре, — и быть бы ему кальвинистским священником, если бы в 1693 году он не попал в рабство и не был продан в Константинополь. Приняв ислам, Мютеферрика подвизался на государственной службе. При поддержке Сайда Челеби, сына посла, побывавшего во Франции, он испросил у великого визиря разрешения открыть типографию и добился разрешения улемы печатать книги нерелигиозного содержания. Поначалу он прибегал к помощи евреев, позже заказывал оборудование в Лейдене и Париже. Всего с 1729 по 1742 год было напечатано семнадцать книг, в том числе французская грамматика турецкого языка, описание поездки османского посла в Париж и два трактата: о сифилисе и о тактике европейских армий.
Разумеется, и милые забавы тешившегося иллюзиями двора, и попытки выработать более взвешенный подход к Западу ждал кровавый конец. Дамад Ибрагим-паша изо всех сил старался пресечь распространение мрачных слухов о положении дел на персидском фронте, но шила в мешке не утаишь. В 1730 году общественное мнение наконец вынудило султана и великого визиря собрать армию в Скутари, на азиатском берегу, — но вместо того, чтобы начать поход, они принялись тянуть время, вступив в постыдные переговоры с персидскими послами и рассчитывая закончить войну, не начав.
В сентябре в Константинополе вспыхнуло восстание под предводительством албанца по имени Патрона Халиль — янычара, промышлявшего продажей ношеной одежды. Восставшие обличали роскошь, к которой утопает двор, и обычаи неверных, к которым он склоняется. Разъяренная толпа разрушила Саадабад. Султан поспешно отправил великого визиря Ибрагима на свидание с палачом, но это не помогло: вскоре его самого скинули с трона и вернули в Клетку, а султаном стал его племянник, Махмуд I, опоясанный мечом Османа 1 октября 1730 года. На несколько месяцев Патрона Халиль обрел колоссальную власть. Каждое утро он являлся во дворец, и утонченные сановники прятались по углам, дрожа от страха. Численность янычар в платежной ведомости подскочила с сорока тысяч до семидесяти. Патроне удалось сохранять осмотрительность дольше, чем кто-либо ожидал; но в конце концов власть все-таки ударила ему в голову. Когда он потребовал, чтобы мясник, который когда-то ссудил ему денег, был назначен господарем Молдавии, его авторитет сильно пошатнулся. После этого он прожил еще несколько дней, а потом был убит во дворце людьми, которые окончательно разуверились в том, что он сможет обновить османское государство и очистить его от скверны.
Османы всегда были людьми чванливыми, и это их качество никуда не делось. Мало того, теперь, когда они больше не были крестьянскими детьми, а происходили из благородных семейств, правящая элита превратилась в высшей степени замкнутую касту. Ничто не могло поколебать гордыню османов. Они полагали, что все в их империи не только больше, чем в других странах, но и гармоничнее, и интереснее. «Воины падишаха — самая могучая сила в мире; к сожалению, они страдают от недостатка пищи», — сказали как-то раз одному заезжему европейцу. Почти непрерывная череда поражений от неверных наводила наиболее проницательные умы на мысль о том, что у Запада, возможно, кое-чему следовало бы поучиться (в 1805 году османский посол во Франции презрительно писал: «Я пока еще не видел того чудесного Франкистана, о котором говорят с таким восторгом»), однако открытое выражение интереса считалось дурным тоном; Уркварт заметил, что если греки кидаются к иноземному гостю и начинают расспрашивать его о новостях на трех языках сразу, то турки сохраняют видимое равнодушие и ждут, пока им все расскажут и без расспросов. Причины поражений капыкулу предпочитали усматривать в каких-нибудь случайных отклонениях от обычаев старины. Снова и снова принимались они бороться с этими отклонениями, и вроде бы дела начинали идти на лад, но затем бдительность притуплялась, прежние беды вновь являлись, усиленные стократно, и на их преодоление уходило куда больше сил, чем прежде, — пока в конце концов вся система не треснула, словно днище поршня.
Но до тех пор все ожесточенные столкновения между группировками и кликами, вражда и зависть, которые, казалось, раздирают сословие капыкулу на части, были не более чем семейной ссорой — из тех, которые могут годами тлеть в каком-нибудь старинном и очень надменном роду. «Давай сюда печать, глупый мальчишка!» — заорал однажды в тяжелую для дворца минуту глава черных евнухов на растерянного великого визиря, и тот — человек, казалось бы, достопочтенный и в летах — покорно уступил, как уступил бы молодой зять своей грозной морщинистой теще.
По отношению к внешнему миру они обладали чувством собственного достоинства, какое бывает присуще старинному аристократическому семейству. Однажды посол Людовика XIV испросил аудиенции у великого визиря, чтобы проинформировать его о победе своего монарха над коалицией немецких государей на Рейне. Старик Кёпрюлю смерил его взглядом и ответил: «Какое дело моему повелителю до того, пес ли беспокоит кабана или кабан — пса?» Похожий ответ получил сам Людовик XIV от османского посла при своем дворе: когда король осудил поведение голландцев, незадолго до того свергших своего принца, союзника Франции, посол сухо ответил: «Для нас, османов, свергать своих монархов — привычное дело».
Французское высокомерие — головная боль для дипломатов всех европейских стран — разбивалось, словно пена, о гранит османской гордыни; османы мучили французских друзей своим великодушием и предоставляли им вожделенные торговые льготы, называемые капитуляциями. Французы, конечно, были более привычны сами вести себя в таком духе. Одного французского посла во времена Мехмеда III пришлось увезти на родину в состоянии полного помрачения рассудка и поместить в сумасшедший дом в Севиньи, где ему и суждено было окончить свои дни, — а все из-за его несгибаемости в вопросах дипломатического этикета. Предыдущий посол оставил ему записку об особенностях местного протокола, в которой шутливо упомянул, что ему удалось нечто такое, о чем до него никто — ни турок, ни иностранец — не мог даже помыслить: пройти с клинком на аудиенцию у самого султана. На самом деле это был всего лишь крошечный, почти игрушечный кинжальчик, который посол спрятал в штанине, — но об этом он забыл упомянуть. Само собой разумеется, его преемник не собирался отказываться от привилегии, предоставленной в лице посла его монарху, королю Франции, — однако когда он явился на аудиенцию у султана со шпагой на боку, его не пустили во дворец. Не помогли ни требования, ни уговоры, ни мольбы. Посол год прожил в Стамбуле, одолеваемый мыслями о своей неудаче, так и не смог встретиться с султаном и в конце концов сошел с ума.
Английский посол Портер, должно быть, посоветовал бы ему вообще держаться подальше от всего, что связано с османским протоколом: церемония приема послов показалась ему настолько унизительной, что он решил, что ни один дипломат просто до сих пор не осмелился доложить о ней своему правительству, чтобы то оказало на Порту давление. На самом деле венецианские послы, можно сказать, почти только об этом, начиная с XV века, и писали, а Портер просто оказался одним из первых западных дипломатов, осознавших рост могущества своей державы перед лицом увядающего величия Порты. Для начала послу его величества короля Британии было велено ожидать аудиенции в тесной каморке, «которая сгодилась бы для польского еврея», затем ему пришлось снова ждать во втором дворе Топкапы, сидя на мокрой от дождя скамейке, — а когда он наконец добрался до зала аудиенций, то обнаружил, что султан сидит к нему в профиль, а все переговоры нужно вести с великим визирем. Потом его опять заставили несколько часов сидеть на месте, пока шло совещание дивана, причем из всего, что там говорилось, он не мог понять ни слова. Когда же он взобрался наконец на коня и думал, что сейчас отправится домой, ему снова пришлось ждать, на этот раз в седле, пока великий визирь со всей своей свитой после долгих сборов выедет из дворца.
В XVII веке империя спряталась в раковину — жила своей жизнью и знать ничего не желала о Западе, его обычаях и нравах. Две Европы расходились все дальше, и каждая, за неимением точных данных, была убеждена в своем превосходстве. Запад гордился своей наукой, и одним из следствий этого стало появление карантинных станций вдоль всей османской границы.[76] Наплыв вероотступников прекратился: все меньше находилось европейцев, желающих превратиться в турка, да и сами турки были все меньше расположены принимать таких людей. Помните случай с антикваром, который был послан Людовиком XIV в Константинополь искать старинные манускрипты, поиздержался и был принят на довольствие в янычарский полк? Трудно предположить, что нечто подобное могло бы произойти теперь. Когда-то было вполне обычным делом встретить старого янычара, говорящего на ломаном немецком, и каждое посольство рисковало потерять нескольких людей, решивших перейти в ислам, — барон Вратислав, например, видел, как итальянец с Крита, состоявший в той же посольской свите, что и он сам, сорвал с себя шляпу, растоптал ее, разорвал на куски и швырнул в Дунай, чтобы показать туркам, что он твердо решил стать одним из них. Теперь иностранные специалисты стали редкостью, и Порта больше не требовала, чтобы они меняли веру, — напротив, предпочтительнее было, чтобы они держались в стороне.
Хотя турки и славились своим гостеприимством (если путешественник предлагал деньги хозяину дома, где он переночевал, тот отвечал: «У меня не постоялый двор», в то время как греки обычно по завершении дружеского визита выставляли гостю счет), на официальном уровне османы относились к западным державам со все большей подозрительностью и очень остро переживали обиды. Не могли забыть, например, что, пока турецкий посол знакомил одних французов с цивилизованным удовольствием пития кофе,[77] другие французы разгружали в Стамбуле корабль с фальшивыми монетами, появление которых на рынке привело к бунту. Уязвленная гордость делала османов раздражительными и непредсказуемыми. «Настало время, опасное для иностранных дипломатов: французский посол получил пощечину и был избит стулом, русского пинками выгнали из зала аудиенций, советника польского посольства едва не убили, а переводчик посольства Империи [то есть Австрии] был побит палками».
В 1774 году, после катастрофического поражения от русских, в Кючук-Кайнарджи начались переговоры об условиях мирного соглашения. Русский посол потребовал себе мягкий стул. «Поскольку мы не привычны сидеть на стульях, таковой трудно найти в здешних местах», — ответили ему. «Однако на этот раз стул все-таки пришлось найти. Его позаимствовали у господаря Молдавии с тем условием, что он будет возвращен». Пересечет ли османский наместник реку, чтобы встретиться с русским послом? Нет, ибо в первую очередь он наместник, а устроитель переговоров — во вторую.
В итоге послы встретились на плоту посередине реки. Русский настоял на том, чтобы сидеть справа от Мехмед-паши; не в силах воспрепятствовать этому, паша отметил в своем докладе, что ему удалось устроить дело таким образом, что левой и правой стороны как будто не было: «Русский был посажен так, что тем, кто входил с османской стороны, казалось, будто он находится слева».
По завершении переговоров османского посла отвели на карантинную станцию, построенную из сосновых бревен; внутри стояла изразцовая печь, а стены были оклеены обоями. Его русские сопровождающие, имевшие предписание сообщить Екатерине Великой, какие подарки привезли османы, дабы у нее была возможность подыскать равноценные, сказали, что посол может и не задерживаться в карантине надолго, если согласится, чтобы его вещи одну за другой подвергли дезинфекции. Мехмед-паша громко возмутился и указал на тот факт, что прежде ни один посол не подвергался карантину. Тогда, как он пишет в своем докладе, «генерал сказал: „Я предлагаю это единственно из искреннего к вам расположения. Нашу императрицу ужасают мысли о заразе. Ваше согласие расположит ее к вам“. К этому он присовокупил несколько обычных избитых франкских фраз вроде „Дружеские чувства, кои я питаю к вам, не знают границ“. Ему не удалось добиться своего».
Османская гордость в своей неуместности могла показаться смешной, но она была неподдельной. Вспомним замечательный ответ, данный пленным пашой завоевателю Египта. «Я прослежу за тем, чтобы султану сообщили о смелости, которую ты проявил в сражении, хотя тебе и не повезло его выиграть», — учтиво сказал Наполеон. «Можешь не беспокоиться, — ответил паша. — Мой повелитель знает меня лучше, чем ты».
В более безоблачные дни, в 1862 году, французский император Наполеон III с супругой Евгенией неделю гостили в Стамбуле у султана. Императрице так понравилось блюдо из протертых баклажанов и баранины, что она попросила позволения допустить ее личного повара на дворцовую кухню, чтобы узнать рецепт. Позволение было любезно предоставлено, и повар императрицы, вооружившись весами и записной книжкой, отправился на кухню — откуда тут же был изгнан поваром султана, который кричал ему вслед: «Повар повелителя османов пользуется лишь своими глазами и носом!»
Блюдо вошло в турецкую кулинарию под названием хюнкярбейенди, что означает «императрице понравилось», однако Евгения так никогда и не узнала его рецепт.
23
На границах
К началу XVIII века в цепенеющей империи сложилось множество причудливых полуавтономных формаций, которые, казалось бы, должны были быть реорганизованы и поглощены центральной властью, а вместо этого так и обветшали вместе с империей, словно эксцентричные жильцы загородного коттеджа. На Афоне существовала настоящая монашеская республика, но и кроме нее были обители, пользующиеся особыми правами — например, монастырь Святой Екатерины в Сирии, которому Мехмед Завоеватель, если не сам Пророк, пожаловал на вечные времена многие привилегии (когда патриарху однажды пришлось отстаивать свои права на одну из константинопольских церквей, он не смог найти подтверждающий их документ; однако ему удалось отыскать свидетеля — престарелого янычара, участника взятия Константинополя). В 1755 году прямо под стенами Топкапы стоял длинный ряд домов, которые наконец решили снести, чтобы сделать на этом месте противопожарную полосу. Все собственники домов согласились на это, кроме одной старушки, которая «заявила, что ни за что не расстанется со своим домом, ибо он принадлежал нескольким поколениям ее предков и так ей дорог, что никакие деньги не смогут возместить его утрату». Облеченные властью люди кричали на нее и всячески ее бранили, однако никто не осмелился отобрать дом силой — слишком ужасной казалась такая несправедливость. Дом остался стоять на месте, и когда задаешь вопрос, почему султан не применил в этом случае свою власть, ведь можно было отобрать у старухи жилище и заплатить ей компенсацию, турки отвечают: «Это невозможно, это же ее собственность».
Отношение Османской империи к зависимым от нее территориям отличалось инертностью, так что жители Рагузы, что для них вообще было весьма характерно, действовали на свой страх и риск. В конце XVI века они попали в тяжелое положение в связи с тем, что венецианцы и евреи задумали хитрый маневр — превратить Сплит в главные западные ворота Балкан. В ответ Рагуза захватила контроль над морскими грузовыми перевозками и на некоторое время оказалась владелицей самого большого торгового флота в мире.[78] Рагуза по-прежнему имела торговые представительства в каждом значительном городе империи и по-прежнему погружалась в траур по случаю каждого смертного приговора, который приводил в исполнение приглашенный палач-турок, но постепенно начинала ускользать из османских объятий. Жители Рагузы оставались настолько преданными своим олигархически-коллективистским идеалам, что за пятьсот лет самоуправления установили лишь один памятник знатному человеку — да и тот посвящен скорее не ему самому, а связанному с его именем событию. Николица Бунич — так звали этого человека — был послан к паше Боснии, чтобы сообщить ему, что Рагуза отказывает ему в предоставлении ссуды. Паша, рассуждали рагузяне, может убить посланца, но нельзя допустить, чтобы город и дальше запугивали. «На насилие ты ответишь самопожертвованием, — было сказано Николице Буничу. — Ничего не обещай, ничего не давай, будь готов к любым мукам. Республика надеется на тебя. Ты встретишь славную смерть, но твоя родная земля будет свободна. Держись с достоинством и говори, что мы — свободные люди, а он — тиран, и Бог его покарает». Как рагузяне предполагали, так и произошло, и, чтобы почтить героическую гибель Николицы Бунича, в зале Большого совета, подальше от глаз толпы, была помещена небольшая табличка с описанием этого события.
Наполеон покончил с независимостью Рагузы также, как с независимостью Венеции, разве что обставлено это было не так театрально: он не бормотал себе под нос, что стал для республики Атиллой, и не называл ее главную площадь гостиной Европы, а просто издал в 1807 году декрет об аннексии Рагузы и ее присоединении к провинции Иллирия. После падения Наполеона Рагуза, как и Венеция, досталась Австрии, но если венецианцы, стремясь забыть об унижении, нырнули в водоворот развлечений, то реакция жителей Рагузы была исполнена колючей гордости — совершенно не венецианской, а типичной для тех понятий о чести, что были распространены в окрестных горах. Лучшие семьи республики поклялись, что их представители не будут вступать в брак и заводить детей, пока город находится под вражеской оккупацией, — и к 1918 году, когда Австрия была наконец вынуждена уступить Рагузу недавно образованной Югославии, они уже все успели вымереть.
Черногорцы, жившие в тех самых окрестных горах, сохраняли широкую автономию на протяжении многих столетий, подчиняясь турецким властям на нижних склонах и с легкостью игнорируя их ближе к вершинам. «Мы увидели, что во вражеской армии так много солдат, — докладывали черногорские разведчики в 1711 году, — что, если бы мы все втроем были из соли, нас не хватило бы, чтобы посолить их похлебку. Однако все они — одноногие и однорукие калеки». Никто не мог завоевать Черногорию, поскольку с маленькой армией сделать это было просто невозможно, а для большой в этой местности не нашлось бы достаточно провианта. Черногорские мужчины стреляли в неприятеля из-за скал из карабинов почти что трехметровой длины, женщины устраивали камнепады, а дети таскали боеприпасы и стреляли из рогаток. По сравнению с ними турки казались неповоротливыми, а албанцы — изнеженными; все они были под два метра ростом и невероятно красивы, и самым страшным оскорблением для них было сказать: «Знаю я, из какой ты семьи: все твои предки умерли в своей постели!» В 1516 году, когда скончался их последний князь, черногорцы поручили власть над страной епископу Вавиле — отчасти потому, что он был благочестив и мудр, отчасти же из-за того, что он славился как прекрасный воин. Преданность черногорцев православию не знала границ, и в XVIII веке они были более чем любой другой балканский народ склонны прислушиваться к обещаниям русских агентов; возможно, дело было еще и в жадности до новостей, вполне объяснимой для жителей страны, настолько оторванной от мира. В 1493 году, когда из Венеции в Черногорию привезли кириллический печатный станок, здесь была открыта первая в славянском мире типография — всего лишь через двадцать лет после типографии английского первопечатника Кэкстона, однако вскоре свинцовые литеры переплавили на пули. Похожий на казарму дворец, построенный черногорцами для своего князя в 1830 году, называется Бильярда — в честь бильярдного стола, который князь, он же епископ и поэт, доставил на место на мулах. В конце XVIII века местные жители были настолько привержены всему русскому, что на время сместили своего князя-епископа и передали власть малорослому авантюристу, который убедил их, что он — не кто иной, как царь Петр III, чудесным образом спасшийся муж Екатерины Великой, явившийся возглавить решительную битву против магометанского суеверия. В 1766 году он был провозглашен князем под именем Стефан Малый. Русским эта ситуация была приятна не более чем туркам, так что все вздохнули с облегчением, когда семь лет спустя Порте удалось устранить его, подослав убийцу-грека. За этим единственным исключением до 1851 года Черногорией продолжали править духовные владыки — вначале их избирали, а потом возникла своеобразная династия, в которой власть передавалась от дяди к племяннику, поскольку у православных иерархов, дававших обет безбрачия, своих детей не было. Последний представитель этой династии Данило II отрекся от сана и женился; позже его убили.
По крайней мере до 70-х годов XX века в городке Улцинь жили чернокожие черногорцы, потомки рабов, привезенных сюда в XVI веке, — что неудивительно, поскольку до самого конца номинальной власти Османской империи над Черногорией, то есть до 1878 года, Улцинь был логовом марокканских, албанских, турецких и сербских пиратов.
Евреям придавало силы ощущение своей избранности и чувство утраты. Перебравшись в начале XVI века из Испании в Салоники, они построили синагоги, названные в честь Кастилии и Каталонии, Арагона, Толедо и Кордовы; те, кому удалось спасти свое богатство, как, например, сеньору дону Бенвенисте, сыну испанского министра финансов, основали школы, библиотеки и академии, где обучали астрономии, математике и философии, а также типографии, печатавшие философские и теологические трактаты. Их кухня, их величавая манера держать себя, сияющая чистота их одежды и традиционный зачин всех историй о прошлом — «Era'n buenos d'un rey» («Это было в славные дни короля»), — все выдавало их испанское происхождение. Один испанский сенатор, посетивший Салоники в 1904 году, был по-детски рад не только тому, что может, оказывается, преспокойно объясняться на улице на родном языке, но и вообще тому, что чувствует себя совсем как дома.
Впрочем, к тому времени золотой век Салоник давно миновал. Любопытно, что упадок здесь наступил тогда же, когда и в самой Испании. Нечто схожее было в судьбе этих двух империй, Испанской и Османской, чья борьба за власть над Средиземноморьем и Центральной Европой в XVI веке казалась современникам столь судьбоносной, а их потомкам столетие спустя — столь малозначимой. Обе империи пошли в рост в одно и то же время, обе казались несокрушимыми — и обе начали путь под гору в XVII веке, становясь все более спесивыми, слабыми и ограниченными. Между двумя гигантами, словно карлик-рефери, была зажата Венеция, золотой век которой закончился тогда же, когда главные действующие лица XVI века уступили место тем, кто раньше был не более чем зрителем. Если у современной эпохи и есть определенная дата отсчета, то это тот момент, когда политические колоссы Возрождения сошли со сцены: когда погибла Великая Армада, планы османов в Персии и Европе потерпели крах, а Венеция превратилась в захолустное государство, не рискующее пуститься в атлантическую авантюру.
Такая же судьба постигла и евреев. Когда османы взяли Крит и наконец изгнали венецианцев из своих морей, торговля с Венецией, от которой евреи получали немалые барыши, прекратилась. К тому времени за долгие годы, проведенные под османской властью, община во многом лишилась своей былой утонченности. Да, после бегства из Испании евреи пережили несколько ярких десятилетий, когда их роль как банкиров, торговцев и посредников была очень важна, но потом они разочаровались в Османской империи. Некоторые из них начали перебираться в динамично развивающиеся страны вроде Голландии и Англии (в 1660 году в Салониках проживало сорок тысяч евреев, а тридцатью годами позже — около двенадцати тысяч). Община беднела и становилась все более замкнутой.
Однако биение жизни в ней не замирало: то разгорались страсти, вызванные ожиданием скорого прихода Мессии, то вспыхивали теологические споры между раввинами, сеявшие вражду среди их сторонников. По всей Европе верили, что 1666 год станет поворотным моментом в истории евреев: избранный народ вернется в Землю обетованную. В 1654 году некто Шабтай Цви, сын торговца из Смирны, прибыл в Салоники и объявил себя Мессией. Взволнованная община приняла его с распростертыми объятиями: последовало две недели беспрерывных пиров и шествий, в которых, захваченные лихорадочной атмосферой всеобщего ликования, участвовали и евреи, и христиане, а Мессия пел песни о любви и плясал, прижимая к себе свитки Торы. Нашлись, впрочем, в Салониках и более рассудительные люди, организовавшие изгнание Шабтая. В 1661 году он объявился в Каире, где жил, ни в чем себе не отказывая, на деньги одного правительственного чиновника, который устроил его свадьбу с Сарой, еврейкой, чьи родители были убиты казаками Хмельницкого, когда ей было шесть лет. Она выросла в женском монастыре, откуда бежала в Амстердам, а оттуда перебралась в Ливорно, где объявила, что ей суждено стать женой Мессии. Девушкой она была красивой, волевой и крайне распутной. Когда Шабтай взял ее в жены, его авторитет сильно укрепился.
В первый день 1666 года под пение труб в синагогах и приветственные возгласы толпы Шабтай Цви провозгласил, что явился Спаситель и всем бедам теперь конец. На краткое время верующие забыли о праздничных обрядах, посте и молитвах и предались разгульному веселью. Ортодоксальные иудеи были в ярости.
В конце концов власти арестовали Шабтая. Во время личной встречи с султаном он с неожиданной легкостью согласился «стать турком» — то есть перейти в ислам. Восторженные поклонники постарались поскорее о нем забыть, но нашлись у него и такие упорные приверженцы, которые последовали его эзотерическому примеру, приняли ислам и затаились в ожидании возвращения своего Спасителя.
Несколько лет спустя Шабтай Цви умер в изгнании в Улцине, однако основанная им секта не исчезла. С течением времени ее притворяющиеся мусульманами последователи перестали быть похожими на испанцев — даже между собой они говорили по-турецки; но ни мусульмане, ни евреи не желали иметь с ними ничего общего. Они продолжали совершать иудейские обряды в хорошо замаскированных синагогах и, как приверженцы любой секты, были склонны к спорам и расколам, так что к концу XIX века, когда их насчитывалось около восемнадцати тысяч (в основном это были богатые коммерсанты и торговцы), секта дёнме разделилась на три течения. Браки между представителями разных течений были исключены, однако общение между ними не прекращалось. До самого взятия Салоник греками, то есть до 1912 года, каждое утро у городских ворот можно было увидеть семерых человек, прикрывающих глаза от солнца, чтобы рассмотреть, не идет ли им навстречу Мессия.
В том, что касается торговли и посредничества, евреев в конечном счете обошли греки, их давнишние завистливые конкуренты. Помните поговорку: «Храни вас Господь от евреев из Салоник и греков из Афин»? Даже в XIX веке афиняне запрещали евреям останавливаться в своем городе больше чем на три дня. Греки, по общему мнению путешественников, были «хитрыми, сообразительными и проницательными»; «несчастливая судьба этого народа не лишила его природной живости ума». «Греку, выпившему вина, не сидится на месте, он становится энергичным, шумным и задиристым, ему хочется драться, убивать, свергнуть османского монарха и восстановить христианскую империю», — сообщал Элиас Ханеши в 1784 году «Мне нравятся греки, — писал Байрон, — хотя они, конечно, пройдохи, обладающие всеми пороками турок, но лишенные их храбрости. Однако и среди них встречаются храбрецы, и все они красивы».
Греки жили по всей империи, а не только на своем полуострове, — в Анатолию они проникли еще в древности, когда благодаря завоеваниям Александра Македонского греческий стал lingua franca Леванта, языком торговли, власти и религии; впоследствии, во времена Византийской империи, греки закрепились на Балканах и Ближнем Востоке. При османах греческий оставался языком власти наряду с турецким, так что для того, чтобы стать греком, не обязательно было им родиться. Любой образованный грек воспринимался в первую очередь как карьерист. По словам Портера, преуспевающим грекам, занимающим должности в патриархии или в администрации дунайских княжеств, были свойственны «нарочитая спесь, пустое тщеславие, презрительное высокомерие, склонность к тиранству и притеснениям. Лишившись должности, они становятся печальными, покладистыми и подобострастными до самого жалкого раболепия». Грек-врач был не более чем греком, не сумевшим заполучить приличную должность. Портер знал одного такого — он продавал львиную мочу, считавшуюся средством от бесплодия, но на самом деле моча была его собственная. «Любой грек, несколько лет бывший в услужении у врача со сколько-нибудь приличной репутацией, даже если только и делал, что толок порошки в ступе, убежден, что уже достаточно изучил врачебное искусство, чтобы открыть собственную практику и залечивать пациентов до смерти».
Греков обуревали страсти, желания их были сугубо чувственными. Церковь поддерживала их единство как народа — службами, религиозными праздниками, круговоротом обрядов (крещение, венчание, отпевание), обучала грамоте. Греков часто обвиняли в безбожии, на самом деле просто нрав у них был непостоянный: серьезность могла внезапно смениться разудалым весельем, и все благочестивые мысли мгновенно вылетали из головы.
Суровых моралистов греки могли довести до отчаяния. «Им неведома разница между добром и злом, — гневалась одна благородная афинянка по имени Филофея в XVI веке. — Это люди без религии и стыда, злые и безрассудные, всегда готовые изрыгать брань и оскорбления, любящие раздоры, смуту и сплетни, мелочные, болтливые, заносчивые, необузданные, коварные, норовящие всюду сунуть свой нос и нажиться на чужой беде». Соплеменники, впрочем, не возражали против того, что она поливает их грязью, и ничуть не обижались; когда же обличительница погибла от рук турок, греки канонизировали ее, и Филофея стала самой почитаемой святой Афин.
Будучи весьма и весьма большой, греческая община включала в себя людей самых разнообразных взглядов и охватывала все слои общества. Были греки высокоученые, религиозные и в то же время прогрессивные, как, например, патриарх Лукрис, уроженец Крита, который попытался навести мосты между православием и Реформацией. Были греки бедные, похожие на тех, что сегодня бьют осьминогов о прибрежные камни, прежде чем вывернуть их наизнанку. Были греки очень богатые, жившие в собственных дворцах в Константинополе. Были греки сомнительного происхождения, управлявшие дунайскими княжествами и жившие в атмосфере византийской пышности и коварства. Были греки, построившие в Западной Анатолии Новый Город с бульварами и театрами. Были греки грубые и услужливые, городские и деревенские, албанские и болгарские, и, разумеется, самые разнообразные греки жили на всем протяжении берегов империи: в Смирне и других городах анатолийского приморья, на островах Эгейского моря, на побережье Пелопоннеса. Под боком у них всегда было море, само олицетворение непостоянства. В середине XVIII века греческая община Марселя была одной из самых богатых в Европе; по данным французского консула, в 1764 году в собственности у греков находилось 615 кораблей, на которых служило 37 526 матросов. После подписания Кючук-Кайнарджийского договора греки получили право торговать под русским флагом и вскоре уже держали в своих руках Черное море. На Балканах и в Восточном Средиземноморье влияние греческих торговцев было чрезвычайно велико. В Леванте из-за этого нелегко приходилось французам, а англичане дошли до того, что призывали истребить греков, и их гнев был отчасти праведным, поскольку те частенько промышляли пиратством, и, по мнению некоторых экономистов, стартовым капиталом для богачей греческой общины послужили денежки, награбленные в море.
Важнейшую роль в жизни греческого миллета играла церковь, которую Мехмед Завоеватель превратил в мощный инструмент государственного контроля. Духовенство пользовалось поддержкой властей. Уже к XVI веку в высших слоях церковной иерархии было множество людей, которые купили свои посты за деньги и возмещали этот расход за счет тех, кто находился ниже их на социальной лестнице — то есть, в конечном счете, за счет несчастных православных крестьян, платящих церковную десятину. Вокруг греческого патриархата, расположенного в константинопольском районе Фанар, возникла своего рода грекоязычная аристократия, в высшей степени лояльная османской администрации, которой была обязана своей властью. Вход в этот клуб мог получить только тот, кто говорил по-гречески. Фанариоты очень гордились своими древними традициями и считали себя наследниками славы античной Эллады. Князь Кантемир, автор «Истории турок», любовно описывает все достопримечательности Фанара, среди которых, в частности, была академия, где, по его словам, преподавали все разделы философии на чистом, беспримесном древнегреческом. К XVIII веку среди важнейших должностей империи было пять, на которые назначали только фанариотов: патриарх, господари Молдавии и Валахии и два великих драгомана — Порты и флота. В старину особой нужды в толмачах не было, поскольку османские сановники и военачальники сами говорили на самых разных языках, — но теперь, когда возникла османская аристократия, они знали только три: османо-турецкий, арабский и персидский. Поэтому иностранцам приходилось прибегать к услугам драгоманов, то есть переводчиков.
Поскольку фанариоты монополизировали должности драгоманов, к ним приклеилась и сомнительная репутация, к этим должностям прилагавшаяся. И иностранцев и турок, похоже, в равной мере раздражала влиятельность драгоманов, которые полностью контролировали обретающие все большую важность каналы связи между Портой и внешним миром, благоденствуя в сотканной ими паутине намеков, обещаний и тщательно спланированных недоразумений и исправно собирая взятки. «In Pera sono tre malanni: peste, fuoco, dragomanni!»[79]
Среди фанариотских семейств было одиннадцать, поставлявших господарей — наместников, которые выжимали соки из Молдавии и Валахии. Патриарх и его подчиненные стремились объединить весь православный мир под греческой эгидой, поэтому сербский патриархат в Пече, воссозданный Мехмедом Сокуллу для одного из своих родственников, был снова упразднен после того, как хитрые австрийцы пригласили сербского патриарха и 37 тысяч сербских семей перебраться в их владения. Церковнославянский язык исчез из богослужения: в 1825 году митрополит Илларион сжег все славянские книги, какие только нашел в старинной библиотеке болгарского патриарха в Тырново. Фанариоты с одинаковым увлечением выжимали деньги и из греков, и из не-греков, требуя плату за рукоположение священников, за чтение молитв, за освящение новых храмов. Их власть, разумеется, зиждилась на угрозе отлучения от церкви: большинство православных верили, что тело отлученного не будет разлагаться, поскольку его душа находится в лапах дьявола (из этого поверья, кстати, растут и корни легенд о вампирах). Богословами они были не слишком выдающимися, зато оставались такими непримиримыми врагами западного христианства, что в 1722 году в энный раз предали анафеме папу — теперь за то, что он носит туфли с вышитыми изображениями креста.
Неприязнь к католическому Западу объединяла греков и османов. В 1699 году венецианцы захватили Пелопоннес, и хотя их власть принесла полуострову экономическое процветание, им не удалось завоевать сердца греков: купцы жаловались, что все богатство течет в венецианские карманы, все возмущались прибытием католических священников, негодовали по поводу притеснений, которым венецианцы подвергали православную церковь, и сравнивали свое прискорбное положение с религиозной свободой, царившей по другую сторону границы. В 1718 году османская армия изгнала венецианцев с Пелопоннеса при деятельной поддержке местного населения.
К несчастью для фанариотов, их уютное согласие с Портой было нарушено появлением альтернативного подхода к православию — не византийски-пассивного, но воинственного и чем дальше, тем более совпадающего с классическими взглядами греков. Вскоре после поражения на Пруте Петр Великий подчинил церковь непосредственно монарху, превратив ее в государственный орган. Его агенты, как миряне, так и духовные лица, начали проникать на Балканы, смущая покой греков великой мечтой, которую мог претворить в жизнь один лишь царь — о христианском Константинополе.
Русские неизбежно раздували угли недоверия, возбуждая в греках надежды, для оправдания которых у них не было достаточно сил, и страхи, которые они не имели никакого желания успокаивать. В 1770 году флот под командованием Алексея Орлова подошел к Пелопоннесу, однако русские обнаружили, что греки настроены отнюдь не так решительно и куда менее сплочены, чем им представлялось, и уплыли восвояси, проклиная греческую жадность и инертность. Пелопоннесцы же, в свою очередь, ожидали увидеть более многочисленное войско и более внушительный флот и почувствовали себя преданными. Долгожданное восстание началось без достаточной подготовки. Несколько тысяч греков взяли в руки оружие и захватили Наварин, однако русские к тому времени уже потеряли интерес к этому предприятию. Турок, разумеется, эта ситуация весьма встревожила, и единственное, что смог сделать османский наместник — пригласить для подавления восстания албанцев, которые с воодушевлением принялись резать греков, пока в 1779 году их не прогнала османская армия.
Кючук-Кайнарджийский договор, который, по мнению Екатерины II, означал, что все православные народы отныне находятся под ее опекой, на практике, помимо всего прочего, отдавал под покровительство Российской империи греческие торговые суда, так что неудивительно, что «Филики Этерия», тайное общество, целью которого было освобождение Балкан из-под османской власти, было основано в Одессе. Три года спустя, в 1817-м, этеристы с помощью русского консула перебрались в Константинополь. Среди фанариотов возник раскол. Александр Ипсиланти, бывший адъютант царя, возглавивший в 1821 году поход этеристов на Бухарест и Яссы в надежде поднять антиосманское восстание, был фанариотом. Поход окончился полным разгромом, а сам Ипсиланти бежал в Австрию, но напуганные его выступлением мусульмане выместили злобу на константинопольских греках. И пусть великий муфтий отказался дать фетву, разрешающую какие-либо действия против греческой общины, — султан был уверен, что патриарх так или иначе замешан в мятеже.
В судьбе патриарха Григория, как в капле воды, отразилась трагедия фанариотов. В разгар антигреческих волнений он предал анафеме Ипсиланти и его агентов, напомнив при этом своей пастве, что она должна испытывать благодарность Порте за охрану православной веры от тлетворных западных влияний. Однако турки все равно повесили патриарха, когда его родной брат, пелопоннесский епископ, встал во главе восставших. Его тело было отдано группе евреев с тем, чтобы они порезали его на куски и скормили собакам; однако ходили слухи, что на самом деле евреи продали его христианам за сто тысяч пиастров — хотя, возможно, и не продали, а бросили в Босфор, где его вскоре подобрал капитан греческого судна, шедшего в Одессу с грузом зерна. Там, в Одессе, патриарх Григорий и был похоронен как мученик, после чего стал тем, чем при жизни ему хотелось быть меньше всего — символом греческого сопротивления.
Татарские ханы из династии Гиреев, потомки самого Чингисхана, до поры до времени самовластно правили дикой крымской ордой, наводившей ужас на Восточную Европу. Их преданность султану заметно усилилась в XVIII веке, когда начала расти мощь Российской империи. Время от времени османы натравливали крымчаков на своих непокорных вассалов — чаще всего на тех, что обитали на территории современной Румынии, в княжествах Молдавия и Валахия, — но, становясь частью османской военной машины, татарская орда чем дальше, тем больше выглядела анахронизмом. В конце XVIII века империей управляли ловкие дипломаты, готовые принести татар в жертву России в обмен на договор, который положил бы конец интервенции России на Балканы, — и в 1774 году Порта даровала Крыму независимость, которой тот вовсе не хотел. Десять лет спустя Россия аннексировала полуостров, а затем постепенно вытеснила татар на обочину жизни. Большая их часть ушла на территорию Османской империи к западу от Черного моря, в Крыму осталось около пятидесяти тысяч — и чувствовали они себя настолько обделенными, что в 1941 году встретили немцев как освободителей, после чего все до единого были сосланы Сталиным на восток СССР.
Войны, которая могла бы превратить Молдавию и Валахию в полноценные османские провинции, так никогда и не случилось. Местные бояре оказались людьми очень покладистыми: с одной стороны, они страшились татар, с другой — охотно пользовались огромным спросом империи на овец и зерно для закрепощения своих крестьян, на которых и переложили все тяготы османского владычества. Порту не интересовало, что происходит в княжествах, пока они выплачивали дань и продавали армейским закупщикам продовольствие по установленной цене. Османская армия при необходимости могла войти на территорию того или иного княжества, чтобы обеспечить спокойную передачу власти или наказать ленивого господаря, замешкавшегося с выплатой дани, однако Порта не держала там постоянных гарнизонов, полагаясь на покорность народа православной церкви и покорность церкви константинопольскому патриарху. Власть над княжествами доставалась тому, что больше заплатит, так что, став господарем, этот счастливец, который мог быть только православным христианином, принимался выжимать из своих подданных все соки, чтобы возместить понесенные убытки.
Движение людей, начавших сбиваться в кучки в поисках безопасности, замечательно иллюстрирует процесс разрушения османского порядка. Сложный орнамент оставшейся в прошлом системы соединял приграничье и дворец, центр и армию; нынешняя же карикатура на него представляла собой союз дворцовой бюрократии и диких албанских горцев. Великий визирь Ахмед Кёпрюлю, сам уроженец Албании, пришел к выводу, что беспринципным и склонным к изменам слугам империи можно противопоставить прямодушных албанцев, которые были в большинстве своем мусульманами и свято чтили клятву верности, бесу, от которой могла освободить одна лишь смерть — так глубоко был впечатан в их сознание горский кодекс чести, так называемый закон Лека. И вскоре все крупные города империи оказались переполнены албанцами — в 1730 году в константинопольском восстании Патроны Халиля их принимало участие одиннадцать тысяч. Леди Мэри Уортли Монтегю необычайно понравились албанские солдаты в ослепительно-белых рубахах — она видела их из своей неповоротливой кареты, подглядывая в просвет между занавесками. Столетие спустя ими восхищался Байрон — столь же сильно, как ненавидели их греки. А как было их не ненавидеть, если каждый раз, когда для них наступали трудные времена, они весело затягивали песню про то, что у них есть «мушкет для службы визирю и карабин для службы паше» и отправлялись грабить и убивать своих соседей. Особенно опасны они были для греков, чьи мятежи с конца XVIII века им не раз поручали подавлять; это задание они выполняли охотно, но без спешки, и в шутку называли Миссолонги (где вспыхнул последний греческий мятеж, усмирение которого было самым долгим и кровавым) своим банком.
В XVIII веке крестьяне бежали с земли в города, а общая численность населения стремительно падала — если при Сулеймане на Балканах проживало около восьми миллионов человек, то в 1750-е годы — три миллиона. В эти беспокойные времена паломники, по-прежнему ежегодно устремлявшиеся в Мекку в огромных количествах, постоянно подвергались нападениям бедуинов. Многочисленные попытки выгнать этих арабских кочевников из сирийской пустыни ни к чему не привели. Мусульмане-колонисты покидали Венгрию, возвращаясь на территорию Османской империи, причем держали себя весьма независимо; сербы тянулись в противоположном направлении, на север, во владения Габсбургов, и на новом месте выказывали полную покорность властям, которые использовали их для охраны границ. Вторжение русской армии в дунайские княжества в 1736 году вызвало массовый исход крестьян в Австрийскую империю, который продолжался и после восстановления власти господаря через три года: фанариот Маврокордато, князь Валахии, провел в сороковые годы серию либеральных реформ, однако для крестьян расширение свобод было сопряжено с попаданием в глубочайшую долговую яму, так что их новое положение было, по сути, тем же рабством, что и неприкрытый феодальный гнет прошлого. Что же до бесконечно жестоких бояр и придворных господаря, то отказ от одной манеры правления — византийской, анахроничной, эксплуататорской и порочной, и переход к другой — современной и офранцуженной, но не менее эксплуататорской и порочной, никак не улучшил их репутацию в мире и породил старую шутку о том, что румын — это не национальность, а профессия.[80] Поэтому, когда русские возвращались в 1769-м, 1774-м и 1812 годах, вооруженные более привлекательной пропагандой, порождающей надежды на лучшую жизнь, до двухсот тысяч болгар пересекали Дунай, чтобы присоединиться к ним.
Османам всегда было сложнее всего навязывать свою систему единоверцам. В XVIII веке они могли лишь назначать в провинции, населенные арабами, наместников и судей, а также держать там гарнизоны; Сирия и Египет, Алжир и Тунис жили своей жизнью, в лучшем случае выплачивая империи определенную сумму в качестве дани, но часто забывая делать это вовремя. В Тунисе существовала настолько устоявшаяся традиция, в соответствии с которой страной должен править странствующий властитель — махалла, что османы назначали одного наместника для столицы, а другого посылали объезжать внутренние области. В Мекке был свой шериф. Египетские мамлюки по-прежнему пополняли свою армию рабами с Кавказа. Задолго до разложения янычарского войска в Константинополе с ним начались неприятности на Ближнем Востоке: в 1577 году Порта указывала наместнику Дамаска, что вакансии в корпусе заполняются «не молодыми способными людьми из Румелии, как то надлежит делать, а богатыми местными жителями и иностранцами», а в 1659 году губернатор был вынужден в бездействии наблюдать за тем, как на улицах города местные янычары дерутся за власть с подразделением, присланным из столицы. В Тунисе вакансии заполнялись турецкими полукровками, а вот в Алжире турки были настолько изолированы от местного населения, что до XIX века продолжали набирать солдат в Леванте, преимущественно в Смирне.
Но даже таким близко расположенным от средоточия османской власти (и таким важным для караванной торговли) городом, как Алеппо, приходилось управлять гибко и тактично. В пятидесяти километрах от города по окраинам пустыни кочевали не поддающиеся приручению бедуины, которых, насколько это было возможно, держал в узде так называемый эмир арабов (столь же своенравный и жадный, как любой из племенных вождей, но в идеале более могущественный), которого назначал наместник. Самим городом, не имея достаточной военной силы, на которую можно было бы опереться, наместник управлял с помощью дивана, состоявшего из местной знати: купцов, концессионеров, откупщиков, землевладельцев и представителей весьма влиятельной улемы. Кроме того, ему приходилось прилагать усилия для того, чтобы споры о власти между янычарами и шерифами не выплеснулись на улицу. Шерифы теоретически все были потомками Пророка, и одной из их задач считалось ведение семейной хроники; однако их численность имела обыкновение резко возрастать каждый раз, когда их власти угрожали янычары, которые здесь, как и везде, стали сущим бедствием для городских ремесленников. Не давая старинному соперничеству разгореться, наместник не только поддерживал мир и спокойствие в городе, но и получал возможность возместить убытки в сотни тысяч пиастров, потраченных на покупку своей должности, — ведь ему было известно, что очень скоро, в лучшем случае через год, в Константинополе найдется желающий взяткой добиться его смещения.
Упадок османского флота в XVII веке и отступление турок из Западного Средиземноморья привели к укреплению независимости североафриканских провинций, правители которых всегда были рады отпраздновать какую-нибудь победу османской армии в далекой Европе или послать султану поздравление с рождением сына, написанное в самом раболепном и льстивом стиле, но не желали обращать ни малейшего внимания на поток приказов и распоряжений, изливавшийся из Стамбула. Впрочем, мусульманское единство не было пустым звуком. В XVI веке североафриканские мориски, вечно мечтающие о потерянной Андалусии, были восхищены тем, как храбро османы вступили в морское соперничество с испанцами, — и какой бы независимостью ни пользовались жители Магриба впоследствии, они всегда радовались османским победам и гордились тем, что их страны входят в состав самой могущественной державы исламского мира. В дневнике одного дамасского горожанина описана церемония вознесения благодарственных молитв на горе Касьюн в декабре 1667 года по случаю победы на Крите. «Это было самое величественное событие из всего, что я видел в своей жизни… Я думаю, что из всех жителей Дамаска на гору не пришло лишь несколько сотен или около того — да и то потому, что они были калеками или пекарями, которые не могли оставить свои печи. И я слышал, что даже они в большинстве своем совершали молитву, благодаря Аллаха за победу и завоевание острова».
Когда Селим Грозный получил ключи от священных городов и поклялся, что он и его наследники возьмут на себя охрану паломников, совершающих хадж, ему, очевидно, досталась и мантия халифа; однако ничто не свидетельствует о том, что он или его сын придавали этому титулу какое-то особенное значение. Если он и употреблялся по отношению к османскому султану, то лишь как дань уважения правителю, воплощающему в себе надежды ислама, и военачальнику, чьи великие победы подтверждают истинность религии. Большинство мусульман мира совершали всё, от начала до конца, паломничество в Мекку по территориям, находящимся под османской юрисдикцией; каждый год во главе великого каравана, пересекавшего пустыню, шли верблюды, принадлежащие османскому государству; османы снабжали паломников питьевой водой, да и вообще всю организацию мероприятия обеспечивал османский наместник Дамаска, целиком посвящавший ей три месяца в году. Лишь много позже, когда неверные начали отбирать у султанов земли и поданных, про титул халифа снова вспомнили. Причем не кто-нибудь, а русские, оттяпав в 1774 году у империи Крым, первыми предложили султану эту сомнительную компенсацию и вписали ее в мирный договор.
«Твой раб вырос в благословенной тени твоей империи», — написал Мухаммед, бей Туниса, султану в 1855 году, но писать он взялся лишь для того, чтобы сообщить, что тоже решил провозгласить себя султаном.[81] Алжир попал в состав империи почти по случайности, когда алжирцы обратились за помощью к Барбароссе, а тот обратился к Порте; в 1571 году, после Лепанто, когда стало ясно, что Порте не суждено установить господство над Западным Средиземноморьем, чувства алжирцев к ней охладели, и отношения между провинцией и метрополией свелись практически к нулю. Последнее послание алжирского дея Порте было неожиданно смиренным: дело было в 1837 году, когда французы готовились захватить его столицу Константину, подобно тому как семью годами ранее захватили город Алжир. «Враг Аллаха идет на нас… У нас не будет сил оказать сопротивление, если нам не помогут Всевышний и Высокая Порта. Эта земля — твоя, и живущие на ней люди — твои; все мы — верные и покорные слуги султана», — в отчаянии писал дей. Должно быть, тогда-то султан впервые об этой земле и услышал.
Поставки зерна из Египта имели огромную значимость для империи, однако удерживать власть над этой богатейшей провинцией оказалось очень непросто. Мамлюки, бывшие по происхождению в большинстве своем рабами с Кавказа, по-прежнему придерживались системы набора в армию, введенной Ибрагим-пашой в 1520-е годы. К началу XVII века мамлюкские беи обладали таким могуществом, что могли смещать неугодных им османских наместников, и только разногласия и вражда между ними позволяли Порте до поры до времени удерживать хоть какую-то власть над Египтом. В 1740 году, когда самый сильный из беев сместил наместника и заключил его под стражу, Порта попыталась настоять на восстановлении его в должности. Однако этот нерешительный приказ не возымел действия, и тогда из Константинополя прислали нового наместника, Али-пашу, бывшего великого визиря. Выступая перед беями, собравшимися послушать, как читают фирман о его назначении, он сказал:
Я прибыл в Египет не для того, чтобы сеять несогласие между эмирами или вражду между подданными. Моя задача — охранять права всех и каждого. Султан, наш повелитель, поручил мне власть над этими землями — я же, в свою очередь, передаю ее вам. Единственное, что от вас требуется, — не чинить препятствий сбору налогов.
24
Счастливое событие
7 апреля 1789 года, через пятнадцать лет после того, как в Кючук-Кайнарджи был подписан унизительный для Османской империи договор, давший России возможность вмешиваться в ее дела, Абдул-Хамид I скончался от апоплексического удара, и новым султаном стал его племянник Селим. Как и все прочие султаны, всю жизнь до вступления на трон он провел в Клетке, однако был неплохо образован (по стамбульскому радио до сих пор время от времени передают его музыкальные сочинения). На его место в Клетку были посажены его юные племянники Мустафа и Махмуд, позднее вошедшие в историю как Мустафа IV и Махмуд II — впрочем, с ними обходились столь же мягко. Садясь на трон, Селим особо не заблуждался относительно истинного положения дел в государстве.
В конце XVIII века империя больше не страшила врагов боевой мощью. Она продолжала существовать только благодаря великим державам, которые не желали, чтобы она развалилась и была поглощена их собственными соперниками. Когда в 1807 году Наполеон и российский царь Александр I встретились в Тильзите, чтобы поделить мир, они разделили на две части и Османскую империю, так и не договорившись, правда, что делать с Константинополем: Россия хотела видеть его столицей возрожденной Византийской империи, а Франция соглашалась на это разве что в том случае, если к ней перейдут Дарданеллы. Несколько лет спустя французы сожгут Москву, потом российские войска войдут в Париж, а дом Османа как ни в чем не бывало продолжит безраздельно владеть Константинополем.
Во времена наполеоновских войн Турция оказывалась вовлеченной в самые неожиданные союзы — то с Россией, то с Францией. В 1798 году к берегам Италии на помощь врагам Франции направился объединенный русско-османский флот: иными словами, православный русский царь и султан, халиф всех правоверных, объединили силы в поддержку римского папы. В 1805 году турецкие войска при поддержке англичан высадились в Сирии и вернули империи Акру. В 1810 году в Сербии османские власти объединились с райей, крестьянами-христианами, против янычар. В 1826-м они обратились к Египту за помощью в подавлении народного восстания в Греции.[82] Каждый раз совместные военные действия вызывали у союзников Порты одну и ту же реакцию: они восхищались храбростью и боевыми качествами солдат, на чем свет стоит ругали их командиров и в самых мрачных красках описывали систему выучки, организацию и вооружение. «Они наступают беспорядочными группами, атакуют, как придется», — отмечал Райкот в 1699 году. Наполеон называл турок «азиатским сбродом» и, если обстоятельства не вынуждали его искать союза с империей, мог вывести всех пленных в поле и расстрелять, как это было под Акрой. В 1805 году англичане грозились пройти через Дарданеллы и явиться в Босфор, чтобы убедить турецкое правительство в нежелательности союза с Францией. Французский советник в Константинополе тут же озаботился состоянием артиллерии босфорских крепостей, а великий визирь лишь велел выкрасить стены в белый цвет, чтобы у врагов сложилось впечатление, что их недавно отремонтировали и там все в полном порядке.
Селим распорядился поднять из архива кипу докладных записок о причинах упадка в государстве и возобновил имевшую давние традиции переписку с французским монархом. Неверно было бы утверждать, что до этого за весь XVIII век в империи не предпринималось ни единой попытки реформ. Например, граф Бонневаль, прибывший ко двору в 1729 году, в 1731-м предложил провести реформу в артиллерийских войсках; благодаря его стараниям в 1734 году была открыта школа геометрии — однако вскоре ее пришлось закрыть из-за недовольства янычар (по некоторым сведениям, школа возобновила деятельность в 1759-м, хотя на этот раз без широкой огласки). В 1773 году французский офицер барон де Тотт и шотландский вероотступник Кэмпбелл (известный в Константинополе как Англичанин Мустафа) основали математическую школу для моряков. Одним из первых действий Селима было учреждение нового артиллерийского корпуса по проекту барона де Тотта. Попытки насадить муштру и дисциплину встречали со стороны янычар упорное сопротивление, поэтому Селим начал создавать пехотное войско нового строя, командовать которым были приглашены офицеры-европейцы — и даже экипировано это войско было на европейский манер.
Султан не был ни дураком, ни трусом, но ему пришлось серьезно призадуматься, когда 20 июля 1806 года командиры традиционной армии при поддержке духовенства подняли бунт в Эдирне. Войска нового строя были выведены из-под командования европейцев, во главе их был поставлен один из бунтовщиков, Алемдар Мустафа-паша. Год спустя янычары и ученики медресе ворвались во дворец, и султан отдал толпе на растерзание семнадцать офицеров нового войска. Головы несчастных были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение у дворцовых стен, но и такой жертвы в который раз оказалось недостаточно. 29 мая 1807 года великий муфтий в ответ на обращение мятежников издал фетву, разрешающую низложить султана. Бедный Селим вернулся в заточение, а султаном был объявлен Мустафа IV, уже успевший повредиться в уме. И снова бешеные толпы янычар носились по улицам, убивая всякого, кто продолжал носить форму нового образца, и безнаказанно занимаясь грабежами.
Но за два года, проведенные с остатками войска нового строя на Дунае, Алемдар Мустафа-паша успел переменить свои взгляды и сам стал сторонником реформ. Его армия вошла в Константинополь 1 июля 1808 года, взяла столицу под контроль, а 7 июля окружила дворец, и Алемдар потребовал восстановить на троне Селима III. Пусть Мустафа IV и был безумцем, он все же сообразил, что сохранить власть сможет, лишь оставшись единственным живым потомком Османа мужского пола. Селим отчаянно защищался, но был зарезан в покоях своей матери главой черных евнухов и его подчиненными. Когда Алемдар прорвался во второй двор, крича, что ему нужен султан Селим, навстречу ему вышел Мустафа и хладнокровно приказал своим слугам показать Алемдару мертвое тело. Должно быть, Мустафа полагал, что и Махмуд убит, как он приказывал; но, когда солдаты Алемдара схватили султана, его младший брат выбрался из своего укрытия, живой и невредимый. Великого муфтия убедили дать фетву о низложении Мустафы, и Махмуд II, которому в то время было двадцать три года, был провозглашен султаном.
Целых восемнадцать лет Махмуд выжидал и готовил почву для того, чтобы положить конец бесчинствам янычар. Год за годом он потихоньку назначал на высшие должности проверенных людей — сам ага янычар был его сторонником. Был создан и вымуштрован на западный манер не имеющий отношения к янычарским полкам артиллерийский корпус. Кроме того, за эти восемнадцать лет Махмуду удалось подорвать власть надменных аянов Анатолии и Балкан, удачно воспользовавшись чередой случайных смертей, вспышками семейной вражды и судебной властью. У ворот Топкапы аккуратным полукругом были выставлены головы владыки Албании Али-паши и его сыновей.
Алемдар, спаситель, приверженец и первый великий визирь султана, прожил недолго. В ноябре 1808 года, меньше чем через пять месяцев после трагических событий в Константинополе, он был убит во время очередного мятежа янычар. Попытавшись возобновить реформы Селима, он задумал создать еще одно войско современного типа — «Секбан-и Джедид». Янычары не собирались с этим мириться; когда они осадили резиденцию великого визиря, тот укрылся в пороховом погребе и погиб вместе с множеством других людей, когда погреб взорвался. При поддержке флота части «Секбан-и Джедида» попытались оттеснить бунтовщиков от Топкапы. Неприцельная пальба с кораблей, стоявших в Золотом Роге, не очень-то напугала янычар, зато загорелось множество домов, в результате чего погибли тысячи людей. При поддержке разъяренной толпы янычары окружили дворец и к тому же перекрыли подачу туда воды. В этот критический момент Махмуд последовал недавнему примеру брата и велел задушить Мустафу, после чего в качестве единственного живого представителя дома Османа при посредничестве улемы подписал договор с янычарами: султан сохраняет власть, но обязуется расформировать «Секбан-и Джедид», солдатам которого была обещана полная неприкосновенность. Однако стоило им выйти за ворота дворца, как их тут же изрубили на куски; были убиты и многие представители знати, выступавшие в их поддержку.
После свержения Селима и действий Алемдара большая часть улемы встала на сторону янычар, предпочитая реакционную анархию обновлению и реформам. Однако к 1826 году янычарам удалось настроить против себя и этих влиятельных союзников; теперь их ненавидели все, даже простые горожане. Янычары грабили лавочников, если те не хотели им платить, открывали собственные лавки и заставляли поставщиков продавать им товар по смехотворно низким ценам; силой монополизировали уважаемые ремесла и превращали их в средство для вымогательства: скажем, продавали сотню кирпичей по цене тысячи. Для них не было ничего святого. На Пасху они расстилали на улицах плащи и требовали у христиан плату за проход по ним. По пятницам, когда правоверные направлялись к мечети, они горланили неподалеку похабные песни под гитару, а однажды ограбили самого кадия Стамбула. Янычары поджигали дома, выносили вещи и насиловали женщин, совершали рейды по окрестностям столицы и нападали на деревни, словно разбойничья орда. И при всем этом они и воевать-то толком не умели, проигрывая в сражениях не только современным армиям, но даже мятежным грекам.
Долгая борьба с греками, начавшаяся в городе Миссолонги в 1822 году и закончившаяся в 1826-м, стала кульминацией сорока лет анархии и репрессий на Балканах. Первыми в 1804 году знамя восстания подняли сербы во главе с Карагеоргием, хотя справедливости ради стоит отметить, что его поддерживало турецкое правительство — по крайней мере вначале. Блистательной Порте не терпелось покончить с янычарской хунтой, которая обосновалась в Белграде и захватила власть над Сербией. В последней четверти XVIII века идея поднять народы Балкан на восстание против турецкого ига обрела в Европе множество сторонников — среди поклонников Великой французской революции, среди филэллинов вроде Байрона, и в особенности в России, где придворные круги долго лелеяли надежду создать православную империю под покровительством российского самодержца, а может быть, даже русско-византийскую империю со столицей в Константинополе. Эта идея настолько завладела Екатериной Великой, что та приставила к внуку Константину учителя греческого — когда потомки византийцев попросят их возглавить, царевич должен быть к этому полностью готов. Как бы то ни было, в 1771 году попытка России разжечь восстание в Греции провалилась: греки, по мнению русских, оказались не способны воевать, а русские, по мнению греков, не оказали им должной поддержки. После резни, жертвами которой стали тысячи мусульман, русские и вовсе самоустранились, оставив Грецию на милость карателей-албанцев.
Во время наполеоновских войн Османская империя металась между одинаково невыгодными для нее союзами, меж тем как все воюющие стороны норовили отхватить куски от ее окраин. В 1798 году в Египет вторглись французы; едва Мухаммед Али сумел с ними справиться, как англичане ясно дали понять, что тоже имеют виды на эти территории. Французам досталась часть побережья Далмации; Ионические острова на западе Эгейского моря в течение пятидесяти лет оставались под протекторатом Англии;[83] а русские вторглись в дунайские княжества и оказали поддержку требованиям мятежных сербов, которые в 1812 году, заключая с Портой мир, смогли выторговать себе автономию. Революционные надежды — славы, равенства, лучшего будущего для своей страны — распространялись благодаря активной пропаганде мятежников; росло национальное самосознание, игравшее все большую роль в народных восстаниях. Ожили надежды греков. «Этерия» стала первой из подпольных организаций, размножившихся на Балканах в XIX веке; самой известной из них была «Млада Босна» — террористическая группа, к которой принадлежал Таврило Принцип, совершивший в 1914 году роковой выстрел в Сараеве.
Самой удивительной чертой османской государственной системы было полное неприятие идеи самоидентификации человека по национальному признаку. Османская империя не знала национальных различий — собственно говоря, их зачастую очень непросто было установить. Язык был для этого весьма ненадежным признаком. Жители Корицы, к примеру, внешне все были похожи, жили в одинаковых круглых хижинах и носили одинаковые синие наряды — но при этом одни из них говорили по-гречески, другие по-валашски, а третьи — по-албански. Поскольку турецкий и греческий были единственными государственными языками, в Константинополе часто встречались албанские семьи, говорившие исключительно по-турецки, и болгарские семьи, знавшие только греческий. Внешний облик ничего не значил. Южные албанцы походили больше на греков, чем своих северных родичей, но разговаривали на том же албанском, а греки, когда наконец добились независимости, признали своей национальной одеждой албанский наряд, которым так восхищался Байрон. Человека, полагали османы, творит воспитание, а не принадлежность к той или иной национальности, которая сплошь и рядом определялась совершенно произвольно. Как сухо писал один европеец, «такое впечатление, что, где сойдутся три болгарина, двое обязательно сговорятся против третьего, а этот третий потребует иностранного вмешательства».
Национализм был такой же умозрительной конструкцией, как и концепция османского государства, которое ему суждено было сокрушить. Как только идея национальной независимости овладевала массами, принципы национальной самоидентификации создавались прямо на ходу из причудливой мешанины самых разнообразных ингредиентов. История, религия, представления среднего класса о нормах морали, разбойничьи представления о чести, апатия османских властей, иностранное вмешательство, боевая доблесть, деятельные тираны, ленивые паши, ретивые профессора филологии, жадность, отчаяние, бестолковый юношеский героизм… Албанцы, едва не опоздавшие почувствовать себя единой нацией, весьма вовремя, незадолго до Первой мировой войны, воспользовались помощью филологов и полузабытых народных героев — а ведь еще чуть-чуть, и Албания была бы полностью поглощена Сербией и Грецией. Болгары самодовольно провозгласили стиль османской архитектуры конца XIX века «стилем национального возрождения». Почти каждый, кто бывал в независимой Греции, сокрушался о том, что греки умудрились позаимствовать и у Запада, и у турок все самое дурное. Политические системы в новых государствах, как правило, получались довольно уродливыми. Крестьяне, как и предсказывал Уркварт, теперь испытывали на себе гнет закона, заменившего произвол османских властей и разбойников. Монархов экспортировали из Германии: немецким аристократам предстояло править подданными, не принимавшими их манеру поведения и говорящими на непонятном им языке.
Как бы то ни было, первым об иностранном вмешательстве попросил сам Махмуд. Официально Египет по-прежнему оставался в составе империи, и управлял им в обычной имперской манере хитроумный албанец Мухаммед Али. Однако во время его правления страна коренным образом изменилась: в двадцатые годы XIX века Египет стал самой прогрессивной и экономически развитой страной Ближнего Востока. В 1801 году Али изгнал французов, через пять лет дал отпор англичанам, в 1811-м сломал хребет египетской знати и подавил восстание ваххабитов. Все это очень нравилось духовенству, которое ненавидело неверных, с большим подозрением относилось к мамлюкам и негодовало по поводу того, что ваххабиты захватили Мекку и Медину. Но Мухаммед Али на этом не остановился. Три года Египет находился под французской оккупацией, и за это время французская административная система успела зарекомендовать себя поразительно эффективной по османским меркам. Успешно сосредоточив в своих руках доходы богатой страны и не испытывая опасений по поводу возможности вмешательства Константинополя, Мухаммед Али приступил к модернизации и европеизации Египта. Поскольку египетская армия реформироваться не желала, в 1823 году он начал создавать новую армию, набиравшуюся из крестьян-феллахов, которых обучали французские офицеры, оставшиеся в стране после египетской авантюры Наполеона. Национальная армия — явление, доселе невиданное в Османской империи, — вскоре, в 1925 году, проявила свои достоинства в Греции под командованием Ибрагим-паши, сына Мухаммеда Али, на третий год боевых действий под Миссолонги. Посрамив прогнозы греческих мореходов, уверявших, что египтянам ни за что не пересечь море зимой, Ибрагим высадился в Метони, на юге Пелопоннесского полуострова, с десятью тысячами всадников и артиллерией. Греческие мятежники были обращены в бегство. Затем Ибрагим пересек Коринфский залив, и в апреле 1826 года египтяне положили конец долгой обороне Миссолонги, города, где в 1824 году умер Байрон.
После этого вполне логично было предположить, что с греческим бунтом покончено. Теперь Махмуду нужно было разобраться со своими могучими египетскими вассалами и обзавестись такой же современной и дисциплинированной армией, как у них. В мае 1826 года великий визирь, ведущие правоведы и высшие чины армии, встретившись в доме великого муфтия, составили указ, предусматривавший серьезные преобразования в янычарском войске. Великий визирь, который сам был старым заслуженным военным, яркими красками живописал удручающую ситуацию, сложившуюся в корпусе, который переполнен авантюристами и греками и боится войны как огня. Вера янычар, осторожно добавил он, слаба, боевой духа гази в них умер, они ни во что не ставят старинные законы дисциплины. Обвинения такого рода могла подержать даже улема. Так что когда указ был прочитан вслух (а речь в нем шла о ежедневных молитвах, дисциплине, регулярных учениях, мерах наказания, пенсиях, правилах повышения по службе, численности и структуре корпуса, и в заключение говорилось, что все злонамеренные люди и слепцы, которые рискнут оказать сопротивление воле султана, будут наказаны), великий муфтий воскликнул: «Да, и притом жестоко!»
Офицеры, выстроенные во дворе резиденции аги янычар, чтобы поставить свои подписи на документе и принести присягу верности султану, сделали это с показным энтузиазмом после нескольких мгновений зловещей тишины. Едва первое реорганизованное подразделение приступило к учениям, как среди янычар начало зреть восстание, которое сложно было не предвидеть с самого начала. К солдатам готовы были присоединиться многие офицеры из тех, что поставили подписи под указом. Если мятеж не вспыхнул сразу, то лишь потому, что по янычарской традиции всякое восстание начиналось с переворачивания котлов.
Прошел месяц. В ночь на 15 июня 1826 года, за три дня до того, как войска по приказу султана должны были пройти перед ним, одетые в форму западного образца и маршируя на европейский манер, заговорщики начали объединяться в группы по два-три человека и направляться на Ипподром. Из казарм притащили котлы и сложили их в кучу. Утром с Ипподрома хлынула огромная толпа, янычары растеклись по улицам, требуя кровавого возмездия. Великому визирю передали, что солдаты отказываются выполнять «упражнения неверных» и требуют обезглавить причастных к составлению указа (похоже, уже одно лишь зрелище сооруженной из котлов пирамиды вселило в бунтовщиков полную уверенность в победе). В ответ глава правительства сказал только, что Аллах их покарает.
Махмуду постоянно докладывали о развитии событий, и вскоре он вернулся из летнего дворца на Босфоре в Топкапы, где его встретили паши и улема, в один голос кричавшие: «Победа или смерть!» Махмуд собственноручно развернул знамя Пророка, меж тем как по всей столице, вплоть до Перы и Ускюдара, были разосланы глашатаи, сообщавшие народу, что султан призывает всех подданных оказать ему помощь. Впрочем, это было уже излишне. В первом дворе дворца едва не вспыхнул бунт, когда очередные добровольцы обнаружили, что все оружие уже было роздано ученикам медресе.
Появление знамени Пророка обеспокоило янычар, и они выслали группу офицеров, чтобы те попробовали обговорить условия, на которых султан готов их простить, а также перегородили все подходы к Ипподрому. Великий визирь не принял делегацию; у источника Хорхор группу бунтовщиков обстреляли из двух пушек крупной картечью. Бунтовщики ринулись на Ипподром, а оттуда в казармы, где забаррикадировались, подперев двери тяжелыми камнями и оставив своих менее расторопных товарищей снаружи. Неизвестно, насколько жесткой реакции ожидали янычары от властей, потому что никто из них не пережил артиллерийского обстрела, обрушившегося на ворота казарм. Вскоре все здание было в огне, и те, кто не погиб от ядер и картечи, сгорели заживо.
Но многие янычары продолжали прятаться в различных частях города. Говорят, некоторые из них укрылись в топках константинопольских бань,[84] куда им тайком проносили еду убежденные в их правоте доброхоты. Другие нашли приют в Белградском лесу неподалеку от Константинополя, названном так, потому что некогда Мехмед Завоеватель поселил в тех местах множество сербов. Преданные правительству офицеры в гражданской одежде ходили по городу и указывали палачам переодетых янычар. Сотни тел были свалены под Янычарское дерево на Ипподроме. Чтобы выкурить мятежников, выжгли часть Белградского леса. Только в первый день было убито около десяти тысяч человек. В городе было введено военное положение, а 16 июня 1826 года диван издал указ, полностью упразднявший янычарский корпус, — его читали с мимбаров во время полуденной молитвы. В провинции были посланы конные татары, передавшие наместникам приказ конфисковать как государственную собственность все котлы янычарских полков и изгнать всех янычар из пределов империи. Под запретом оказалось само слово «янычар».
Янычарские могильные камни, увенчанные горделивым тюрбаном, были повалены. Около тысячи человек было казнено, в том числе известные разбойники и вожаки восставших, но простые янычары в основном уцелели, стараясь держаться как можно более незаметно. В тридцатые годы XIX века английский врач Аддисон видел нескольких бывших янычар, решившихся рассказать о своем прошлом, в доме для умалишенных. Много лет спустя еще один янычар жил в Дамаске, зарабатывая на хлеб изготовлением тростей — одну он каждый год дарил наместнику. По его словам, он прожил на свете сто пятьдесят лет. Старик отлично помнил свое прошлое вплоть до 1826 года, но после этого не мог вспомнить решительно ничего.
В благодарность за поддержку, оказанную султану, улема получила новую мечеть; великий муфтий стал владельцем бывшего дворца аги янычар; дервишский орден Бекташи был распущен — по крайней мере официально. Старинные текке, обители дервишей, были превращены в мечети, а сами дервиши либо подверглись изгнанию, либо примкнули к другим еретическим движениям. В конечном счете это не пошло на пользу Османской империи: суфии, как правило, проповедовали безразличие к тяготам этого мира, так что в целом их влияние на народ было умиротворяющим.
По иронии судьбы другим результатом «счастливого события», то есть упразднения янычарского корпуса, стало освобождение Греции. Ввод египетских войск в Грецию подтолкнул европейские державы к вмешательству в конфликт. 20 октября 1827 года в Наваринском сражении у побережья Пелопоннеса султан, у которого не было даже слабого подобия армии, потерял еще и флот. Теперь, когда стало ясно, с какой легкостью союзники могут напугать султана (русские вторглись одновременно в Восточную Анатолию и Фракию и взяли Эдирне в августе 1829 года), обретение греками независимости стало неизбежным. В 1830 году Греция была объявлена независимым государством под протекторатом западных держав, а в 1833-м стала королевством.
После этого великий «восточный вопрос» был сформулирован окончательно. Россия всегда хотела продвинуться в южном направлении, мечтая создать флот на теплых морях, причем эта перспектива не радовала никого, кроме самой России. Главной целью Австрии было защитить собственную многоязычную империю в Центральной Европе (позже эта политика превратит Венгрию и Боснию в оплот австрийского влияния). Притязания Наполеона на восточную часть Средиземноморья, где Франция надеялась воспользоваться своими традиционными торговыми связями, пробудили в Англии опасения относительно безопасности своих сухопутных коммуникаций с Индией. Обе страны понимали, какую пользу могут в случае чего принести союзные государства, созданные по египетскому или греческому образцу, — государства достаточно маленькие, чтобы можно было легко оказывать на них влияние, достаточно разношерстные, чтобы поддерживать в регионе систему сдержек и противовесов, и достаточно европеизированные, чтобы обеспечить рынки сбыта для западной промышленности. После победоносного похода русских по Молдавии и вторжения во Фракию только сопротивление Англии и Франции помешало России утвердить полную гегемонию на Балканах. В 1830 году Греция получила независимость, Молдавии, Валахии и Сербии была дарована автономия, а России пришлось ограничиться Бессарабией.
В качестве вознаграждения за помощь Порте Мухаммед Али выдвинул непомерные требования, которые та по слабости своей не могла не удовлетворить, хотя и сделала это с великой неохотой. Правитель Египта не только радикальным образом реформировал армию, но и модернизировал административную систему, поспособствовал развитию новых отраслей промышленности и конфисковал землю у мамлюков и вакфов. Эту землю государство потом раздало крестьянам, указав, какие культуры и как выращивать. Мухаммед Али хотел, чтобы египетские товары поступали на европейские рынки; он открыл египетское общество западным влияниям: посылал студентов учиться в Европу и создал новую, светскую систему образования. Его успехи вдохновляли Махмуда, так что в какой-то момент стало казаться, что эти два правителя соревнуются, кто быстрее европеизирует подвластные им народы. Однако западному представлению о национальном государстве соответствовал один лишь Египет.
Летом 1832 года египетская армия под командованием Ибрагим-паши захватила Сирию и Палестину, а в начале 1833 года двинулась к Константинополю, чтобы вынудить Махмуда принять требования Мухаммеда Али. Султан обратился за помощью к единственной державе, которая могла противостоять Египту, — к своему злейшему врагу, Российской империи. Весной 1833 года русские войска заняли Константинополь, чтобы обеспечить оборону города. Ибрагим удовлетворился договором, по которому он и его отец сохраняли власть над Ближним Востоком; Россия добилась соглашения, по которому в случае войны Босфор оказывался закрытым для европейских военных судов, что очень обеспокоило Францию и Англию. Эти события породили долгое эхо, напоминавшее о себе вплоть до самого конца существования Османской империи.
25
Банкрот
В 1838 году, обращаясь к первокурсникам медицинского училища, султан заявил: «Я повелел учить вас французскому языку не потому, что желаю, чтобы вы знали французский. Мне нужно, чтобы вы овладели научной медициной и постепенно переложили ее на наш язык». И действительно, казалось, что султан властен даже над языком и способен отделить его от идей, которые тот выражает. После уничтожения янычарского войска Махмуд получил возможность проводить любые реформы, какие захочет. Располагая верным артиллерийским корпусом, он больше не боялся гнева толпы, которую можно было рассеять одним-единственным залпом картечи. Вырвав таким образом зубы улеме, Махмуд начал брать под контроль благотворительные фонды — ни о чем подобном султаны и подумать не могли со времен Мехмеда Завоевателя. Конечно, Махмуд не стал переводить имущество вакфов в казну — для начала он поставил их на учет и ввел централизованную систему сбора их доходов. К концу 1826 года единственным бастионом древних привилегий оставалась власть самого султана.
Однако, как отметил граф Гельмут фон Мольтке, приглашенный из Пруссии в 1835 году в качестве военного советника, одно дело — снести старое здание, и совсем другое — возвести на его месте новое, приемлемое для всех групп влияния, наседавших на османский режим: для улемы, европейских держав, беспокойных религиозных меньшинств, торговцев, землевладельцев, националистов… «Ему необходимо было расчистить место, прежде чем приступать к строительству, — писал фон Мольтке. — Первую часть этой грандиозной задачи султан выполнил с величайшей проницательностью и решимостью; выполнить вторую ему не удалось». И вряд ли здесь есть чему удивляться. У всех были свои планы относительно расчищенного для строительства места, и если обернуться назад, то казалось, что прежнее здание, ветхое и расползшееся во все стороны неуклюжими пристройками, было совсем не так уж плохо и жить там было куда уютнее, чем в любом из строений, возникших на его месте.
Современник фон Мольтке Огастес Слейд[85] изложил доводы против реформ: «До сих пор османец не платил правительству ничего, кроме скромного земельного налога, хотя порой и сталкивался с вымогательством, которое можно уподобить налогу на имущество. Он не платил десятину, поскольку исламское духовенство жило на доходы вакфов. Он ездил куда хотел без паспорта, не имея дела ни с таможенными чиновниками, ни с полицией. Его жилище было неприкосновенно. У него не отнимали сыновей, чтобы забрать их в армию, пока не начиналась война. Его честолюбие не было ограничено ни происхождением, ни материальным положением: начав с самых низов, он мог дослужиться до звания паши, а если умел читать — то до должности великого визиря. Его способности открывали ему дорогу на высшие этажи власти. Разве не эти самые преимущества так ценимы свободными нациями?»
Несомненно, планы султана превосходили возможности его подданных, которым предстояло претворять их в жизнь. В 1821 году, когда все греки были под подозрением, власти казнили драгомана Порты и стали подыскивать на его место (которое до тех пор всегда занимали фанариоты) мусульманина. Сложность, однако, заключалась в том, что этот мусульманин должен был знать хотя бы один иностранный язык. Непрочитанная дипломатическая корреспонденция копилась несколько недель, пока на должность наконец не назначили вероотступника, ставшего родоначальником целой династии драгоманов. Махмуду необходимо было начинать с образования, которое до тех пор находилось в руках улемы и имело строго религиозный характер. Не бросая открытый вызов системе медресе, султан открыл ряд начальных и средних школ, дающих светское образование, и несколько технических училищ для их выпускников.
Европеизация противоречила всем впитанным с молоком матери убеждениям мусульманских подданных султана. Попытки реформ, предпринимавшиеся на протяжении жизни двух поколений начиная с Селима II, привели к появлению некоторого количества людей, понимающих, как устроена жизнь на Западе — без этого вся затея Махмуда была бы обречена на полную неудачу; однако фон Мольтке вскоре обнаружил, сколь скудным был этот ресурс. «Турок готов признать, не колеблясь ни секунды, что европейцы превосходят его нацию в развитии наук, в богатстве, силе и храбрости, но ему даже в голову не придет, что по этой причине франк может считаться ровней мусульманину. Полковники уступали нам старшинство, офицеры еще оставались достаточно вежливыми, но обычные люди не проявляли к нам никакого уважения, а женщины и дети порой осыпали нас бранью. Солдаты подчинялись, но не отдавали честь».
Махмуд II начал реорганизовывать правительство, превращая его в бюрократический аппарат с тем, чтобы на смену могущественным сановникам пришли обезличенные и, соответственно, менее самостоятельные ведомства и комитеты. Великий муфтий был поставлен во главе управления духовных дел, и теперь все его фетвы составляла особая комиссия. Улему не подпускали к управлению новыми школами — они находились в ведении нового министерства образования. Судебная система подчинялась новому министерству юстиции. Даже пост великого визиря был на время упразднен — пока султан не понял, что он может быть весьма полезен в качестве громоотвода для народного недовольства, вызванного непопулярными мерами.
Махмуд умер 1 июля 1839 года, в разгар так называемого Восточного кризиса: Ибрагим-паша разбил османскую армию в Сирии, и Мухаммед Али объявил, что отныне будет править Египтом как независимый суверен. Шестнадцатилетнему наследнику Махмуда Абдул-Меджиду предстояло поставить внутреннюю политику империи в зависимость от воли великих держав, что впоследствии так угнетало его детей — четырех последних османских султанов. В 1839 году в обмен на ультиматум, выдвинутый державами Мухаммеду Али (ему предлагалось удовольствоваться титулом наследственного наместника Египта), султан издал Гюльханейский хатт-и-шериф («священный указ») — эдикт о реформах, оглашенный в одном из павильонов нижних садов Топкапы в присутствии министров и иностранных послов. Хатти-шериф гарантировал неприкосновенность жизни, собственности и достоинства всех подданных империи, отмену откупного налогообложения, всеобщую воинскую обязанность, честное и открытое судопроизводство и равенство всех перед законом. Составители документа даже осмелились использовать слово «нововведение», которое было ненавистно религиозным фанатикам, ибо разве не сказал Пророк, что «всякое нововведение есть ошибка, а каждая ошибка ведет в адское пламя»?
Иностранные союзники султана перешли к действиям: в 1840 году англичане изгнали Ибрагим-пашу из Сирии и подвергли обстрелу Александрию. Мухаммед Али вывел войска с Крита и из Аравии, согласился на титул наследственного наместника и вскоре, весной 1849 года, умер — через несколько месяцев после своего сына Ибрагим-паши. В 1850 году его внук Аббас Хильми встретился с султаном на Родосе и принес ему клятву верности. Четыре года спустя кризис случился на другой окраине империи: русские отказались вывести войска из дунайских княжеств, оккупированных в 1848-м. Памятуя о стремлении Российской империи к господству над Черным морем и проливами, Англия и Франция вступили в союз с Портой и объявили русским войну. Война эта, вошедшая в историю как Крымская, завершилась 30 марта 1856 года заключением Парижского мирного договора, который незначительно изменил границы и обязал все подписавшие его стороны «уважать независимость и территориальную целостность Османской империи». На бумаге это выглядело гораздо более великодушно, чем условия договора, примерно в то же время навязанного западными странами другой обветшавшей империи — Китайской. Однако Китай тогда еще не стал ареной соперничества между великими державами; кроме того, он не был настолько скован экономическими требованиями Запада, как Османская империя, которая была в долгу как в шелку. Расходы на войну и реформы Танзимата, а также любовь Абдул-Меджида к роскошным дворцам и празднествам вынудили империю сделать ряд разорительных займов на европейских рынках.
Хотя Уркварт однажды и познакомился с одним престарелым албанским беем, который уверял, что рад переменам, и корпел над французским, подавляющее большинство людей, воспитанных в мусульманских традициях, реформы шокировали. Централизация власти в условиях растущей дороговизны (а представителям европеизированной элиты полагалось иметь гостиный гарнитур, ездить в карете и носить сшитые по мерке костюмы) неизбежно вела к усилению коррупции. Новая форма одежды не просто оскорбляла вкус благочестивых мусульман. Начиная с 1829 года только представителям улемы было позволено носить халат и тюрбан — но ведь тюрбан был отличительным признаком правоверного, и теперь люди на улицах не знали, кто есть кто, и не могли приветствовать друг друга, не опасаясь совершить богохульство. Со стороны новая картина жизни казалась более упорядоченной и стройной, но на самом деле была полна внутреннего смятения и замешательства. Гости из-за границы продолжали писать о величайшей вежливости и врожденных хороших манерах местных жителей («Джентльмен ведет себя по отношению к другому джентльмену с такой предупредительностью, с какой в Европе он вел бы себя по отношению к даме») — однако чем дальше, чем чаще они отмечали, что все это верно скорее для старшего поколения (и совсем неверно для греков).
Некоторые политические реформы проводились из самых лучших побуждений, другие — просто для отвода глаз; за пределами Стамбула и те и другие часто игнорировались, неправильно истолковывались или оказывались совершенно неосуществимыми. Концепция равенства всех людей перед законом вне зависимости от вероисповедания не имела смысла в традиционной исламской картине мира и лишь пошатнула авторитет властей. В 1814 году Генри Холланд был счастлив получить от Али-паши паспорт с устрашающей надписью «Поступай по сему, иначе будешь пожран Змеем»: он, как и сам Али-паша, понимал, что это документ необычный, но действенный, и он в самом деле помог путешественнику добраться до Монастира. Однако Эдвард Лир, в 1848 году набивший карманы целой кипой официальных паспортов и рекомендательных писем, чтобы проехать по Албании, вскоре обнаружил, что достаточно показывать любую бумажку, «хоть счет из отеля миссис Дансфорд на Мальте». Работе наиболее либеральных институтов постоянно препятствовали самовластные действия султана. Всякого, кто слишком буквально воспринимал реформистскую риторику и чересчур рьяно брался за дело, забывая, где он находится, неминуемо ждало наказание — ссылка. Выросло целое поколение людей, осознанно напичканных западными идеями, но вынужденных постоянно делить их на приемлемые и опасные, и интуитивно определять, какой приказ действительно следует исполнять, а какой — не более чем пустые прекраснодушные словеса.
Когда империя открылась реформам, в ней начали строить башни с часами, пытаясь таким образом привить османской цивилизации пунктуальность и точность успешного Запада. Эти огромные башни, символ османских реформ, стоят, одинокие, словно маяки, в каждом крупном городе бывшей империи. Очень часто их возводили рядом с мечетью или на той же площади, но по другую сторону. Была в них какая-то двусмысленность, ибо строили их по большей части архитекторы из армянского семейства Бальянов, создатели всех новых султанских дворцов, и другие армяне, их помощники, так что в башнях этих отчасти отразилась двусмысленность отношений между армянами и османами. Армяне были не только народом без собственной страны, но и единственным христианским народом, не имеющим полезных связей в христианском мире; религия и обычаи не давали им стать полноценными османами, и при этом у них не было защитников за рубежом.
Некоторые из возведенных Вальянами часовых башен напоминают минареты, другие — пагоды, но в большинстве своем они похожи на колокольни. Одни построены из дерева, другие, толстые и тяжелые, — из камня; есть такие, что водружены на строения предыдущих эпох — например, на Ворота Кёпрюлю в Стамбуле или на медресе XV века в Мерзифоне. Сами часы нередко выглядят так, будто о них вспомнили в самый последний момент (круглый циферблат вставлен в квадратное отверстие) или напоминают остроконечный гриб, выросший на стенке колодца. И какие бы кусочки османской архитектуры ни были приделаны к этим башням, ни одна из них к ней не принадлежит — и меньше всего общего у них с теми самыми мечетями, вблизи которых их так часто строили. Они стоят рядом, но порознь, словно глухонемой палач и паша, которого он пришел удушить.
Чем больше усилий прилагала империя к тому, чтобы секуляризировать время, чтобы оно измерялось по-новому и было доступно для всех, тем безвозвратнее она теряла свое своеобразие. Чем больше часовых башен строили власти для народа, тем более строптивым и недовольным этот народ становился и тем громче звонил колокол по османскому государству. «Ох уж это турецкое время!» — восклицал Дж. Ф. Фрейзер в 1906 году, ибо попытки измерить время в Османской империи неизбежно наводили на мысли о ее безнадежном отставании. «День начинается с восходом солнца, это 12:00. Однако солнце восходит каждый день в другое время. Поэтому турок, у которого, к счастью, свободного времени полным-полно, регулярно передвигает стрелки своих дешевых австрийских часов, чтобы они шли правильно. Никто никогда точно не знает, который час. Уже одно то, что турки довольствуются таким методом исчисления времени, который просто не может быть точным, если каждый день не переводить все часы в империи, показывает, насколько чужд им один из основополагающих элементов того, что мы называем цивилизацией».
И ничто так наглядно не свидетельствует о потере единства, о появлении частной личности и обособленных институтов и о том, что атмосфера всеобщего смятения, некогда свойственная лишь кратким периодам междуцарствия, теперь господствовала в империи постоянно, как небольшой альманах, в который британский консул в Стамбуле заглянул 9 декабря 1898 года. Он обнаружил, что греки отстают на две недели — по их представлениям, тот день был двадцать седьмым ноября. Болгары и армяне соглашались с греками, но евреи уже давно жили в пятом тысячелетии, а мусульмане — в XIV веке. На дворе был декабрь — или ноябрь, или кислев, или реджеб, или техрен-и-сани. Число — 9-е, 25-е, 26-е или 27-е. По пятницам мусульмане Константинополя прекращали всякую работу, султан отправлялся в мечеть в открытом экипаже.[86] По субботам заполнялись синагоги. В воскресенье все представители балканских народов, живущие в столице, — сербы, болгары и греки, а также европейцы из Перы и армяне посещали свои церкви. А в четверг, на французский манер, был выходной у всех правительственных учреждений. Подобный альманах, подумал консул, пригодится «и паше, и раввину; и тому, кто говорит по-болгарски, и тому, кто говорит по-французски; и тому, кто полагает, что солнце заходит в 4:30, и тому, кто уверен, что полдень наступает в двадцать три минуты восьмого».
XIX столетие не было милостиво к османам. На их города словно опустилась серая пелена, и не было уже ни великолепных зрелищ, ни грандиозных процессий, которые могли бы ее разогнать, поскольку средневековая цеховая система распадалась. Даже султанский двор стал менее ярким и более замкнутым, да и военные, одетые в хаки и фуражки, выглядели далеко не так эффектно, как когда-то.
Как это обычно случается, как раз в это время внешний мир начал осознавать ценность того, что теряет. Государственные мужи вроде Дизраэли полагали, что политике империи свойственны определенная честность и достойный консерватизм. Французские писатели и поэты были заворожены Левантом, воспринимая его, очевидно, как сокровищницу, где хранятся чувства и переживания, изгнанные из рационалистического общества, и ощущая, возможно, как то пристало художникам, родство с миром, в котором богатство внутренней жизни сочеталось с материальной бедностью и полным отсутствием влияния на мировой сцене. Один за другим люди искусства приезжали в Османскую империю, чтобы описать, превознести, истолковать и исказить пейзажи, цвета и костюмы Востока — хотя находились и более трезвомыслящие наблюдатели, воздымавшие в отчаянии руки.
В то время многие уже говорили вслух, что с эстетической точки зрения империя довольно уродлива, что ее стиль — дурная мешанина западных влияний. Ее архитектура свелась к пустым финтифлюшкам. Стамбулин, разновидность европейского сюртука, введенный в обиход в 1820-е годы, смотрелся ужасно: короткие фалды были экономичны, но совершенно неэстетичны, а высокий круглый воротник и узкие рукава делали человека похожим на насекомое. Капитан Нолан, оценивая эффективность деятельности французских военных инструкторов, занимавшихся обучением кавалерии, пришел к выводу, что турецкие всадники лишились своих былых преимуществ, но не овладели новыми: «Люди, привыкшие сидеть скрестив ноги и поджимать колени к животу, будучи облаченными в тесные мундиры и узкие штаны, все время съезжают с седла».
Феска, сделанная в Австрии по образцу тунисского головного убора, была, что называется, ни рыба ни мясо: если намотать на нее несколько метров муслина, мог бы получиться тюрбан, если приделать поля, вышло бы нечто вроде испанской шляпы, — а так это был недоделанный гибрид того и другого. Строительство французской компанией железной дороги вдоль берега Мраморного моря отнюдь не способствовало украшению столицы: в 1888 году французы снесли морские стены Константинополя и вырубили просеку в нижних садах дворца Топкапы. «Беда-то какая! — сказал по этому поводу один старый слуга. — В этой самшитовой роще каждую среду ночью падишах джиннов держал совет со своими подданными. Куда же ему податься теперь?»
Но Топкапы, где в лабиринтах гарема Махмуд II скрывался от озверевших янычар, стал олицетворением всего безумного и прогнившего, что было в унаследованном султаном государстве. Обретя наконец подлинную власть, он твердо решил сбежать из этого кроличьего садка, который, как и янычарское войско, поначалу служил вящему величию султанов, а потом две сотни лет держал их в плену. Махмуд II не скрывал раздражения, сравнивая Топкапы с резиденциями европейских монархов. «Только негодяй или дурак может предпочесть этот дворец, прячущийся за высокими стенами, в темной тени деревьев, словно боится света, тем ярким, веселым зданиям, открытым свежему воздуху, яркому солнечному свету и небу, — говорил он. — Вот в каком дворце я хочу жить».
И султаны принялись возводить один дворец за другим. Стоило это чудовищно дорого, а счастья не приносило, поскольку тяжкое наследие дома Османа следовало за ними, где бы они ни поселились.[87] Все эти дворцы строили архитекторы из армянского семейства Бальянов, среди творений которых, помимо уже упоминавшихся часовых башен, была одна мечеть, сочетающая в себе элементы мавританского и турецкого стилей, готики и архитектуры Возрождения — притом что общее впечатление она производит такое, будто ее построили во Франции времен Империи. Топкапы был окончательно покинут в 1853 году, когда султан перебрался во дворец Долмабахче (285 залов и комнат, самая тяжелая в мире люстра, длина выходящего на Босфор фасада — 600 метров). В 1874 году был построен дворец Чираган. Дворец Йылдыз, комплекс отдельно стоящих павильонов и жилых помещений, строился с перерывами всю середину XIX века. Кючуксу, маленький загородный дворец в стиле рококо, появился неподалеку от Сладких вод Азии в 1857 году. Дворец Бейлербей возвели в 1865 году для весельчака и здоровяка Абдул-Азиза. Но даже этого султана солнечный свет и беззаботный смех радовали недолго: в 1876-м он был свергнут и несколько дней спустя перерезал себе вены ножницами. Это произошло в том самом дворце Чираган, где позже до конца своих дней жил его не задержавшийся на троне преемник, несчастный Мурад V, официально объявленный мертвым в 1884 году, но доживший тем не менее до 1904-го. В конце XIX века его брат, султан Абдул-Хамид II, окончательно перебрался во дворец Йылдыз. Его мучили ночные кошмары, он никогда не расставался с револьвером и пил кофе в домике, точь-в-точь похожем на обычное кафе на улице, — только за всеми столиками сидели его собственные охранники; за ограду дворца он выходил, только если этого никак нельзя было избежать, а его пятничный выезд в мечеть превратился в стремительный бросок — мечеть специально для него построили сразу за воротами.
Расходы османского султана были теперь вопросом международной политики. В 1854 году империя впервые разместила облигации займа на Лондонской бирже, и с того дня держать ответ за расточительство предстояло уже не перед османским крестьянином. Янычар, которые могли бы вслух возмутиться мотовством двора, больше не было. Одни лишь требования мирового рынка облигаций могли сдержать поток безумных трат — и в 1875 году империя была вынуждена объявить себя банкротом. В обмен на реструктуризацию долга иностранные кредиторы потребовали доступа к финансовым и властным рычагам османского государства, настояли на проведении реформ и призвали султана взять под контроль ситуацию в Болгарии, где полыхало перекинувшееся из Боснии восстание, которое с чудовищной жестокостью пытались усмирить печально знаменитые банды турок-башибузуков.
В 1876 году в столице устроили бунт ученики медресе, за которыми, возможно, стояла группировка либерально настроенных министров, возглавляемая Мидхад-пашой, любимцем реформаторов. Абдул-Азиз был смещен фетвой великого муфтия и вскоре покончил жизнь самоубийством.[88] Для нового султана Мурада V, человека хорошо образованного, интересующегося науками и литературой, но много лет прожившего фактически под домашним арестом и питавшего слабость к вину, это стало тяжким потрясением. Его психика и так уже была расшатана, а тут еще эта загадочная смерть и следом — убийство нескольких министров, совершенное пехотным капитаном-черкесом. Через четыре месяца, в разгар войны и внутриполитического кризиса, безумного Мурада V вернули под домашний арест, и 7 сентября 1876 года, незадолго до полуденного намаза, мечом Османа был опоясан Абдул-Хамид II.
Тем временем великие державы провели в Константинополе международную конференцию, призванную выработать соглашение о признании территориальной целостности Османской империи и в обмен на это принудить ее провести реформы. Абдул-Хамид назначил Мидхад-пашу великим визирем, и 19 декабря под пушечный салют было провозглашено принятие конституции, написанной по бельгийскому образцу. Это лишило конференцию всякого смысла, и через несколько недель она прекратила работу. Мидхад-паша задержался на своем посту немногим дольше: едва иностранные дипломаты покинули Константинополь, Абдул-Хамид изгнал его из страны. Хваленая конституция предусматривала создание законодательного собрания, в состав которого входили семьдесят один мусульманин, сорок четыре христианина и четыре еврея. Первое заседание этого парламента состоялось в марте 1877 года, а вскоре грянула война с Россией. 20 января 1878 года русские прорвались через перевал Шипка и взяли Эдирне. Столкнувшись с критикой со стороны депутатов, султан распустил парламент.
После этого движение так называемых молодых османов, которые желали возвращения к истинному исламскому благочестию и не видели никаких противоречий между либеральной демократией и догматами религии, выдохлось и утратило всякий авторитет. Султан был вынужден подписать перемирие в Сан-Стефано — настолько катастрофическое для Османской империи и настолько выгодное для русских, что Британия настояла на его пересмотре, которое и состоялось несколько месяцев спустя в Берлине. И все же для мусульман, даже совсем не фанатично настроенных, все это выглядело так, словно Запад окончательно отвернулся от ислама. Султана на Берлинский конгресс не пригласили — разговор шел между Бисмарком, Дизраэли и Горчаковым. Согласно новому договору, часть Болгарии, Румыния, Сербия и Черногория обрели независимость, а Россия получила земли в Восточной Анатолии (Ардаган, Каре и Батум) и огромную контрибуцию — современный аналог военной добычи. Османская империя в одночасье лишилась почти половины своей территории и пятой части населения.
Абдул-Хамид уцелел в этих непростых обстоятельствах: он вообще был специалистом по выживанию. Своих политических оппонентов он покупал, отправлял в изгнание или сажал в тюрьму, а дело модернизации страны взял в собственные руки. Он признавал пользу наук и образования — до тех пор, пока они не становились опасны для его власти, и, скажем, на полную катушку использовал новоизобретенный телеграф. Элиот писал: «Теперь больше нет необходимости отдавать провинцию на волю губернатора и надеяться, что он вернется в столицу на казнь, ежели это понадобится. С помощью телеграфа можно посылать ему приказы, выяснять, чем он занимается, отчитывать его, отзывать, поощрять его подчиненных к доносам — словом, лишить его реальной власти». Неудивительно, что многие имамы относились к телеграфу с глубоким подозрением и яростно протестовали, когда провода с «голосом шайтана» пытались провести рядом с их мечетями. Увы, именно по телеграфу в 1906 году революционеры прислали султану ультиматум; да и сами телеграфисты, вооруженные не только азбукой Морзе и великолепным французским, но и удивительной осведомленностью о внутренних делах империи, были настроены ну никак не верноподданнически.
Абдул-Хамид установил в стране деспотический режим. Книжка «Швейцарская семья Робинзонов» была запрещена, потому что у собаки Робинзонов была кличка Турок. В одном словаре, изданном в 1905 году, сообщалось, что «тиран» — это название водящейся в Америке птицы. Газетам было запрещено писать про политические убийства: австрийская императрица Елизавета умерла от воспаления легких, французский президент Карно — от апоплексического удара, а король и королева Сербии в 1903 году — от несварения желудка. Сошедший с ума брат и предшественник султана Мурад V жил под арестом во дворце Чираган, но официально было объявлено, что он скончался, после чего его имя запретили упоминать в прессе (вследствие этого нельзя было называть по имени и султанов Мурада I и Мурада II). Пышных церемоний Абдул-Хамид не любил: он вполне мог присесть рядом с гостем на диван и угостить его сигаретой. Он был первым султаном, который принимал женщину-христианку за своим обеденным столом. Он хорошо знал французский, но с иностранцами предпочитал общаться через драгомана. Мнительность его была так велика, что он отказался прийти на выступление Сары Бернар, поскольку она очень убедительно играла смерть, а электрическое освещение было запрещено по всей стране, по всеобщему мнению, из-за того, что султан перепутал слова «динамо» и «динамит».
Но даже электрического света не хватило бы, чтобы разогнать мрак. В 1902 году турецкий поэт Тевфик Фикрет описал гнетущую атмосферу Константинополя в стихотворении «Туман»:
- Снова твои горизонты окутал упрямый туман…
- Укрой лицо и навеки усни, великая блудница мира!
Иностранцам империя представлялась жутковатым, но в высшей степени интересным местом. Ходило множество историй, от которых по коже бежали мурашки: о похищениях женщин, о торговле белыми рабынями, о бледных пальцах, вцепившихся в прутья оконной решетки на верхнем этаже, об ужасных сценах, которые можно увидеть (но лучше не видеть!) безлунной ночью на Босфоре… В Европе появилась целая литература о страшных турках: все желали читать о гаремных наложницах, изнасилованиях, евнухах и слугах, которым вырезали языки, чтобы они не могли поведать какую-нибудь жуткую тайну. В 1848 году, когда Европа была охвачена революциями, один путешественник-немец, переправившись через Дунай, обнаружил, что в Белграде полным-полно изгнанников и беглецов, прячущихся по самым темным улицам. Лира в Химаре представили группе людей, набившихся в большую полутемную комнату. «Когда мы здоровались, трое или четверо из них сжали мою руку весьма необычным образом, и я был поражен тем, насколько одинаково они это сделали. Вскоре я понял, что нахожусь среди людей, которые по той или иной причине бежали сюда из других краев от правосудия».
Последние десятилетия умирающей империи, несомненно, были отмечены всплеском жестокости: наступление эры самодовольного торжества христианства вызывало у мусульман озлобление. Этим, возможно, объясняется сравнительно небольшое количество эмигрирующих в Соединенные Штаты — причем многие возвращались назад.[89] Границы империи сжимались, и вместе с ними приходили в движение люди. Несколько миллионов мусульман перебралось с потерянных территорий во внутренние области империи: крымские татары, черкесы, балканские крестьяне и горожане. Страхи и зависть расцветали пышным цветом. Народные восстания вызывали у турок, привыкших к роли пастырей покорного стада, ужас и растерянность. Следствием этого сплошь и рядом была резня, и власти не предпринимали практически никаких усилий для прекращения кровопролития. Зверства, чинимые турками в те годы, по сей день остаются весьма щекотливой темой, хотя, конечно, жестокость была взаимной. Появление среди дотоле мирных армян протестантских проповедников, распевающих: «Вперед, воины Христа!», перепугало турок, решивших, что их ждет повторение того, что уже было в Болгарии, Греции и Сербии. Ожесточение и боязнь измены спровоцировали погромы. В такой обстановке, когда каждый слух многократно усиливался и воспринимался как святая правда, перепуганные крестьяне становились кровожадными убийцами.
Султан пользовался обстоятельствами к своей собственной выгоде. Когда стало ясно, что западные державы не собираются больше позволять империи «держать в тюрьме» меньшинства (по крайней мере европейские), он избрал новую тактику: объявил себя халифом всех мусульман мира. Обращение к доктрине панисламизма, призванной противостоять панславянской риторике Российской империи, было умным ходом, который обеспокоил не только русских на Черном море, но и англичан в Индии, и французов в Северной Африке, и антиклерикально настроенную европеизированную оппозицию внутри страны. В этой ситуации естественным союзником Абдул-Хамида стал германский кайзер, император без империи. Большая часть османской государственной экономики оказалась в распоряжении немцев, большую часть османской армии отдали под командование немецких офицеров, железные дороги строились на деньги немецких компаний (кроме ветки в Мекку, средства на которую собирались по подписке и которая в то время была единственной в мире железной дорогой, построенной мусульманами на деньги мусульман).
Конец честолюбивым притязаниям султана-халифа положила армия. Среди офицеров нашлось изрядное количество образованных людей с широким кругозором, которые к тому же были так или иначе связаны с коммерсантами и представителями гражданских властей. Армия куда лучше правительства отдавала себе отчет в том, какие ценности она защищает, и куда лучше представляла себе, как именно и где их следует защищать; состояла она по преимуществу из турок и в большинстве своем придерживалась передовых политических взглядов.
В 1908 году группа офицеров расквартированной в Македонии армии подняла восстание в Салониках — городе, который империи предстояло потерять через семь лет. Восставшие называли себя «Обществом единения и прогресса». Их первые успехи вызвали в обществе взрыв восторга. В столице турки, армяне, греки и евреи бросались друг другу в объятия, переполненные надеждами и братскими чувствами. Тевфик Фикрет написал продолжение «Тумана», в котором говорится о «ярких лучах восходящего солнца, проницающих мглу». Осенью 1908 года были проведены выборы, по результатам которых младотурки из «Общества единения и прогресса» получили все, кроме одного, — места в палате представителей.
Некоторые древние традиции оказались весьма живучими даже в век военных хунт и телефонов. «Из одного района Стамбула, — вспоминал Х. Г. Дуайт, — урну с бюллетенями привезли в Блистательную Порту на спине верблюда… Во главе процессии ехала группа людей, представляющих различные народы империи, каждый в костюме своей „страны“. За ними двигалась длинная вереница повозок, в каждой из которых сидели имам и армянский священник, имам и католический священник, имам и греческий священник, имам и раввин…»
Турки-мусульмане тем не менее получили в палате представителей весьма незначительное большинство: у них было 147 мест, у арабов — 60, у албанцев — 27, у греков — 26, у армян — 14, у славян — 10 и у евреев — 4. Через полгода исламисты, тайно поддерживаемые султаном, предприняли попытку переворота. Попытка провалилась: «Общество единения и прогресса» ввело в Константинополь части Третьей армии. 27 апреля 1909 года поспешно собранный на заседание парламент проголосовал за отрешение Абдул-Хамида от власти. Великий муфтий дал необходимую фетву, и пока Абдул-Хамида везли на поезде в Салоники, его брата Мехмеда Решада, мужчину весьма дородного, с некоторым трудом опоясали мечом Османа.
То, что армия играла ключевую роль в политической жизни империи, не страховало ее от неудач на поле боя. В 1911 году Италия оккупировала Ливию. 8 октября 1912 года коалиция балканских государств, в которую входили Греция, Болгария, Сербия и Черногория, начала войну против империи с вторжения в Албанию. Через полгода болгарская армия находилась в шестидесяти километрах от Стамбула, однако вспыхнувший между победителями спор из-за захваченных территорий привел к тому, что 29 июня 1913 года Болгария неожиданно напала на своих недавних союзников. Вторая Балканская война продолжалась всего месяц. Болгария потерпела поражение, и турецкая армия под командованием Энвер-паши, военного лидера «Общества единения и прогресса», вернула империи Эдирне.
Младотурецкое правительство было одновременно прогрессивным, популистским, протурецким и авторитарным. (Женщинам, к примеру, было разрешено учиться в университете, а во всех школах уроки должны были вестись только на турецком языке.) В результате за каждым углом младотуркам мерещились враги: приверженцы традиционного ислама, этнические меньшинства, реакционеры. Правительственная пропаганда пользовалась все меньшим доверием общества, и в конце концов последним средством удержать власть в атмосфере всеобщего разочарования и утраты надежд стали политические репрессии и милитаризм.
Младотурки втянули империю в Первую мировую войну не на той стороне — и, похоже, это было неизбежно: в конце концов, османская армия была сформирована в годы тесной дружбы Абдул-Хамида с Германией, а Энвер-паша, один из трех руководителей «Общества единения и прогресса», обучался военной науке в Берлине. Аннексия Боснии и Герцеговины, совершенная Австрией в 1908 году, побудила Россию, самого опасного врага империи, заключить военный союз с Британией и Францией. Если османская армия была обучена и переоснащена под немецким руководством, то с военно-морским флотом, который имел куда меньшее значение, империи помогали англичане. В самом начале войны они конфисковали два корабля, построенные по заказу османского правительства на британских верфях, хотя деньги за них уже были заплачены и даже их турецкие команды уже прибыли на место. 2 августа 1914 года Османская империя заключила секретный союз с Германией. Впрочем, секретным он оставался недолго. Турция вступила в войну, в которой ей предстояло сражаться с русскими на Кавказе и в Восточной Анатолии, с англичанами в Персидском заливе, Сирии и Палестине, с греками во Фракии. Главным эпизодом войны для турок стала оборона Галлиполи, во время которой погибло 100 тысяч человек и которая породила национальные мифы сразу для двух народов: австралийцы (а на Галлиполи на стороне Антанты сражались в основном они) считают, что именно после этой смертельной ловушки, в которую завлекли их англичане, в них пробудилось национальное самосознание, а турки героически сражались за свою родину под умелым руководством Мустафы Кемаля.
С приближением конца Первой мировой войны становилось все яснее, что империя обречена. 2 июля 1918 года умер от сердечного приступа султан Мехмед V Решад, в октябре пали Дамаск и Бейрут, а 13 ноября 1918 года флот Антанты оккупировал Стамбул в соответствии с условиями перемирия, другим условием которого была безоговорочная капитуляция османской армии.
Греки, вовремя вступившие в войну на стороне победителей, получили на Парижской мирной конференции 1919 года контроль над Измиром и частью Анатолии; к июлю 1920 года греческая армия прошла по Западной Анатолии, взяла Бурсу и оккупировала Фракию. Британия не позволила грекам войти в Константинополь, который по-прежнему был оккупирован союзниками, однако в августе османское правительство было вынуждено подписать Севрский договор, отдававший грекам значительную часть захваченной ими территории и ставивший проливы под международный контроль, подобно Дунаю.
Османское правительство утратило последние остатки авторитета. Тремя месяцами ранее в Анатолии было созвано Великое национальное собрание, избравшее своим председателем Мустафу Кемаля, героя войны и организатора сопротивления грекам. Новое наступление, предпринятое греческой армией в том же 1920 году, встретило решительное сопротивление, а затем Мустафа Кемаль обратил греков в бегство. 13 сентября 1922 года был взят Измир, почти полностью уничтоженный грандиозным пожаром, а 11 октября подписано перемирие, согласно которому лишь статус Стамбула подлежал дальнейшему обсуждению за столом переговоров.
1 ноября 1922 года Великое национальное собрание приняло закон, отделявший султанат от халифата, а вскоре султану Вахидеддину сообщили, что его должность упразднена. Халифом формально объявили принца Абдул-Меджида, однако через два года, после провозглашения республики и переноса столицы в Анкару, был упразднен и халифат.
В 1896 году Эдмондо де Амичис спустился к новому стальному Галатскому мосту, туда, где сегодня турецкие ресторанчики завлекают вас рыбными блюдами, а над головой грохочет поток автомобилей. Туристы заглядывают в баки с рыбой. Юный гарсон, рассеянно глядя в сторону одного из величайших водных путей мира, разрезает новый лимон. Время от времени под мостом вверх по Золотому Рогу проплывает, пыхтя, какой-нибудь буксир или траулер.
Стоя здесь в 1896 году, де Амичис «наблюдал, как весь Константинополь прошел мимо за час».
Женщина-мусульманка с закрытым лицом, гречанка с длинными развевающимися волосами, увенчанными маленькой красной шляпкой, мальтийка в черной фалетте, еврейка в традиционном костюме своего древнего народа, негритянка, закутанная в пеструю каирскую шаль, армянка из Трапезунда, вся в черном — кладбищенский призрак… Затем — сириец в длинном византийском долимане, голова повязана расшитым золотом платком; болгарин в отороченной мехом шапке; грузин в кожаной шапке и в рубахе, схваченной металлическим поясом; грек с эгейских островов, весь в галунах, серебряных кисточках и сияющих пуговицах… Иногда кажется, что толпа несколько поредела — но она тут же накатывает новыми разноцветными волнами с белыми барашками тюрбанов, среди которых можно порой заметить цилиндр, или зонтик, или какую-нибудь европейскую леди, несомую этим мусульманским потоком. Здесь увидишь кожу любого оттенка, от молочно-белой у албанца до угольно-черной у раба из Центральной Африки и иссиня-черной у уроженца Дарфура… Вы пытаетесь получше разглядеть узор, вытатуированный на чьей-нибудь руке, а проводник тем временем обращает ваше внимание на серба, черногорца, влаха, украинского казака, египтянина, тунисца… Наметанный глаз может отличить в этом людском море характерные черты и костюмы Карамании и Анатолии, Кипра и Кандии, Дамаска и Иерусалима, друзов, курдов, маронитов, хорватов… Здесь нет и двух человек, одетых одинаково. Одни укутаны с головы до пят, другие разряжены как дикари: нижние рубашки полосатые или пестрые, словно костюм арлекина, пояса увешаны оружием; мамлюкские штаны, бриджи, туники, тоги, длинные плащи, подметающие землю, шапки, отороченные горностаем, жилеты, расшитые золотом, монашеские хламиды; мужчины, одетые как женщины, женщины, выглядящие как мужчины, и крестьяне с горделивой поступью принцев…
Великолепная пестрота Леванта была неотделима от образа Османской империи — но века хранимого ею мира и разнообразия ушли в прошлое. 4 ноября 1922 года последний султан принял у своих министров печати, служившие верой и правдой шесть сотен лет, а потом, испуганный и оставленный всеми, попросил британские оккупационные власти обеспечить ему безопасный выезд из Стамбула. Он умер в Сан-Ремо 15 мая 1926 года и был похоронен в Дамаске. Последний халиф умер 24 августа 1944 года в Париже и был похоронен в Медине.
ЭПИЛОГ
Сотни лет бродячие собаки бегали по улицам, дрались, дремали на солнышке, заставляя прохожих осторожно переступать через себя или лезть в сточную канаву, чтобы их обойти. Каждый путешественник, начиная с делла Балле, слышал, как они по ночам воют на берегу Перы. Османы считали собак нечистыми животными, однако признавали за ними место в божественном устройстве вселенной и мирились с их повадками. Мясники столетиями продавали благочестивым людям потроха для раздачи собакам, и ощенившаяся сука могла рассчитывать на обед из объедков даже в самых бедных кварталах города. Турки, бывало, включали в завещания распоряжение потратить небольшую сумму на кормежку бездомных собак, а вот греки и армяне нередко украдкой угощали их отравленным мясом.
Собаки поддерживали в османских городах относительную чистоту, превращая пищевые отходы в помет, который собирали дубильщики для нужд своего нездорового и скрытого от чужих глаз ремесла. Байрон утверждал, что своими глазами видел, как две собаки рвут на части мертвое тело под стенами Топкапы; в Бурсе же, этом городе утонченных манер, они уступали роль санитаров шакалам, пробирающимся на улицы по ночам. Торнтон (и не он один) отмечал, что константинопольские собаки, как и сами константинопольцы, весьма привязаны к своему кварталу и никогда не пересекают определенную границу, даже когда преследуют прохожего — «они провожают его до конца своих владений и передают соседней стае». Есть основания полагать, что в конце XIX века только в одном Стамбуле жило 150 тысяч собак: по одной на восемь горожан. Однако они не были привязаны к людям — только к нескольким улицам, которые считали своим домом.
Время от времени мирное течение их жизни нарушали внезапные потрясения. Насух-паша, великий визирь Ахмеда I, «по неведомой причине» приказал перевезти всех собак в Азию на лодках. После потери Буды султанских гончих выгнали на улицы Константинополя, поскольку султан хотел убедить подданных, что покончил с праздностью и охотами. Судьба этих аристократов собачьего рода была тесно связана с судьбой их хозяев-янычар, и наоборот: название, которое великий визирь Алемдар-паша, реформатор, дал в 1807 году своему новому войску, переводится как «вожатые собак». За пределами городских стен собаки, разумеется, работали: взять хотя бы венгерских кондоров или огромных карпатских овчарок. Македонские овчарки, несомненно, были потомками зверюг, растерзавших Еврипида в Пелле, а албанские собаки не признавали над собой ничьей власти и следовали, казалось, тем же суровым горским законам, что и их хозяева. «Первым делом, — рассказывал Дж. Ф. Фрезер о том, как на него напали вблизи Охрида две огромные овчарки, — я вспомнил совет, который дал мне британский консул: „Никогда не стреляйте в собаку, принадлежащую албанскому пастуху, если вы не готовы тут же пристрелить и ее хозяина, прежде чем он пристрелит вас“.»
Городские собаки, обитатели Салоник или Стамбула, были настоящими шавками — хитрыми, ленивыми, живучими, блохастыми и покрытыми боевыми шрамами. Эдварду Лиру они не понравились. «Это отвратительные создания, похожие на старых шелудивых волков. Если бы я хоть на один день стал султаном, я первым делом приказал бы наполнить десять лодок отрубленными собачьими головами!» До самой Крымской войны (ставшей воротами, через которые в османский мир вошел Запад, жадный до концессий, заполонивший постоялые дворы, презрительно смеющийся над невежеством и предрассудками и дающий в долг огромные деньги) османские уличные собаки сохраняли древнюю чистоту своей крови и в любом городе империи выглядели одинаково. Должно быть, в душе они были кочевниками. Легенда гласит, что они вошли в Константинополь вместе с турками в 1453 году, и их поведение во все последующие годы подтверждает слова Элиота о том, что, когда кочевник останавливается на привал, он жаждет отдыха, а не плясок. Размером они были примерно с колли, свирепые на вид, цвета рыжевато-коричневого, хвосты пушистые, уши заостренные. (После Крымской войны, приведшей в столицу множество иностранцев всех мастей, внешний облик стамбульских собак немного изменился.) Подобно солдатам на побывке, они вели вольготную жизнь, днем посапывая на солнышке, а ночью воя на луну.
Похоже, кусались они крайне редко — хотя когда один английский джентльмен, восхищенный их смышленостью, забрал нескольких щенков в Лондон, они выросли агрессивными и их пришлось пристрелить. В своей же стране они соблюдали правила приличия и никогда не пытались проникнуть в магазины или рестораны, предпочитая терпеливо ждать, лежа на солнышке, пока какая-нибудь добрая душа не даст им что-нибудь поесть. Когда один привезенный из Англии терьер сбежал на улицу из отеля, в котором жила его хозяйка, местные собаки взяли над ним шефство и даже отбили его у соседней стаи, когда он по дурости перешел невидимую границу, а потом в целости и сохранности привели его назад в отель. В конце XIX века на улице, где жил Ричард Дейви, обитала собака настолько тощая и длинная, что все звали ее Сарой Бернар. Однажды она тяжело заболела, и один врач, знакомый Дейви, дал ей какое-то лекарство. «С тех пор она чрезвычайно привязалась к нему и не уставала всячески выражать свое восхищение его врачебным искусством» — в том числе отвела его за полу плаща полюбоваться своими новорожденными щенками, сидевшими в коробке за углом.
Мировоззрение у османских собак было, надо полагать, довольно консервативное, и силы прогресса, разумеется, не могли примириться с их существованием. Махмуд II покончил с янычарами, переименовал пашей в министров, заставил подданных носить феску и стамбулин и приказал перевезти всех собак на остров в Мраморном море, дабы очистить от них улицы Константинополя. Но бутафорские декорации оказались недолговечными: министры снова стали пашами, должность великого визиря была восстановлена, а собаки приплыли назад.
В последние годы империи одна французская компания предложила полмиллиона франков в обмен на разрешение наделать перчаток из 150 тысяч стамбульских собак. Султан, крайне нуждавшийся в деньгах, ответил возмущенным отказом. Однако османский мир необратимо менялся. В 1888 году открылся знаменитый отель «Пера-Палас», предназначенный для пассажиров Восточного экспресса, прибывающего из Венеции на недавно построенный на берегу Золотого Рога вокзал Сиркеджи. Движение на улицах города стало более оживленным — и механизированным. Уличные псы валялись на трамвайных путях, спали под колесами стоящих автобусов и перебегали дорогу несущимся автомобилям. В Стамбуле появилось множество трехногих собак — тех, которые еще легко отделались.
В 1918 году султан не обладал уже никакой властью. Женщины учились в университете, страной правила военная хунта, только что кончилась Первая мировая война и вот-вот должна была начаться другая война — за независимость Турции. Санитарная служба уже успела поработать на славу. Была проложена канализация. В городе появились асфальтовые и брусчатые дороги, вследствие чего грязь и мусор превратились в объекты, от которых следует держаться подальше всем, кроме мусорщиков, разъезжающих по улицам на новеньких дэвисовских грузовиках, закупленных в Америке. Шелудивые, трехногие, ленивые и бесцеремонные стамбульские собаки снова попали в переплет. На то, чтобы изловить их с помощью сетей и приманки, ушло пять дней. Работники санитарной службы не стали ни отстреливать, ни травить их; не обратились они и к предприимчивой французской компании. Должно быть, где-то под обломками империи еще живо было то чувство скромности и стыдливости, что мешает человеку приносить в мир зло. Грызущихся и воющих собак погрузили в старый грузовой пароход, отвезли на безводный остров у южного побережья Мраморного моря и там отпустили. На этот раз они уже не пытались вернуться назад.
СУЛТАНЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
1 Осман I Гази, сын Эртогрул-шаха 1300–1326
2 Орхан Гази, сын 1 1326–1360
3 Мурад I Гази, сын 2 1360–1389
4 Баязид I Молниеносный, сын 3 1389–1403
Междуцарствие 1403–1413
5 Мехмед I, сын 4 1413–1421
6 Мурад II, сын 5 1421–1451
7 Мехмед II Завоеватель, сын 6 1451–1481
8 Баязид II, сын 7 1481–1512
9 Селим I Грозный, сын 8 1512–1520
10 Сулейман I Законодатель (Великолепный), сын 9 1520–1566
11 Селим II Пьяница, сын 10 1566–1574
12 Мурад III, сын 11 1574–1595
13 Мехмед III, сын 12 1595–1603
14 Ахмед I, сын 13 1603–1617
15 Мустафа I, сын 13 1617
16 Осман II, сын 14 1617–1622
15 Мустафа I, сын 13 1622–1623
17 Мурад IV Гази, сын 14 1623–1640
18 Ибрагим, сын 14 1640–1648
19 Мехмед IV, сын 18 1648–1687
20 Сулейман II, сын 18 1687–1691
21 Ахмед II, сын 18 1691–1695
22 Мустафа II, сын 19 1695–1703
23 Ахмед III, сын 19 1703–1730
24 Махмуд I, сын 22 1730–1754
25 Осман III, сын 22 1754–1757
26 Мустафа III, сын 23 1757–1774
27 Абдул-Хамид I, сын 23 1774–1789
28 Селим III, сын 26 1789–1807