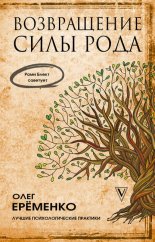Молодые и красивые. Мода двадцатых годов Хорошилова Ольга

Королева, цыганка и мистер «профессор»
Пока девушки сражались за мужчин, производители косметических средств зло бились друг с другом. В модной прессе двадцатых любили обсудить очередной виток напряжения в затяжном конфликте между Элизабет Арден и Хеленой Рубинштейн.
Настоящее имя первой было Флоренс Найтингейл Грэм. Мать назвала ее так в честь известной героини Восточной войны, английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, лечившей и утешавший раненых англичан, зарвавшихся в утлые степи Крымского полуострова. Имя в каком-то смысле определило судьбу мисс Грэм. Она целила психические раны дурнушек и толстушек, утешала грустящих флапперов разноцветными баночками дивно пахнувших кремов, которые не только преображали, но заставляли мужчин преклонять колени и рабски ползти за ловко накрашенной красавицей.
Флоренс Найтингейл Грэм не любила свое военно-романтическое имя. Оно отлично смотрелось в аттестате зрелости, но на страницах журналов моды и баночках с косметикой выглядело смешно, громоздко. В 1911 году для себя и своего салона на Пятой авеню Флоренс выбрала звучное ходкое имя Elizabeth Arden. Первую часть заимствовала у деловой партнерши, Элизабет Хаббард, с которой быстро рассталась. Вторую – из поэмы Теннисона «Энох Арден» и произносила его с ударением на последний слог – по-французски. Имела на это право – в Париже она стажировалась и выведала там несколько косметических секретов, которыми поспешила воспользоваться, вернувшись в Нью-Йорк.
Vogue, Femina, New Yorker и десятки других рейтинговых журналов двадцатых годов регулярно рекламировали продукцию Elizabeth Arden – в особенности «Венецианскую линейку», крем Amoretta и его неизменное дополнение – очищающий лосьон Arden Skin Tonic, разработанный в сотрудничестве с химиком Фабианом Свенсоном.
Арден удавалась роль аристократки. Она говорила неспешно с мягким английским акцентом и превосходно интонировала свои поучительные «спичи» о правилах пользования косметикой. Она называла свои студии салонами, устраивала в них женские посиделки, проводила сеансы гимнастики и светского общения, умела найти общий язык с любым типом городских буржуа. Став в 1920-е годы космически богатой косметической королевой, выбрала для себя истинно аристократическое хобби – скачки, которым посвящала редкие свободные минуты. Впрочем, все, чем бы она ни занималась, служило лишь одной цели – рекламе компании и продукции. Она не продавала кремы и пудру. Она продавала мечту – о голливудской славе, плакатной красоте без полиграфических изъянов, богатстве Гэтсби, хорошем муже, об улетной вечеринке в клубе на 55-й Вест-стрит, где должен был появиться Стив, обещавший первый страстный поцелуй под рыданье сентиментального кларнета.
Элизабет Арден
Фотография Арнольда Гента, 1920-е годы.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-G4085-0363
Элизабет Арден в 1930-е годы
Фотография Алана Фишера.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-123247
Арден была тароватым коммерсантом. У нее покупали всё сразу, ведь главным секретом ее стратегии был «whole package» – полный пакет косметического волшебства, успех которого зависел от всех сразу чудодейственных компонентов. Приобретая, скажем, венецианскую цветочную пудру, следовало также потратиться на румяна Venetian Rose Color, с которыми прекрасно сочетались оттенки помады Venetian Arden Lipstick и карандаша для бровей Venetian Eyebrow Pencil. А лучше приобрести все это в элегантном кожаном чемоданчике по специальной цене. Его Арден представила публике в 1925 году.
В свободные часы Элизабет Арден занималась аристократическим видом спорта – верховой ездой
1958 год. Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-DIG-ds-00361
К услугам клиенток были бесчисленные лосьоны, кремы и тоники для очистки, смягчения и омоложения кожи, для загара и от загара. Классическая американская стратегия, рассчитанная на доверчивого потребителя, которых в расцветающих и слегка пьяных Штатах было так много в тот славный потребительский период.
Хелена Рубинштейн, чей офис находился неподалеку, на той же Пятой авеню, только зло фыркала, листая Vogue, и требовала от сотрудников никогда, нигде и ни под каким предлогом не произносить имя Элизабет Арден. Две дамы знали друг о друге всё, но никогда не встречались. В пестро хаотичном стремительном Нью-Йорке это было возможно.
Рубинштейн немного пасовала. Небольшого роста, плотно сбитая, почти квадратная, говорившая по-английски грубовато, с восточноевропейским раскатистым «р», она ощущала внешние преимущества статной красавицы Арден, и тем сильнее было ее желание низложить косметическую королеву. В общем, это была настоящая война. Сражались за клиентов, талантливых химиков и технологов, акционеров и первые места в рейтингах делового успеха.
Рубинштейн отлично понимала Арден и в основу своей империи красоты заложила тот же принцип – продавать мечту. В двадцатые активно расходился ее крем Valaze, увлажнявший и восстанавливавший кожу, благодаря каким-то баснословным карпатским травам, подмешанным в эссенцию. Цыганистая внешность и восточный акцент не оставляли никаких сомнений в сказочном происхождении косметических снадобий.
Дама много выступала, давала интервью и щедро оплачивала рекламу в престижных журналах моды. Это были не просто красивые слоганы с убедительными картинками. Это были развернутые руководства к эксплуатации. «Хелена Рубинштней, гений и признанный мировой специалист в области красоты, разработала технику ухода за вашей кожей», – нарочито громко восклицал американский Vogue и методично перечислял все этапы этого хитроумного и отнюдь не дешевого процесса. Вначале следовало приобрести крем для лица Valaze, который в момент преображал лицо, омолаживал кожу и удалял малейшие признаки усталости. Далее требовалось хорошенько втереть очищающий Valaze Massage Cream, «в особенности рекомендованный для сухой кожи». После серии таких процедур переходили ко второму этапу – очищению и отбеливанию кожи с помощью питательного экстракта Valaze Beautifying Skinfood. И наконец, третья фаза – тонирование лица лосьоном Valaze Skin-Toning. Если одолевали морщины и депрессия, рекомендовалось приобрести крем Valaze Grecianand Wrinkle, впечатление от блистательной внешности усиливала туалетная вода Valaze Liquidine. И вообще всё самое лучшее для красоты – помаду, кремы, пудру, румяна, парфюм – следовало приобретать только у мадам Рубинштейн, на 57-й улице, близ Пятой авеню.
Секрет ее успеха был, конечно, не в баснословных карпатских травах. Скорее всего, трав вообще никаких не было, основа ее кремов – обыкновенный ланолин. Секрет был в подаче продукции. Открывая в 1915 году свой первый косметический салон в Нью-Йорке, Рубинштейн решила не менять свою звучную еврейскую фамилию на более привычную для американского уха. И сделала правильно – с расчетом на успешных клиенток, эмигрировавших в США из Восточной Европы и феноменально здесь разбогатевших.
Хелена Рубинштейн. Фотография Джорджа Майяра Кесслера
1930-е годы.
Архив Института моды и технологии (Нью-Йорк)
Продавая мечту, она внимательно относилась к дизайну упаковки. Флакончики, пудреницы, баночки для крема и трубочки для губной помады выглядели превосходно, в полном соответствии с грезами балованных клиенток и эстетикой американского дородного ар-деко, воплотившего в дизайне идею мирского процветания.
Пока две разъяренные дамы, Арден и Рубинштейн, сражались друг с другом и гениально обманывали потребителей, Макс Фактор без устали сочинял новые формулы косметического успеха. В сравнении с ними он выглядел солидным ученым – профессорские круглые очки, вдумчивые рельефные морщины на широком лбу, аккуратные усики, академическая осанка, лаконичные мягкие движения и немногословность (он едва говорил по-английски). Ему хотелось верить. Женщины восторженно отдавали себя в заботливые холеные руки молчаливого маэстро.
Его настоящее имя – Максимилиан Абрамович Факторович. Он был выходцем из России, где в 1890-е годы начал собственное дело – продавал косметику и парики, которые сам создавал. В 1904 году эмигрировал в США, поселился в Сент-Луисе, но быстро переехал в Лос-Анджелес, поближе к деньгам и славе. Он занимался сразу всем – был официальным дистрибьютором двух европейских производителей театрального грима Лейхнера и Майнора, разрабатывал специальный маложирный эластичный грим для безжалостных киноламп и много-много консультировал – голливудских немых красавиц, режиссеров и художников по свету. В 1918 году представил свое первое масштабное творение – «Цветовую гармонию», набор пудры разнообразных оттенков для всех типов «персональной комплекции» – цвета кожи, глаз, волос.
Хелена Рубинштейн
Конец 1950-х – начало 1960-х годов. Columbian, coni
Новая голливудская богема обожала яркие эффекты и снисходительно относилась к скандалам. В 1920 году Фактор начал открыто использовать полузапретный термин make-up – словечко из лексикона проституток и театральных актрис, между которыми в Прекрасную эпоху ставили знак равенства. Эту общественную дерзость сочли в Голливуде приятной новинкой. Make-up проник в язык кино и позже, очищенный от скверны мирской, занял почетное место в уважаемом и безгрешном словаре Вебстера.
Конфликт между Арден и Рубинштейн заставлял обеих див мчаться вперед, ноздря в ноздрю. Конфликт, произошедший в 1922 году между Фактором и Лейхнером, привел к процветанию первого и полному краху второго. «Профессор» косметики пришел в главный офис своего немецкого партнера, однако вместо теплых объятий и холодной кружечки баварского провел битый час в кожаном кресле приемной, потерял терпение и со словами «Это немыслимо» вышел вон. Стремительно телеграфировав сыну: «Начинай продавать наш макияж», он отправился восвояси, расторгнул договор с Лейхнером и уже через несколько лет произвел переворот в косметике. Сначала разработал 31 оттенок грима в виде жидкого крема и стал выпускать их в узнаваемых фисташковых тюбиках.
Реклама косметических средств Хелены Рубинштейн с указанием цен
Журнал Vogue, 1920. Архив О. А. Хорошиловой
Актриса Мэй Мюррей демонстрирует «губы, ужаленные пчелой»
1920-е годы, flickr.com
Рекламный плакат фильма «Бен-Гур»
1925 год. Частная коллекция
Дуглас Фэрбенкс в фильме «Багдадский вор», 1924
Фотооткрытка. Архив О. А. Хорошиловой
В 1924 году, получив заказ от United Artists, разработал два типа грима для фильма «Багдадский вор». Первый – имитирующий капельки пота, второй – стойкий к потоотделению, специально для прыткого Дугласа Фэрбенкса, самостоятельно выполнявшего все трюки. Далее был оливково-бронзовый макияж для киноленты «Бен-Гур», произведенный в немыслимых количествах – 2700 литров. В 1926 году Фактор совершил настоящий подвиг, изобретя за семь дней влагостойкий макияж для подводных сцен фильма «Маге Nostrum». Это была маленькая революция и крупный деловой успех. За гримом выстроилась длинная очередь из продюсеров театральных шоу, режиссеров и звезд Голливуда. В 1971 году на его основе компания Мах Factor разработала линию водостойкой косметики для ежедневного использования.
Фактора обожали голливудские дивы – за его талант, изобретательность и любезную немногословность. Пока они млели в косметическом кресле, мурлыкали последние слухи и с игривой доверчивостью смотрели на «профессора», он, в сером холщовом почти хирургическом халате и роговых очках, сосредоточенно производил безболезненные манипуляции – бегал ловкими пальчиками по лицу, втирал кремы, водил кисточками. И ничего не говорил, кроме: «ес, мисс», «сори, мисс» и «тури хид дзи райт», что означало «поверните, пожалуйста, голову направо». Английский ему никак не давался.
Вот так вот, сидя в халате перед разомлевшей голливудской звездой Мэй Мюррей, Фактор придумал ее рту чувственный рисунок – верхняя губа слегка увеличена по центру двумя острыми уголками, нижняя – жирно обведена, будто вспухла. Название возникло само собой: «Губы, ужаленные пчелой». Вслед за Мюррей такими порочными ртами, обведенными кроваво-бордовой помадой, обзавелись нью-йоркские флапперы.
Когда Кларе Боу понадобился ротик балованной юной соблазнительницы, Фактор, усадив звезду в косметологическое кресло, стер ее губы густым гримом и, зачерпнув большим пальцем немного помады из именной баночки, поставил три отпечатка, слегка растушевав кисточкой. Так появились главные «губы» десятилетия – «лук Купидона». Название – милая игра слов. «Bow» – это и лук, и фамилия голливудской иконы стиля.
Двадцатые были трамплином Макса Фактора. Свое имя и компанию он утвердил и прославил в следующее десятилетие, предложив, между прочим, макияж для звуковых фильмов и цветной кинопленки. Он создал «Микрометр красоты» – монстроидный аппарат с линейками и винтами для определения лицевых недостатков. Изобретение весьма в стиле гламурных и расистских 1930-х годов.
Арден, Рубинштейн и Фактор – главные, но не единственные бренды индустрии красоты. В 1920-е годы флапперы и просто милые девушки с удовольствием тратились на пудру от Coty и Erasmic, кремы от Vivodou и Hubbard Ayer, драгоценные парфюмы от лучших модельеров. Абсолютными хитами были Chanel № 5, Му Sin и Arpege от Ланвен.
Клара Боурекламирует форму губ «лук Купидона»
Открытка, 2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Теперь никто не стеснялся словечка make-up и никто не боялся краситься. Это делали даже на улицах – за обеденным столиком в бистро, на переднем сиденье «паккарда», в перерывах между теннисными геймами и на приступочках ипподрома, возвышаясь над пупырчатым полем черных котелков, ухающим в азарте скачек.
Каждая истинная флаппер имела маленькую пудреницу, зеркальце и компактные тюбики с помадой, которые пускала в ход, как только на горизонте появлялся статный молодой человек без спутницы. Положив одну обнаженную коленку на другую, достав из ловкого клатча инструменты соблазнения, она без умолку лопотала с подружками, успевая подправить макияж, выровнять тени и подвести «Купидонов лук», а купидонова стрела вместе с острыми искорками прямиком оценивающих глаз летела в сердце молодого человека, с увлечением наблюдавшего эту милую интимную сцену бьютификации.
Реклама косметических средств компании L. Т. Pivet
Журнал Уogue (London), 1920. Архив О. А. Хорошиловой
По сведениям аналитиков конца 1920-х годов, американские компании производили около семи тысяч различных косметических средств, которые ежегодно продавали на 2 миллиона долларов. Около 90 % женщин пудрились, 55 % – накладывали румяна, 73 % принимали «итальянский душ» из парфюмов. И больше половины из них были убежденными флапперами.
Реклама косметических средств Bourjois
Журнал Vogue (Paris), 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Бланк заказа парфюмерной продукции фирмы Coty
1922 год. Архив О. А. Хорошиловой
Костюм соблазнения
Законы гармонии работали даже в то хаотичное время. Если чего-то становилось больше, что-то обязательно уменьшалось. К примеру, одевая лица в макияж, девушки обнажали ноги. В начале двадцатых низ платьев колыхался у лодыжки, но с каждым годом сдавал позиции. В 1923 году французский Vogue, немного ретроманский, чуть снобистский, с заметной печалью констатировал: «Jenny, Chanel, Renee и Molyneux теперь отдают предпочтение коротким платьям… длина утренних и дневных нарядов варьируется от 20 до 22 сантиметров от пола». И тот же Vogue регулярно сообщал читателям об успехах французских модельеров в борьбе с флапперскими юбками и нравами. Поль Пуаре, к примеру, упорно удерживал низ платья и назло всем поветриям моды демонстрировал вечерние туалеты с широкими и длинными юбками, за которые, по словам Джанет Фланнер, он хорошо приплачивал манекенщицам.
Новую опасную длину пропагандировали не только Шанель и Молине. За открытые коленки сражались безымянные девушки по обе стороны океана. В Монреале они организовали лигу «Долой длинные юбки», торжественно поклялись друг другу отстаивать принципы новой красоты и активно призывали представительниц прекрасного пола присоединяться. Но вскоре надобность в призывах отпала. В 1926–1927 годах короткие платья получили официальный статус в моде. Общественные страсти улеглись. И воспылали любовные. И счастливым обладательницам красивых ножек стало невероятно просто добиваться мужского внимания.
Парижская актриса Марсель Рана демонстрирует не только своих породистых собачек, но и смелую укороченную юбку
Журнал Die Dame, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Впрочем, даже антично прекрасные ноги оголяли редко. Сказывалось воспитание – молодежь двадцатых все-таки родилась в начале века и получала образование в серо-коричневых мшистых пансионах Викторианской эры. Ее нелепейшие правила и придворные условности она презирала. Но ходить по городским улицам с голыми ногами даже отъявленные флапперы считали плохим тоном. И появились шелковые телесного цвета чулки, легко наметившие условную границу между высоким стилем и нравственным декадансом. Такие, однако, отваживались носить только любительницы экстравагантности и эпатажа, то есть шумные нью-йоркские флапперы и лондонские «яркие штучки». Тихие модницы покупали шелковые или вискозные чулки приглушенных оттенков, совпадающих с цветом наряда. Для тусовок, дансингов, модных вечерних променадов и для красивого фото на память любимому выбирали яркие варианты с пестрым орнаментом – геометрические, африканские, древнеегипетские, в стиле французского флорального рококо и с фотопортретом бойфренда (его удивленно озадаченное лицо помещали под коленками). Чулки в сеточку можно было встретить разве что в Гарлеме да в блудливых переулках Монпарнаса, а еще на подмостках кабаре и мюзик-холлов.
Европейские флапперы приехали в Нью-Йорк, чтобы принять участие в конкурсе красоты. Их короткие юбки гарантируют успех
Архив О. А. Хорошиловой
Модели Жана Пату.
Юбки к этому времени стали короче
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Все без исключения модницы и флапперы мечтали о бесшовных чулках, но их создали только в 1940-е годы, и потому приходилось мириться с темноватой тонкой вертикальной линией, обозначавшей не только бег строчки, но и вектор движения мужских глаз – от пятки вверх и обратно.
Укороченные юбки позволяли дамам чувствовать себя комфортнее даже под пристальными взглядами мужчин
Реклама одеколона «4711». Журнал Die Dame, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Чулки носили пристегнув к поясу или на горизонтальных подвязках выше колена. Скромницы стыдились их показывать, флапперы – активно демонстрировали и этим спровоцировали моду на расшитые и украшенные полудрагоценными камнями подвязки, скрывать которые было сродни преступлению. Впрочем, иногда они обходились и вовсе без этих галантных крепежей, подворачивая чулки по-детски – над коленками. Получалось смело и забавно и очень в стиле флапперов, пребывавших на грани между отрочеством и молодостью, между общепринятым и скандальным. Самые смелые бравировали спущенными чулками – редко на улицах и гораздо чаще на фотографиях в жанре risque.
В необычайно хваткие деловые двадцатые появилось множество крупных и мелких предприятий, производивших чулки самых фантастических раскрасок и прочности, которую неуклюже сравнивали со сталью – Великая война недавно закончилась и такие окопные эпитеты никого не удивляли. Флапперы попугайчиками щебетали у прилавков британской марки Aristoc, предлагавшей все мыслимые и немыслимые фасоны чулок, в том числе и «эксцентрических цветов». Американки носили продукцию компаний Holeproof Hoisery, Onyx Hosiery, Real Silk. Немки предпочитали отечественные марки, в том числе Bemberg Kunstseidefabrik и Elbeo. Француженки вертели ножками, туго обхваченными цветным шелком Bas Lys, Cid, Academic.
Девушка позирует с подвернутыми чулками. Так тогда делали настоящие флапперы
2-я половина 1920-х годов. flickr.com
Реклама колготок Cid
Журнал Vogue (Paris), 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама туфель компании Hellstern
Фотография d’Ora. Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Вечерние туфли
Фотография Эдварда Стайхена, 1927.
Фототипия 1920-х годов.
Как только началась мода на чулки, появилась необходимость в обуви, изящной, удобной, на сотни случаев шумной топотливой жизни. Девушки обожали каблуки. Они делали красавиц выше, стройнее, женственнее, своей тонкой щелкающей трелью помогали привлечь внимание к ножкам, словом, стали еще одним оружием в битве за мужчин. Каблучки были тонкие и острые, столбиком и рюмочкой, в стиле мадам Помпадур и Марии Антуанетты. Модными считались каблуки с покрытием из целлулоида, который научились обрабатывать под рог, перламутр, сусальное золото и даже фарфор. Эти каблучки выстукивали модный джазовый граунд-бит на Мэдисон-авеню и Фобур-Сент-Оноре, взлетали по красноковровой лестнице на второй этаж престижных ресторанов и безбоязненно отхватывали головокружительные пируэты в дансингах. Для таких случаев надевали туфли с сатиновой искрой, двуцветные контрастные, золоченые и серебристые, с пестрой вышивкой, росписью в египетском, маньчжурском, арабском стиле, с инкрустацией из бриллиантов и жемчужин. Носочки туфель были преимущественно заостренные, чтобы ноги казались стройнее и длиннее, иногда их выделяли контрастным цветом. Флапперы называли их «berries» («ягодки»), моралистки выражались пространнее: «Идиотические, узкие, негигиеничные туфли на высоких каблуках».
Реклама немецких туфель Salamander
Журнал Die Dame, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Реклама туфель компаний Hellstern и Perugia
Журнал Femina, 1926 г.
Архив О. А. Хорошиловой
Элегантные туфли 1920-х годов
Фотоархив
Института костюма Киото (Япония).
kci.or.jp
Реклама туфель компании Perugia
Журнал Femina, 1927 г.
Архив О. А. Хорошиловой
Американцы, умевшие не только тратить, но и гениально экономить, ввели в моду накладные элементы, преображавшие обувь. К примеру, вместе с парой незатейливых кожаных или сатиновых туфелек флапперы приобретали огромные, проложенные атласом, короба с блестящими пряжками и накладками для пуговиц из бронзы, меди, серебра, целлулоида. Вместе с ними из магазина уносили бархатные ящики с десятками каблуков, расписных, расшитых, со стразами и драгоценной инкрустацией. Мягкость и женственность туфель была обманчивой. Многие имели секрет – под пяткой была встроена металлическая резьба, а со стороны стопы, под каблуком скрывалась впечатляющая стальная накладка с пазами. Каблук примыкал к заднику словно штык к ружью. Такие туфли – лучшая метафора женщин двадцатых. Легкие, фривольные, глупенькие девушки меняли маски, как каблуки туфель, и тщательно скрывали свой жесткий стальной остов, расчетливость и деловую хватку в карьере и любви.
Эти дамские нарезные расписные «ружья» предлагал в 1920-е Андре Перуджа, гениальный фантазер и ловкий делец. Уже в шестнадцать лет он открыл бутик и ателье в Париже, свел близкое знакомство с акулами французского модного бизнеса и тачал-тачал без остановки малые скульптурные формы – изысканные драгоценные туфли. Они прелестно дополняли тяжелые вечерние наряды Поля Пуаре и острые геометрические ансамбли Мадлен Вионне. Ими восхищались и отмечали многообразие исторических заимствований. Но тогда Перуджа был еще подмастерьем, карьера только начиналась, и опора на старину помогала не совершать ошибок, находить новые интересные решения. Он щедро украшал атласные лодочки шелковыми орнаментами во вкусе французского Средневековья и флорентийского Высокого Возрождения, сыпал стразы на густой фиолетовый бархат мюлей, чтобы получилось глубокое полуночное небо сказочной Персии, овивал сандалии золочеными меандрами, превращал туфли в венецианские маски и украшал их нежное шевро пряжками Короля-Солнце. Он изобрел новую обработку кожи. К примеру, в начале 1920-х предложил вариант «phoque» («тюлень») с имитацией трещинок. Такие предлагал в основном на каждый день и для занятий спортом. Однако самым модным, по мнению Перуджи, были туфли из мягкой кожи оттенка «ню». Такие расходились особенно быстро и попадали в гардеробные комнаты флапперов. Туда же отправлялись десятки экстравагантных лодочек и мюлей от парижских братьев Эльстерн. Братья обожали театральные эффекты – пестрые орнаменты в китайском вкусе, золотную вышивку во вкусе египетском, извивающиеся каблучки в стиле мадам Помпадур, а также античность, ампир, рококо – то есть все самое изящное, игривое с оттенками кафешантанных страстей. У «джазовых крошек» были популярны и другие марки – Fenton Footwear, Pietro Yantorny, Thomas, N. Greco, Ducerf-Scavini.
Типичный нью-йоркский «спикизи»
Конец 1920-х – начало 1930-х годов. flickr.com
Короткие стрижки и юбки, подвернутые или приспущенные чулки, курение в общественных местах и агрессивный макияж – обязательные атрибуты модниц двадцатых. Но чтобы стать настоящими, прожженными, отпетыми флапперами, они должны были уметь пить, тусоваться и блистать в самых модных ночных клубах.
«Говори тихо»
Пили много – нарочито большими глотками, учились красиво ронять ледяную стопку водки прямиком в горло, как делали мускулистые парни в портовых барах. Обожали коктейли из узкобедрых стаканов, умещавших три-четыре вида алкоголя, горьковатый сок, нарезку из фруктов в ледяной пенке. Пили на износ, до одурения с каким-то особым юношеским остервенением, один стакан за другим, галлонами – мутную сомнительную жидкость. Посетительницы закрытых клубов заказывали янтарную «Мэри Пикфорд» – шейк из белого рома, ананасового фреша, гренадина и мараскина и каких-то хитрых сухих трав. Баловались «Смокингом» из джина, вермута и мараскина, «Крутизной» из паленого алкоголя, меда, лимонного сока с апельсиновым жмыхом. Флапперы попроще обходились смесью виски и кока-колы с клубникой.
Сухой закон сделал модными коктейли, все виды коктейлей. Сначала одни парни лихо запретили производить, распространять и потреблять алкоголь, но тут же другие парни, в отлично сшитых костюмах и шляпах-федорах, открыли подпольные цеха и организовали нелегальную продажу паленых напитков. Один из них – Аль Капоне, круглый весельчак и симпатяга, аккуратно отрезавший пальцы конкурентам позолоченной гильотинкой для сигар. Он был самым крупным и наглым бутлегером двадцатых, мафиози с голливудским лоском, королем ночного Чикаго. Ему козыряли высшие чины полиции, и симпатяга Аль их щедро одаривал. То, что лилось из его подпольных цистерн в марочные бутылки, едва напоминало старый добрый джин и виски, и эту дурно пахнущую сивуху приходилось густо разбавлять соками, вермутами, подслащенной водой и кусочками фруктов, чтобы усыпить бдительность клиентов. Впрочем, у них все равно не было выбора.
«Спикизи» после рейда полиции Нью-Йорка
Начало 1930-х гг.
flickr.com
Вход в «Клуб 21»
Нью-Йорк, 2014.
Фотография О. В. Рачковской
«Спикизи» тоже стали популярны благодаря сухому закону. Существовало такое выражение: «Speak easy» («говори тихо»). Официанты гневно бросали его разомлевшим клиентам, слишком громко произносившим запретные заказы в присутствии напряженно подслушивавших копов, смешно уткнувшихся в газеты за соседним столиком. Потом так стали называть подпольные заведения, своего рода закрытые клубы с низкими потолками, входом-тайником и целым набором паролей и сигнальных постукиваний. «Спикизи» могли находиться где угодно, обычно в самых неожиданных местах – за стеной магазина игрушек, в дальней комнатке часовой мастерской и даже за аппаратом в телефонной будке – стоило лишь нажать правильный рычаг и сыграть костяшкой пальца начало флапперского гимна «Ain’t we got fun».
В середине двадцатых, когда был коронован великий Аль и на Манхэттене отплясывали шимми, «спикизи» стали почти открытыми клубами, в которых паленый джин бил в стаканы прямиком из мраморного фонтана, черно-белые лакеи, красиво кружась, разливали хрустальное шампанское и гости, в перьях и конфетти, колыхались волнами под разухабистый «щикаго» джаз. И в такт ему дрожали обрамленные стекла и ложечки в чайных стаканах смирных жильцов верхних этажей. Проклятья и жалобы сыпались на полисменов, но они умели быть мертвецки глухими – тихо шли мимо, крутили дубинками, посвистывали.
Особенно не везло тем, кто жил на 52-й улице Манхэттена. Вокруг дома № 21 с вечера до раннего утра шумели и кричали подозрительно возбужденные девицы, барабанили по отзывчивой улице стальными набойками туфелек, хохотали и падали, а солидные господа, с сигарами, в шляпах, тщетно взывали к их здравомыслию и спешно, кое-как, уминали размякших спутниц в заспанное нерасторопное такси. Это были гости «Клуба 21», самого известного нью-йоркского «спикизи».
Он несколько раз менял адреса и в 1929 году переехал сюда, на 52-ю улицу. Гостей принимали только по звонку, вернее, сложной, переливчатой трели, которую каждый посетитель должен был выжать кнопкой. В полночь предлагали тяжелый ланч, а с четырех и до закрытия – чай. Какой это был чай, знали все, и потому не все отваживались его заказывать. Завсегдатаи цедили менее опасные коктейли и украдкой смаковали чистый марочный коньяк, полагая, что бутлегеры не в состоянии подделать его аромат.
На хозяев клуба, милых добряков Криндлера и Бернса, работали осведомители и местные полицейские, все как один глухие, немые и слепые. Но даже они не спасали от облав. Для таких вот крайних случаев Криндлер и Бернс разработали целую систему введения в заблуждение федеральных агентов. Как только те вбегали в помещение, барные полки с бутылками разом, в цирковом стиле, опрокидывались, тара разбивалась и летела в канализацию по жестяным каналам. Обширный подвал, наполненный породистыми винами, дорогим алкоголем и фирменным клубным «чаем», защищала метровая кирпичная дверь-стена, открыть которую могли только особым длинным тонким ключом (его используют по сей день). Облавы заканчивались полным фиаско – агенты не находили ни грамма алкоголя, а специфический клубный запах в секунду всасывала отличная вентиляция, гордость Криндлера и Бернса.
К бурной алкогольной ночи нью-йоркские флапперы готовились с вечера. Обыкновенно отправлялись в какое-нибудь модное тихонькое заведеньице с легкой сумасшедшинкой. Таких было много в Гринвич Виллидж. К примеру, «Синяя лошадь» – клуб-ресторан с блеклыми подтеками красок, означавшими геометрическую абстракцию, и осоловевшими пучеглазыми рыбами во встроенных аквариумах. Усевшись за крохотным столиком у танцпола, флапперы намеренно небрежно вытряхивали содержимое сумочек – блесткие карандаши помады, пудреницы в эмалированных зигзагах, зеркальца и десяток другой звонко говорливых мелочей. Все так же небрежно, сделав заказ уголком рта, они поправляли макияж широкими, театральными движениями и не переставая качали ножками в спущенных к самим лодыжкам шелковых чулках. Накрасившись всласть и насмотревшись, слали отражению воздушный поцелуй, захлопывали зеркальце и разом сметали приятные звонкости обратно в сумочку. Ели мало, хотя кухня в «Синей лошади» была выше среднего. Пили умеренно – щадящие коктейли или что-то погорячее, чтобы, как говорили, «не глох мотор». Флапперы любили грубый язык автомобильных хайвеев.
Таких заведеньиц, в которых тянули вечер, «подогревая двигатели», в Нью-Йорке было много – «Трокадеро», «Мирадор», «Плантация», «Монмартр», «Рю де ла Пэ». В одном предлагали обжигающую мексиканскую кухню, в другом драматично, убедительно вытаращив глаза, голосили испанские цыганки и лениво тянули ножки фокинские балерины. В третьем загадочный факир с блестящими от клея усами демонстрировал восточные чудеса и, моргнув подведенным глазом, заставлял испариться пухлую пачку долларов – этот трюк в 1929 году гениально и легко повторили финансисты с Уолл-стрит. Такие разные и удивительно похожие один на другой вечерне-ночные клубы. Каждое лето какой-нибудь из них закрывался, но каждую осень появлялись новые. Всем хотелось разнообразия. Сегодня не должно было повторять вчера.
Талулла Бенкхед, одна из представительниц Bright Young Things
1920-е годы. Частная коллекция
Нью-Йорк двадцатых жил ночами. Подмигивал неоновыми стразами, вспыхивал бисером рекламных огней, лоснился черным бриолином авто и шелестел тафтой шершавых улиц. Он перекатывался с одной сумасшедшей вечеринки на другую – из «Петрушки» в полуночное «Американское кабаре» за углом, оттуда в «Пале-Рояль» и «Трокадеро», затем в «Клуб четыреста», гарлемский «Коннорс» и десяток других мест, от которых в памяти оставались подвижные ряды геометрических колен, искры визжащих тромбонов, пляшущие белые улыбки чернокожих официантов, грудной гогот певицы и приятное послевкусие, смесь марочного бренди и вишневой помады какой-то прилипчивой девицы. Город пьянел от чая и ревел от банджо, бился в конвульсиях под гарлемский джаз-банд, рушился в бассейн на сороковом этаже небоскреба, орал от восторга и рыдал от невыразимой трагичной прелести хрупких летних ночей и этого перламутрового нежного манхэттенского неба. Под утро он наблюдал свое безумное взъерошенное отражение в безразличных тусклых водах Гудзона. И почти уже ничего не помнил.
«Молодые яркие штучки»
В Лондоне тоже веселились. Однако там не было флапперов – в грубовато демократическом смысле этого слова. Ночной жизнью там заправляли «яркие молодые штучки», отпрыски аристократических семейств с длинными фамилиями и удлиненными лицами, что в Англии всегда считалось признаком породы. Харольд Эктон был воспитан в Итоне и Оксфорде, там же учился Ивлин Во, сын преуспевающего издателя, сестры Понсонби были дочерьми сэра Фредерика Понсонби, барона Сисонби, а сестры Митфорд, обе писаные красавицы, принадлежали роду Фриман-Митфордов, баронов Ридесдейльских. Брайан Гиннесс носил звучную фамилию пивных магнатов и в официальной переписке именовался бароном. Талантливый фотограф Сесил Битон хвастался своим родством с Мэри Битон, фрейлиной Марии Стюарт (и этой шуткой вводил в заблуждение знатоков генеалогии). Стивен Теннант происходил из крепкошеего клана шотландских аристократов, что не помешало ему стать утонченным декадентом, самой яркой и экзотической из всех лондонских «молодых штучек».
Они все прекрасно знали друг друга, пытались дружить и прелестно проводили время где-нибудь на Холборн-стрит или Тайт-стрит, в старинных частных особняках с садом и бассейном, которые с голливудской быстротой преображались в райские кущи и Посейдоново царство. Демократизм, послевоенная американская новинка, сбила спесь и смягчила шипяще-цокающий диалект выспренних аристократов. На их вечеринки приезжали просто хорошие парни, мускулистые друзья Теннанта и Во, прехорошенькие, будто из витрин универмага, начинающие актриски и склизкие антрепренеры в маслистых моноклях, пообтертые жизнью писатели, требовательные девушки легчайшего поведения с гавкающим кокни и цепкими объятьями, пара-тройка беззубых прожорливых светских хроникеров, пара-тройка городских сумасшедших для разнообразия и, если верить Джеймсу Лаве, какая-то старушка «лет шестидесяти с лишком, с сидевшей на плече мартышкой».
«Яркие молодые штучки» были исконно британской породы, ценили скромный шик и костюмы bespoke и не могли себе позволить пошлых ординарных нарядов.
Известный щеголь Беверли Николс, к примеру, гордился своими «фраками от Лесли и Робертса с Ганновер-стрит, жилетами от Хоуса и Кёртиса с Пикадилли, шелковой шляпой от Л оке с улицы Сейнт-Джеймс, туфлями монаха из Фортнем и Мейсон с Пикадилли, хрустальными и бриллиантовыми запонками от Бушерона с Рю де ла Пэ»[4]. Девушки были одеты от французских модельеров, в ламе, декольте и драпировке, хотя порой среди них ласточками носились расфранченные суфраже и коротко стриженные баронессы в шелковых смокингах.
И никаких отцовских денег не жалели на костюмированные вечеринки, в организации которых «яркие штучки» знали толк. Первые тихо прошелестели в 1926 году, последние, устроенные в 1929 году, прогремели на весь флапперский мир, признавший за молодыми британскими денди первенство в этом жанре развлекательного искусства.
Сначала была «Эдвардианская вечеринка». В 1926 году ее вдохновитель и главный спонсор Стивен Теннант решился на опасный трюк – умопомрачительное перевоплощение с кувырком в довоенное прошлое. На пригласительных билетах значилось: «Приходите в том, как Вы одевались двадцать лет назад». Смело. Ведь почти всем адресатам едва исполнилось двадцать пять, и несложно представить, в чем они явились на вечеринку.
Улюлюкая и причмокивая, верхом на нелепой детской коляске, въехала в гостиную клуба «Горгулья» (снятого для мероприятия) Бренда Дин Пол, в чепце, распашонке, бантах и кружевах. Она родилась девятнадцать лет назад, и такое яркое появление в полной мере соответствовало требованиям Теннанта и метрикам церковной книги. Ее мать, леди Дин Пол, была в S-образном корсете (едва в него влезла), платье от Дусе, карикатурном каскаде из страусовых перьев, который когда-то считался модным, и ротонде из молескина. За руку ее крепко держал старший сын, одетый в матросский костюм и канотье. И так выглядело большинство приглашенных – все как один в коротких итонских курточках и фуражечках, американских платьях с широкими кушаками, слюнявчиках и свивальниках. Они ползали, задорно смеялись, пускали слюни, дрались и стреляли из рогаток. На такое не отважились бы нью-йоркские флапперы, а французские сюрреалисты выглядели бы неубедительно.
Писатель Ивлин Во, биограф «молодых ярких штучек»1920-е годы.
Фотоархив static.guim.co.uk
Тогда же, в незабвенном 1926 году, прошла вечеринка «Питер Пен», светская, сдержанная, даже скучноватая. Блистали три «яркие штучки» – Нэнси и Баба (Диана) Митфорды, а также их верный спутник Сесил Битон, придумавший обеим красоткам сказочные платья. В 1927 году веселились на «Матросской вечеринке» (Литтон Стрейчи, пришедший в полном адмиральском обмундировании, был нарасхват) и на «Вечеринке Хизера Пилкингтона» (костюмы из фольги, шифоновые палантины, платья в серебристых звездах). В июне 1928 года сходили с ума от жары и под вопли негритянского джаза валились в бассейн, визжали и кувыркались в теплой воде и леденцовых пятнах подсветки, и потом столь же резво выпрыгивали, меняли промокшие купальники на другие, ядовитых цветов и фривольных фасонов, курили, крутились на танцполе в обжимку неважно с кем, пели и пили ядреный коктейль неважно из чего. Вечеринка попала в историю клубных двадцатых под названием «Ванна и бутылка».
В 1929 году «яркие штучки» инстинктивно прощались с невыносимо легкими и беззаботными двадцатыми, хотя до Черного четверга было еще достаточно теплых безумных дней. Вечеринки лихорадочно сменяли друг друга, словно отчаянные бегуны на финишной прямой. На «Великих Городских Дионисиях», устроенных Брайаном Ховардом, собрались в костюмах, прикрытых античной наготой, в шлемах и бородах, с трезубцами и шипящими в пышных прическах ужами. Через три недели в особняке Гиннессов черно-белые фрачные тройки поклонялись «Малаховым курганам» и прочим кринолиновым бастионам девятнадцатого века. Но уже через неделю все надели цирковые трико (от Нормана Хартнелла и Вилли Кларксона) и шумно провели июльскую ночь под разухабистую какофонию потешного оркестра. Эта дорогая и пестрая «Цирковая вечеринка» стала кульминацией безбедного и насыщенного ничегонеделания.
Казалось, конфетти не закончится никогда. Но пришли тридцатые – по-армейски дружно, звонко, в ногу. «Яркие и молодые штучки» и «джазовые крошки» потускнели и заметно повзрослели. Кто-то крепко уселся в чиновничье кресло, кто-то на скамью подсудимых. Время стало другим – решительным, бескомпромиссным, черным и белым (костюмы политиков, мундиры SS).
Флапперы вышли вон из моды. На улицах и на плакатах маршировали новые женщины – плечистые, грудастые матери, выкормившие щенков германского рейха. Уже слышался надсадный скрип гусениц и картавое тевтонское тявканье.
Глава 3
Режиссеры стиля. Модельеры
В 1928 году гениальный Кокто, впорхнув в кафе и вкусно затянувшись сигареткой, на лету, на случайном листке набросал сценку.
Жан Кокто.
Габриэль Шанель
Середина 1920-х годов. flickr.com
Условная линия горизонта, буграстый гриб, увенчанный нелепым эгретом, печально удаляется. Он делает прощальный длинный глаз скупой фигурке на первом плане – острые ключицы, уголки расставленных локтей, колечки бижу, дымок. Подпись: «Пуаре уходит, Шанель приходит». Кокто, шутя, нарисовал смену эпох – модерн уступал место модернизму, слоновая кость – бакелиту, горизонталки– «вертикалкам», дамы-грибы – безгрудым неврастеничкам. Пуаре уходил, подбадриваемый Шанель: «Давай-давай». Но он уходил медленно и, кажется, сам не понимал, что прощается с модой.
«Пуаре уходит, Шанель приходит»
1928 год. Фототипия.
Частная коллекция (Германия)
Поль Пуаре за работой в ателье 1926 год.
Фонд А. А. Васильева
Парижский паша
Как и прежде, щедро и царственно, он принимал в своем ателье журналистов. «Месье Пуаре, – сообщал один, – отвечает на вопросы, окруженный баснословной парчой, золотой и серебряной, брокатами и драгоценными шелками, выплескивающимися на пол». «Мы, как и прежде, ощущаем себя в сказочном гареме моды», – восклицал другой. Пуаре стоял среди этого чудного великолепия, словно падишах в гареме, и с комично торжественной миной вещал о творческих планах на ближайшее будущее: «Я ищу чистую линию, мне нужна здоровая порция эклектики, но я не могу пока сформулировать общую тенденцию. Я в поисках. Я еще не знаю, что буду делать». На самом деле отлично знал. Он воскрешал прошлое, которое неумолимо от него ускользало.
Прошлое было великолепным. Сначала грандиозный скандал – в 1906 году супруга Дениза появилась на людях (подумать только, в церкви, перед святым отцом) в наглом узком платье без корсета, названном «Лола Монтес» в честь танцовщицы и авантюристки. Так Пуаре стал ниспровергателем корсетов и сторонником нового, спортивного стиля, высеченного из паросского мрамора античности. И так создал о себе первый миф. Ведь до сих пор говорят: «Пуаре отменил корсеты». Ничего не отменял – он рекомендовал дамам надевать под платья-туники более удобные корсетированные пояса, а молодым красоткам ходить «запросто», как его Дениза.
Жорж Лепап. Иллюстрация из альбома «Вещи Поля Пуаре»
Париж, 1911. Национальная библиотека Франции
В 1908 году выпустил целую коллекцию платьев в стиле Лола Монтес, назвав ее «Директория». Простые удлиненные формы, завышенная линия талии, кушаки и воротники-берты – все соответствовало духу закатной Французской революции. Потом были «Русские сезоны», сдержанное знакомство с талантливыми Дягилевым и Бакстом, в которых Пуаре ощущал не столько союзников, сколь конкурентов – ведь эти дикие русские сумели влюбить парижан в Восток гораздо быстрее, чем он, Поль Пуаре, «Великий». Так его тогда называли. Впрочем, в 1911 году модники (а может, и он сам) придумали другое прозвище – Парижский паша. В тот знаменательный для себя год модельер придумал множество восточных «штук», в том числе юбку-брюки, платье-панталоны, тунику-абажур, а еще тюрбаны, гаремные подушки, гаремные запахи… В том же 1911-м он совершил невообразимое по масштабу турне – показал свои модели в Германии, Австрии, Венгрии, Румынии. Заехал в Россию и увез оттуда не только щедрые подношения и длинные списки заказов, но и чудные вышиванки, сапожки, утварь и скатерти, из которых потом сшил платья (и этим опередил Ламанову на целое десятилетие). Тогда же открыл школу и мастерскую «Мартина», парфюмерную компанию «Розина», пилотный продукт которой, «Весь лес», стал первым в истории парфюмом, созданным на базе модного дома.
Жорж Барбье.
Рисунок вечерних ансамблей Поля Пуаре 1913 год.
Национальная библиотека Франции
Платье-абажур от Поля Пуаре
Фотография, 1912–1913 годы.
Электронная библиотека Кентукки: kyvl. org
Тогда в творчестве Пуаре было много «впервые». Он первым применил способ драпировки текстиля, повторив почти забытый опыт древнегреческих предшественников. Он впервые в истории французской моды организовал масштабный костюмированный бал на восточную тему, назвав его «Тысяча и вторая ночь, или Торжество по-персидски», а также первым пригласил к сотрудничеству авангардных художников – Дюфи, Матисса, Лорансен, Сегонзака, Пикабиа. Он первым среди французских творцов отправился за океан – соблазнять ненасытную и очень податливую американскую публику сказочно дорогими нарядами и тканями. И одним из первых кутюрье ввел в моду национальную экзотику, и так удачно, что стал предвозвестником ар-деко.
«В театре».
Реклама вечернего наряда от Поля Пуаре
Журнал Femina, 1919 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Поль Пуаре всегда считал себя
художником и даже немного занимался живописью
2-я половина 1920-х годов.
Фонд А. А. Васильева
Парадоксально, но эпоха ар-деко не нравилась Пуаре. Он находил ее слишком простой, слишком грубой, городской, слишком во всех смыслах прямолинейной. Мэтр чувствовал, что не поспевает за ее учащенным ритмом, не может двигаться в одну ногу с коваными каблучками спортивных старлеток. Он стремительно набирал вес и терял сноровку, у него развилась одышка. Появилось неизбежное в таких случаях чувство ревности, потому что кто-то делает не хуже, у кого-то получается лучше, изящнее, современнее. На горизонте появились угластые локти и сигаретный дымок паучихи Шанель. Она приближалась, а он удалялся, его прижимали, бесцеремонно выпихивали на обочину современности. И Пуаре начал брюзжать.
В интервью то и дело критиковал – всех, кто его обижал и кто не соответствовал его изощренным представлениям о красоте. «Современные женщины? Но кого вы называете современными женщинами! Этих картонных тощих девиц, безгрудых, с угловатыми плечами. Клетки без птиц! Ульи без пчел!» Он ненавидел стиль garonne, не понимал, как возможно ходить коротко стриженной, похваляться отсутствием груди и носить вздорные короткие юбки. Пуаре любил античные объемы – звонкие мраморные бедра, упругие перси, покатые плечи. Кроил платья по формам супруги Денизы – до размолвки считая ее идеалом. Он недолюбливал американок, хотя и благосклонно позволял им восхищаться платьями-абажурами и «гаремными» шароварами. Они, на его взгляд, были слишком падки на европейскую моду и слепо верили рекламе, силу которой модельер ощутил, как только ступил на американскую землю.
Ему не нравились коллеги, гнавшиеся за временем (Шанель, к примеру), предлагавшие «платья телефонисток» для прогулок и «купальные костюмы» для большого вечера. Он не понимал философию черного.
«Слишком все сейчас увлекаются этим цветом, – негодовал Парижский паша, – его чересчур много повсюду. Необходимо покончить с этим трауром, наше поколение не должно тащиться на поводу у глупых идей, оно нуждается в разнообразии и веселье».
Еще Пуаре ненавидел байеров, закупщиков дорогих универмагов, хотя благодаря им американцы выучились, наконец, правильно произносить имя мэтра. «От них нет проходу, – бурчал он. – Я уверен, байеры покидают показ, не изменив своего заранее составленного мнения о коллекции. И они готовы продавать лишь модели, похожие на успешно ими проданные в прошлый сезон. Они все смотрят в прошлое». Байеры – все до одного некомпетентны. Таков был приговор Парижского паши.
Он просто не понимал новых правил модного рынка, истинного назначения этих ловкачей. Не понимал и не принимал возможность авторского копирования. Считая каждое платье уникальным произведением искусства (а себя почитая художником), модельер решительно отвергал деликатные советы дельцов сделать модели чуть проще, чуть понятнее, чуть «более для рынка».
«Пуаре никогда не шел на поводу у рынка!» – негодовал мэтр. Действительно, до войы он диктовал свои условия, и бизнес их покорно принимал. Но двадцатые перевернули все с ног на голову – теперь мода зависела от склизких дельцов с рыбьими глазами и ухватками пираний, а творцы, истинные художники, должны были подчиняться правилам этой подводной игры. Сначала Пуаре решил ничего не замечать. Сделался напряженно безразличным, надувал щеки, принимал бонапартовские позы, приближая свое Ватерлоо. И с треском проиграл молчаливую битву. Он был поставлен перед жестким выбором – либо продолжать очаровывать поклонников сказками Востока, баснословными расцветками и расценками, либо упростить язык элитарного искусства. В период Великой войны и сразу после нее модельер лишился многих своих клиентов, и было абсолютно бессмысленно надеяться на поредевшую и поседевшую старую гвардию. И значит, был только второй путь – редукция, как того требовали байеры, как того требовала торопливая джазовая эпоха, жившая на ходу, одевавшаяся впопыхах, бросавшая беглый взгляд на витрины лишь для того, чтобы поправить макияж. Восхищенно рассматривать детали не было времени, да и желания тоже.
Примерка у Поля Пуаре
Фотография Б. Липницкого,1925 год.
Фонд А. А. Васильева
«Русские» сапоги Денизы Пуаре
1913 год. flickr.com
Платье Поля Пуаре с вышивками в народном вкусе
Начало 1920-х годов. Фонд А. А. Васильева
И Пуаре пошел на компромисс – предложил упрощенные авторские копии роскошных туалетов. Повинуясь законам презренного рынка, рекламировал эти компромиссные наряды в лучших модных журналах. В 1917 году он напечатал даже отдельную брошюру, бедненькую, с черно-белыми фотографиями «подлинных копий», подробными описаниями, ценами и грифами модного дома, гарантировавшими аутентичность красоты нового образца, купированной до средних американских стандартов.
Человек импульсивный, по-восточному противоречивый, зависимый, как все творцы, от рынка и клиенток, он неожиданно почувствовал легкое влечение к «ульям без пчел», о которых доселе говорил с презрительной иронией. В начале двадцатых в его коллекциях появились модели для безгрудых «гарсонок» – дневные и вечерние платья с прямо скроенным лифом, бретелями или прямоугольным вырезом, строго элегантные черно-белые пальто, шелковые блузы и прямоугольные сарафаны. Впрочем, он никогда не «оплощал» женщину до листа картона и вместо коротких прямых юбок предлагал непременно полные, со многими складками, собранными у талии. Этим они напоминали знаменитые robe de style Жанны Ланвен.
Поль Пуаре.
Вечерний ансамбль 1928–1929 годы.
Музей Метрополитен (Нью-Йорк)
Но все это были редкие уступки, сделанные Парижским пашой тяжело, с глубоким вздохом, через силу, по контракту для американцев и по принуждению чернобелого усастого Совета директоров, с 1924 года управлявшего его модным домом.
Пуаре обожал театральные эффекты, пыль и пудру сцены, шумные огненные версальские ночи, травестию, маскарад, продуманные драгоценности и бесценное безумство. С картинным достоинством обедневшего идальго он бросал подачки, спортивные коллекции, опрощенные «авторские копии», в сторону хищных негоциантов, продолжая беззастенчиво наслаждаться роскошью своих закатных, своих последних дней.
Он много выдумывал. Народный стиль, которым в начале двадцатых увлекались парижане, Пуаре ловко сочетал с простыми геометрическими формами дневных туалетов. Предлагал платья с широкой пестрой бретонской юбкой, наряды из шелка ecossais («шотландский») и клетчатого бархата, шляпки-клоши с легкими заимствованиями из индейского стиля, ловкие белые сапожки со многими складками, которые справедливо называли «русскими». Их создал по заказу Пуаре сапожник Фаверо еще в 1913 году, и они стали необычайно популярными в двадцатые благодаря Денизе, везде их носившей, а также моде на русских эмигрантов.
Пуаре забавлялся историей. Выискивал в ней что-то порядком забытое и создавал новое – драматичное, придворное, непременно барочное. Так, в 1922-м порадовал Денизу вечерним платьем «Ирудри» – богатым, затейливым, из ломкого ламе. Полуприлегающий лиф, юбка в пол, на бедрах плотный валик, то ли панье, то ли вердугаден. В общем, как всегда у Пуаре, изящное, но витиеватое высказывание на историческую тему – о византийском горячем золоте мозаик, итальянском Возрождении, испанских Габсбургах. Он баловал клиенток платьями-«кринолин» и платьями «Боттичелли», туфлями «Карл X» и «Людовик XV». И конечно же, античностью – сорочками-паллуллами, сорочками-хитонами, балахонистыми пеплосами, ладными туниками с золотыми ресницами амуровых стрел.
И он не мог без Востока. Грузная парча, рыхлый бархат, кровавый шелк, затейливая вышивка в китайском и османском вкусе, рукава-«копыта» и рукава-«пагоды», гомон многоцветья, пышные ароматы. И при этом простой крой, скупой, сверхэкономичный, который Пуаре настойчиво прививал европейской моде еще в десятые.
Зимняя куртка от Поля Пуаре
1926 год. Фонд А. А. Васильева
И конечно, он совсем не мог без маскарадов. Каких только не придумывал. В 1919 году – «Праздник цирка», «Праздник нуворишей» и «Праздник на дне морском». В 1921-м по заказу принцессы Мюрат – «Бал попугаев» в парижской Опере. В 1924-м участвовал в грандиозном «Китайском бале» – его, наряженного мандарином, очень эффектно в тряском паланкине внесли в здание Оперы четыре безмолвных раба.
Поль Пуаре. Пальто в китайском вкусе
Около 1923 года.
Фотография Ричарда Хотона.
Электронный архив Института костюма в Киото. http://www. kci. or.jp/archives/digital_archives
Но, пожалуй, главное, что удалось Пуаре в сложные для него двадцатые, – это грандиозная по размерам и вложенным личным средствам рекламная кампания собственного модного дома. Три шоурума – три баржи, пришвартованные на Сене у моста Александра III. А названия! «Любовь», «Орган», «Наслаждение». Не названия даже – императивы: любите роскошь, внимайте моде, наслаждайтесь ароматами.
На барже «Любовь», расписанной синими гвоздиками, раскинулись райские кущи дизайна – столовая, гостиная и спальня, созданные домом «Мартин». «Наслаждение», вся в расписных алых анемонах, представляла собой парфюмерный бутик, в котором погружались в волшебные плотные и плотские запахи компании «Розин». В ресторане баржи подавали изысканные блюда, в которых Пуаре тоже знал толк – еще в 1919 году он основал и возглавил «Клуб истинных ста», членами которого были самые капризные гурманы Европы. Баржа «Орган» стала плавучей галереей мод. На одной ее сцене, в окружении панно Рауля Дюфи, дефилировали манекенщицы в нарядах от Пуаре, на другой, большей по размеру, устраивали сеансы цветомузыки при помощи необычного органа. При нажатии клавиш на экране появлялись цветные геометрические формы, сродни тем, которыми тогда увлекались декоративные авангардисты и авангардные декораторы.