Тайна царя-отрока Петра II Алексеева Адель
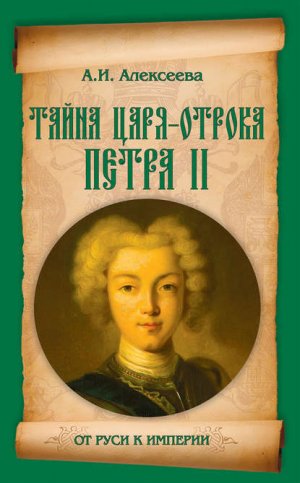
Так звали отца и мать юного Петра II. С давних пор русские цари искали союза с европейскими монархами, а самый краткий тут путь – браки с именитыми наследниками. Так же поступил и Пётр I: в невесты своему сыну выбрал немецкую принцессу Шарлотту.
Как правило, браки те не были счастливыми, дети несли печать родителей на своей судьбе. Брак Алексея и Шарлотты был следствием дипломатических переговоров Петра I, польского короля Августа II и австрийского императора Карла VI, причём каждый из них хотел получить свою выгоду из семейного союза династии Романовых и древнего германского рода Вельфов – он был связан множеством родственных нитей с правившими тогда в Европе королевскими домами.
Принцесса Шарлотта надеялась, что её брак с «варварским московитом» не состоится. Но он состоялся, и с первых же дней возникло непонимание. Несогласие дошло до того, что царевич стал советовать ей уехать от него в Германию. «Если б я не была беременна, – писала Шарлотта своей матери, – то уехала бы в Германию и с удовольствием согласилась бы там питаться только хлебом и водою. Молю Бога, чтоб Он наставил меня Своим Духом, иначе отчаяние заставит меня совершить что-нибудь ужасное…»
Историк Костомаров писал, что «царевич жил в Петербурге с женою, а принцесса имела свой двор», окружена исключительно немцами; между нею и Русью не образовалось ни малейшей связи. При ней постоянно была её подруга, вооружавшая принцессу и против русских, и против мужа. Невыносимыми казались для немок грубые приёмы жизни и обращения. Жизнь Шарлотты отравлялась разными огорчениями и лишениями. Принцесса постоянно нуждалась, не могла правильно платить своей немецкой прислуге и брала в долг у купцов.
Она рано умерла, и Пётр I после её смерти объявил публично, что сын его дурно обращался с женою. Царевич, убегая сообщества немилой жены, проводил время со своими русскими приятелями, и особенно любил общество духовных, беседовал с ними о религиозных предметах, о разных видниях, которым от души верил, а также пьянствовал с ними, быть может, с горя, как русский человек. В минуты откровенности, вызываемой излишним вином, царевич высказывал чувства: «Вот, – говорил он, – чертовку мне жену навязали! Как к ней приду, всё сердитует, не хочет со мной говорить! Всё этот Головкин с детьми!.. Коли буду у власти, то быть голове его на коле, и Трубецкому… они к батюшке писали, чтоб на ней мне жениться».
«Для чего, – замечали ему, – ты так говоришь? Подслушают». «Я плюю на всех, – говорил пьяный царевич, – была бы мне чернь здорова; когда время будет без батюшки, я шепну архиереям, архиереи священникам, священники прихожанам, – так они не хотя меня властителем учинят!»
Когда его звали на какой-нибудь парадный обед у государя или у князя Меншикова или на спуск корабля, он говаривал: «Лучше бы мне на каторге быть или в лихорадке лежать, чем туда идти!»
В 1714 году царевича отпустили в Карлсба для лечения. Он оставил в Петербурге беременную супругу, уехал в Германию, лечился в Карлсбаде, занимался там чтением церковной истории и делал из неё выписки. Всё это касалось обрядов, церковной дисциплины, спорных пунктов между Восточной и Западной церковью.
Немецкая родня невесты Алексея хорошо знала, что его женили насильно, что Алексей, как русский человек, поддерживаемый соотечественниками, отказывался от брака с немкою. Однако брак этот был совершён 14 октября 1711 года по воле царя и в его присутствии.
После брачных пиршеств Пётр послал царевича для собрания провианта в Польшу; там молодая чета прожила вместе с полгода, нуждаясь в деньгах, а потом, в 1712 году, Пётр велел ехать в Петербург. Кронпринцесса пришла в ужас. «Моё положение, – писала она родителям, – гораздо печальнее и ужаснее, чем может представить чье-либо воображение. Я замужем за человеком, который меня не любил и теперь любит ещё менее, чем когда-либо… царь ко мне милостив; его жена под рукой вредит мне всевозможным образом, ибо она ненавидит меня столько же, сколько мне приходится её опасаться, т. е. более, чем можно себе вообразить».
О русском народе, среди которого ей предстояло жить, она составила себе самое невыгодное мнение. Не нравились ей русские нравы, нечистоплотность. «Не говорю уже о том, – писала она, – что лютеране в их глазах не много лучше самого диавола, – они столько их ненавидят и считают себя осквернёнными их прикосновением…» К такому взгляду на круг, в который бросила судьба Шарлотту, присоединилось ещё то обстоятельство, что служившие при её дворе распустили слухи о двусмысленных отношениях кронпринцессы к одному молодому придворному, эти слухи внушали подозрения даже родным Шарлотты. Всё это было причиною, что, вместо поездки в Петербург, она под предлогом неимения денег уехала к отцу…
12 октября 1715 года Шарлотта родила сына Петра, а через десять дней скончалась.
Ещё до своего разрешения от бремени принцесса предсказывала свой конец, а после разрешения, которое совершилось довольно легко, с досадой слушала поздравления, говоря, что лучше было бы, если бы вместо пожеланий они молились Богу о кончине её. Кронпринцесса перед смертью написала к царю Петру I письмо, исполненное благодарности, а своему гофмаршалу Левенвольду поручила донести её родным, что она, пребывая в России, всегда была довольна, что со стороны государя не только всё было исполнено по брачному контракту, но ещё и сверх того оказаны были ей различные милости.
Шарлотту похоронили в Петропавловском соборе через шесть дней после смерти.
В доме царевича, где должно было происходить поминовение по усопшей, царь вручил царевичу публично письмо.
Свекровью Шарлотте приходилась первая жена Петра I Евдокия Лопухина. Царь её не любил за некие провинности и сопротивление его реформам и оттого отправил в монастырь. Однако она имела смелость называть себя императрицею. И когда наследником престола объявили Петра II, она писала письма своему царственному внуку. Вот одно из этих писем:
«Державнейший император, любезнейший внук! Хотя давно желание моё было не токмо поздравить Ваше Величество с восприятием престола, но паче Вас видеть, но по несчастию моему по сие число не сподобилась, понеже князь Меншиков, не допустя до Вашего Величества, послал меня за караулом к Москве. А ныне уведомилась, что за свои противности к Вашему Величеству отлучён от вас; и тако приемлю смелость к Вам писать и поздравить. Притом прошу, если Ваше Величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть Вас и сестру Вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей. Евдокия Лопухина».
Отцом юного императора (которого вскоре должны короновать) был, как уже сказано, сын Петра I царевич Алексей. Личность сложная, неоднозначная, упрямый противник петровских реформ. О судьбе его и кончине написано много, а мы приведём редкие документы из шереметевского архива. Однако прежде вообразим, какой диалог мог бы состояться у царя с его самым уважаемым сподвижником, фельдмаршалом Шереметевым, как раз перед обсуждением в Сенате вопроса о судьбе сбежавшего за рубеж царевича.
Ш.: Дело царевичево не только в том, что он бежал, а в том, что старая Русь поддерживает его, не готова она на европейские новшества. Боятся люди потерять облик свой.
П.: В чем облик тот? Сидеть неподвижно, словно брюква в земле?
Ш.: Брюква-то брюква, но из неё морковь не вырастет, да и время для роста своё, быстрее не вызреет.
П.: Хочу я, чтоб европейское, лучшее у нас распространилось, чтобы фабрики, заводишки, искусства развивались, чтобы грамоте учился народ.
Ш.: Справедливое то дело, и учиться, и строить корабли, фабрики надобно, да только и дух народный не след забывать. Дух его да вера – основа могущества государства… И насчёт наследования престола царского закон есть: сынов своих жалеть, готовить к власти.
П.: Закон – не стенка, за которую слепой держится! Надобно думать, что после себя оставить. Умри я – кто поведёт корабль российский и куда? Знаете, скольким болезням подвержен ваш царь… Останется Алексей – вы первые моему делу измените, за ним назад побежите.
Ш.: Время надобно и мера, скоро ничто у нас не делается, дух народный, его свычаи-обычаи, песни, сказки, предания нельзя забывать, они питают людей. Вспомни времена Самозванцев: уже Москва пала, присягнули Лжедмитрию, и Шуйский умный не сладил дело, а как князь Пожарский поднял народный дух – так и выгнали супостатов.
П.: Я ли не делал чего для народного духа? Одна Полтава чего стоила! Однако не одно воинское достоинство надобно поднимать, надо, чтоб культура, науки, знания были, чтоб не обжирались на чужих поминках русские гости, а историю не только свою – древнюю знали.
Ш.: Однако Венеры да Марсы не заменят Троицу и Дом Пресвятой Богородицы – так говорят царевичевы сторонники, и есть в их словах правда.
П.: Да вы что, не знаете, что и Лопухин, и Глебов сознались, покаялись? А какие письма привёз Скорняков из Суздаля!
Ш.: Эх, Пётр Алексеевич! Какие показывали, а какие и не показывали тебе письма… Что рыщут за твоей спиной – передадут ли допросчики?.. Вон ходят слухи, что Щербатов сказал правду, – так ему язык велят отрезать…
П.: Слухи, слухи… Над слабыми умами они власть имеют. В детстве моём пустили по Кремлю слух, что Иван, брат мой, убит, и ударили в набат, поднялись стрельцы; вышла матушка с сынами на руках – и стихло, но снова кто-то слух пустил, что Иван Нарышкин – изменник, и убили его. Вот от какой малости власть зависит.
Ш.: Веришь ли, государь, что Глебов к трону хочет пробраться? Веришь ли, что царевич хотел против тебя с чужеземцами идти?.. Да и был ли заговор-то? Подумай: ежели прольётся напрасная кровь, грех на душу возьмёшь, и падёт та кровь на все поколения Романовых.
П.: Что же, оставить то дело злодейское, не судить? Не бывать этому! Царевича, сына своего, я простил за чистосердечное признание, но Кикина – никогда! И суздальский розыск не оставлю. Вот мой указ – подписуйся!
…Тяжело было гусиное перо, которым подписывали господа сенаторы тот указ.
Царевича Алексея из-за границы привёз Толстой. Алексей оказался в Москве, в Преображенском. Всё перепуталось у него в голове: ночь – день, утро – вечер, сон – явь, видения – предметы… То уснёт не ко времени, на закате, то ломает глаза об чёрные стены и замрёт в тишине, задрожит… Не находил себе покоя, почти не вставал с постели, лежал, забившись в угол, подтянув тощие колени к подбородку, сжимая костяшки пальцев… А то вскакивал, бросался в угол, к иконам, бился головой об пол, чуть не на крик повторяя молитвы… Матушку свою – слава Богу! – ничем не выдал: не посылала, мол, его в чужеземные страны, не желала смерти государю, не имела мечтания сесть на троне. Иное дело – Кикин, Лопухин, Афанасьев…
Если засыпал, то совсем ненадолго, и снилось что-то страшное, а иной раз – крылья ангельские за спинами страдальцев. Или наплывали сцены из Неаполя и Вены, и в красотах тех городов являлись чудища.
Единым спасением от кошмаров казалась Ефросинья, мысль о ней только и утешала. Милая его отрада! Ни глаз больших, ни бровей насурьмлённых, ни реверансов томных, никакой особой красы, голова гладкая, как яйцо, но как улыбнётся толстыми своими губами, взблеснут глазки, захохочет (зубы – точно вложенные в кокошник жемчуга), так и расцветает душа Алексея.
Горьким был день, когда расставались в Риме: он поехал через Инсбрук, она – по более спокойной дороге, сам настоял, ведь была она на четвёртом месяце, тяжёлая. Писал ей с дороги: «Матушка моя, маменька, друг мой сердешный Афросиньюшка… береги себя, ехай неспешно, Тирольские горы каменисты, и чтоб отдыхала где захочется, и денег не жалела, а купила коляску покойную».
Привезли его в Москву. Допрашивали в Кремле.
Сенаторов своих Пётр сам через занавеску наблюдал: что сказывают, каково держатся?..
Пётр Андреевич Толстой – умная голова, верная рука – извлёк-таки царевича из иноземных стран…
Вот непринуждённо, легко ступил на порог Ягужинский, незнатный, но умный поляк, первый кавалер на ассамблеях, прокурор. Вот Меншиков, минхерц, ненавистник Алексея. Как-то ему, замешанному в казнокрадстве, Пётр пригрозил низвести «в прежнее состояние», тот не растерялся: надел фартук, явился с коробом пирогов, вот, мол, я в прежнем состоянии, – и Пётр простил его.
Склонив голову под притолокой, вошёл Головкин – «коломенская верста», сел, достав неизменные чётки (успокаивает нервическую свою натуру), скуповат, даже жаден, однако знает царскую службу…
Долгорукий – честен, прям, но горяч, как всё его семейство…
Шафиров Пётр Павлович – вице-канцлер, хитёр, умён, любезен, только ростом маловат да растолстел в последнее время, – этот непременно поддержит царя.
Склонясь у притолоки, еле передвигая ноги, выплывает Борис Петрович, граф, – он себе на уме и гордец! – в последние недели не показывается, бегает от Петра, яко Нарцисс от Эхо… Знатен! Здравый разум имеет, золотой середины держится. Однако в политике золотой середины не бывает…
Наконец все собрались. Пётр покинул своё укрытие и, быстрым шагом подойдя к столу, заговорил короткими, рублеными фразами:
– Ведомо вам, господа министры, что признались – Иван Афанасьев, Никифор Вяземский, Александр Кикин, Глебов Степан, отец Досифей – в своих крамолах. Ведомо вам, что задумали супротив царской власти… Ежели не вырвем злодейский корень – все дела наши прахом пойдут…
Царевича содержали в Преображенской тюрьме. Потом повезли в Петербург – там должно быть главное судилище.
В архиве С.Д. Шереметева обнаруживаем такой документ:
«По поводу отречения Царевича Алексея де Бие говорит: “Позволю себе почти положительно утверждать, что все русские, к какому бы сословию они ни принадлежали, разделяют эти чувства: нет ни малейшего сомнения, что, пока жив Царь, всё будет иметь вид покорный и послушный, но если Царевич Алексей будет жив в то время, когда Царевич Пётр не достигнет ещё известного возраста (малолетний сын Петра I. – А.А.), можно предвидеть, что Россия будет подвергнута большим волнениям. Страшнее всего, что здоровье Царя шатко и что наследник престола Царевич Пётр весьма слабого сложения, и нельзя рассчитывать на продолжительность его жизни. Ему теперь 1 года, но он ещё не говорит и не ходит и постоянно болен…
(Окончательный приговор по делу Царевича Алексея произнесён был в Петербурге 24 июня 1718 года. Первая подпись на нём: “Александр Меншиков”.)
Когда все члены суда заняли свои места и все двери и окна были отворены, дабы все могли приблизиться, видеть и слышать, Царевич был введён в сопровождении четырёх унтер-офицеров и поставлен насупротив Царя, который, несмотря на душевное волнение, резко упрекал его в преступных замыслах. Тогда Царевич с твёрдостью, которой в нём не предполагали, сознался, что не только хотел возбудить восстание во всей России, но что если Царь захотел бы уничтожить соучастников его, то ему пришлось бы истребить всё население страны. Он объявил себя поборником старинных нравов и обычаев, так же как и веры, и этим самым привлёк к себе сочувствие и любовь народа.
В эту минуту Царь, обратясь к духовенству, сказал: “Смотрите, как зачерствело его сердце, и обратите внимание на то, что он говорит. Соберитесь после моего ухода, вопросите свою совесть!”
Царевич, оставшийся во всё это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после всего отвезён обратно в крепость…
В донесении де Лави французскому министерству говорится: “Царевич Алексей, сын Петра, о котором много говорили, заключён два дня тому назад в крепость; уверяют, что со времени его возвращения между бумагами государственных преступников нашлись письма, из которых оказалось, что он замышлял против жизни своего отца; мне передали, что в прошлую субботу Царь позвал его в Сенат и там, обнимая его, сказал: “Я тебе отец, а ты мне сын: как же ты, несчастный, хотел меня убить? Вот, – прибавлял он, – доказательства”, – и показал ему бумаги. Царь не мог удержаться от слёз и, после того как сын просил у него прощения, предал его епископам и прочим духовным лицам, чтобы судить его преступления как можно умереннее”».
Первая речь Петра II в Верховном совете
Да, тяжёлая наследственность досталась Петру II. Судьбы матери он не помнил, об отце знал мало. Но всё вместе должно было наложить на него печать.
Детство, лишённое радостей, рождает робкий или угрюмый нрав, к тому же самодержавная вседозволенность (даже при властном Меншикове). Плюс капризы переходного возраста! Всё это – не лучший подарок для юного императора, – такое трудно вообразить!
Пётр строен, высок, здоровый румянец на щеках, лицо продолговатое, напоминает несчастного царевича Алексея, а голубыми глазами – мать, принцессу Шарлотту. Его можно назвать и красивым, кабы не хмурое, насупленное выражение.
Всё в его жизни определялось тяжким крестом рождения. Постоянно слышал он назойливые голоса – высокие и низкие, хриплые и певучие, требовательные и укоризненные, голос мачехи Екатерины, опекуна Меншикова, воспитателя Остермана и Ягужинского, Черкасского и Голицына… Но откуда знать, кто из них истинно думает о его благе? И ещё: постоянно слыша похвалы деду – великому Петру, император-мальчик казался себе рядом с ним ничтожным… Тем не менее царевичу читали умные книги из греческой и римской истории, и они питали его мечтаниями о том, что может сделать император для своих подданных, и нередко предавался благим порывам. По ночам любил смотреть на небо, и звёзды представлялись ему подданными его, которых он мог осчастливить.
Этими порывами была наполнена первая речь юного царя в Верховном совете. Её можно назвать образцом доброжелательства и готовности сделать страну процветающей. Вот эта речь:
«Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобресть славу доброго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желаю оказывать покровительство бедным, облегчить всех страждущих, выслушивать невинно преследуемых, когда сии станут прибегать ко мне, и, по примеру римского императора Веспасиана, никого не отпускать от себя с печальным лицом».
Речь свою Пётр II произнёс 21 июня 1727 года на заседании Верховного тайного совета.
Что случилось с царём-отроком после смерти Екатерины? Он вырос, раздался в плечах, несколько огрубел лицом, а ещё изменился его характер: стал раздражителен, порывист, настроение его менялось необъяснимо…
Он был окружён умелыми, переменчивыми, не согласными друг с другом сановниками, но ещё не знал, что высшая ступень государственной лестницы – это место интриг и боевых поединков. Все делали вид, что покорствуют юному императору, но что скрывалось под маской ласкателей и царедворцев?..
Заправляет всем пока ещё Меншиков, но уже выступают вперёд Долгорукие, и на всех смотрит умными глазами Остерман. (Стоит взглянуть а его портрет, написанный Таннауэром, который писал Петра I на смертном одре. Как лукаво, чуть прищурившись, обводит он всех глазами – и ничто не ускользнёт от его глаз!)
В июне двадцать седьмого года в Петергофе был устроен бал. Солдаты, гвардейцы маршировали под музыку, стреляли из пушек, пускали фейерверки, а вечером – ассамблея по петровским заветам: бал и танцы…
Красочное, необычайное зрелище представляла зала с танцующими парами! Длинные и пышные наряды делали дам высокими, крупными, мужчины же в коротких камзолах казались мелковаты, но зато столь ярки их одежды! Не было и не будет, должно, столетия, в которое бы мужчины ходили в костюмах, столь щедро расшитых диковинными узорами, цветами, колосьями, в белых и розовых чулках, в туфлях, украшенных драгоценными пряжками, в завитых, надушенных париках. Ещё не вышли из употребления чёрные голландские парики, но многие красовались с белыми локонами.
Дамские юбки были подобны великолепным распустившимся цветам, а талии, затянутые в корсеты, – стеблям. Тонкие кружева обрамляли шею и руки; платья натянуты на каркас, или корзину из китового уса, носившую название «панье». А какие затейливые сооружения на головах! Этакие архитектурные сооружения из кружев, лент, стрекоз и бабочек, и носили они французское название – фонтанж.
Как ценили люди удовольствия! Они словно вырвались из узких теснин Петра I. Одевались со смыслом, ладно двигались, на особый манер снимали шляпу, доставали табакерку.
«Танцует Катерина Долгорукая, ласкаясь к иностранному посланнику Миллюзимо, капризная девица», – думает Остерман. А глядя на Елизавету, дочь почившей императрицы, размышлял: «Славная наследница трону! Соединить бы их с Петром…»
Пётр тоже смотрит на неё, явно любуется, кажется, она – единственная, кто вызывает на лице его улыбку. Впрочем, нет, есть ещё одна фигура, способная заразить юнца весёлостью, – это Иван Долгорукий.
Один из сыновей князя Алексея Григорьевича Долгорукого, брат Катерины, член, можно сказать, самого сильного клана, князь Иван сблизился с царевичем, ещё при жизни Екатерины I бросился к нему в ноги и поклялся служить верой и правдой. Они не раз бывали вместе на охотах, и князь даже нёс царевича на руках, когда тот упал с коня и повредил ногу.
…В тот июньский день Пётр II, прихрамывая, подошёл к окну, глянул на дорогу, и нетерпение отразилось на его лице: где он, отчего нейдёт Иван?
С той поры, как появился Иван, от него исходили истинная верность, жизнелюбие, в его присутствии наследник делался улыбчивым и мягким. С ним можно беспричинно веселиться, играть, спорить о том, что надобно России. Была у Ивана ещё удивительная способность появляться в тот именно момент, когда очень нужен.
Отчего, однако, нейдёт он теперь? Есть нужда, поговорить надобно про Меншикова, а его всё нет и нет. Пётр снова подошёл к окну и увидел подъехавшую к крыльцу знакомую карету. Ваня!
И вот они уже сидят обнявшись, и Пётр говорит о самом сокровенном:
– Ваня, как бы желал я сделать нашу страну богатой, а народ – послушным и небедным… Когда меня коронуют, – мне же всё доступно, правда? – я всё для того сделаю. Ты что так долго не был?
– Я? – рассеянно, весь в своих мыслях, отвечал князь. – Я был у Шереметевых!
– А-а… Мне понравилось в их Фонтанном доме, славная графинюшка.
Для Ивана тоже теперь дорогим домом стал Фонтанный дворец – счастливый случай помог тому. Отправилась раз Наташа Шереметева одна, не спросясь у брата, на Невскую першпективу, в аптеку, а выходя из аптеки, поскользнулась, упала – тут её подхватил бравый молодец, брови широкими чёрными дугами, глаза с огнём, – князь Иван. Спросил, где её дом, – и повёз на Фонтанку.
В доме уже поднялась хлопотня – слуги высыпали на крыльцо, бабушка замерла у окна. Спаситель взял её на руки, и, пока нёс ко крыльцу, видела она перед собой его весёлые чёрные глаза, а о боли в ноге позабыла. И была как заворожённая. Он не отводил взора от её серьёзных серых глаз, ласково улыбался, а потом слегка прижал к себе и коснулся губами пальцев. Она смутилась, заалела, смущённая его смелостью, и вспыхнула.
– Куда нести прикажете сей драгоценный груз? – спросил князь у бабушки.
– На второй этаж, в мою комнату, – велела она.
Как пушинку, взметнул он её в угловую комнату – и, раскланявшись, представившись князем Иваном Долгоруким, удалился.
У бабушки было уютно, всё дышало стариной – сундучки, рундуки боярские, шкатулки, пяльцы, вышиванье на резном столике, парчовые нити… Руки её всегда чем-нибудь заняты. Вынула она тонкий шёлк, пяльцы, иглу и принялась вышивать «воздух» – пелену, вклад свой в Богородицкий монастырь (монастырь этот с давних пор опекали Шереметевы). Внучка лежала на диване кожаного покрытия, а бабушка восседала в кресле с львиными головами. Прежде чем взяться за иголку, достала табакерку, взяла щепоть табаку, нюхнула, с чувством чихнула и, высоко откинув голову, произнесла:
– Отменный молодой князь Иван Долгорукий… Глаза крупные, огненные, только рот мал – как у девицы… А всё ж таки есть в нём что-то от старого знакомого моего Якова Долгорукого.
Наталья ждала, что бабушка скажет что-нибудь о молодом Долгоруком, но у той были свои резоны обращаться к сей фамилии, и резоны тайные.
– Знатный был человек дядя его!.. – говорила она. – Ходил статно, как истинный боярин, но бороду сбрил рано, ещё до повеления царя Петра. Держал себя как гость иноземный, а сколь подвержен придворному этикету! Ручку поцеловать али цветок поднести – это пожалте!.. Ежели кто говорит, никогда не перебьёт… Истинный галант!.. – Лицо Марьи Ивановны посветлело. – А красоту как любил! Помню, приехал к нам в Фили, к зятю моему Льву Кирилловичу Нарышкину, – в аккурат кончили тогда храм строить. Уж как любовался той церковью, как хвалил, даже на колени пред нею опустился и землю поцеловал…
Наталья слушала бабушку, а виднелись ей чёрные ласковые глаза, сухие и горячие руки, и словно чувствовала жар, исходивший от них.
Марья Ивановна перекрестилась:
– Прости меня, Господи!
– Простит, простит тебя Господь! – воскликнула Наталья и понизила голос: – А Иван Алексеевич не похож на дядю своего?
За окном опустились ранние петербургские сумерки, прокрались в комнату.
– Иван-то Алексеевич? – вздохнула бабушка. – Ох, далеко, должно, ему до Якова Фёдоровича. Одно слово – фаворит. Всё ему дозволено, а сам ещё молод, без понятия… Феофан Прокопович его ругмя ругает. Шалун, охальник! По ночам на коне скачет, людей будит… Впрочем, языки людские злы, откуда сведать правду? Одно говорят, а иное – в деле… От нынешних-то, молодых, я отстала, все они мне хуже наших кажутся… Про Якова-то Фёдоровича, смотри, никому не сказывай, я только тебе, а ты помалкивай… – Марья Ивановна прикрыла глаза: то ли погрузилась в воспоминания, то ли уснула.
Грезила в тот вечер и Наталья – зелёный мундир, горящие на морозе щёки, брови-полумесяцы, губы на её руке… И, как бы сбрасывая наваждение, встрепенулась, рассердившись на себя. Что она, ума лишилась? Как могла глаз не отвести, руки не отнять? Матушкины заветы позабыла. Обещала фамилию свою высоко держать, а доверилась первому встречному оттого лишь, что он галант… А ну как слух пойдёт, что Шереметева графиня, дочь высокородного господина, честь свою позабыла? Князь на руках её таскал, балясы с ним разводила, а коли до братца сие дойдёт? Ведь Петруша – всему дому господин, дома хозяин…
Не знала она, что происходило в те дни с князем Иваном. Не знала, как сдружился с ним юный император, и как зол за то на него Меншиков, и что началась между ними чуть ли не война.
Давид и Голиаф
Ночи стояли белые, а у Дарьи Михайловны Меншиковой на душе была чернота – её одолевали дурные предчувствия. Две дочери сидели за пяльцами и шили-вышивали, а молодой княжич, сын, подыгрывал им на скрипке. Голоса были полны печали, песня протяжная:
- На той да на долине
- Вырастала калина.
- На той ли на калине
- Кукушка вскуковала.
- Ты о чём, моя кукушечка, кукуешь?
- Ты о чём, моя горемычная, горюешь?
Пение смолкло, и Дарья Михайловна завела разговор о Петре Великом, как умел он наставить на ум своего фаворита, указать на его излишества-перелишества. А про себя думала: не знает её Алексаша ни в чём меры, вообразил себя королём-императором, принимает посланников, целый рой их по утрам жужжит, словно пчёлы, возле дома, и всех готов скрутить в бараний рог; между тем недруги, небось, расходы его изрядные подсчитывают, сколь домов в Москве, в Петербурге… Помолвка Марьи расстроена, государыня Екатерина скончалась – что станется с ними со всеми? А ну как юный Пётр станет подобен Давиду?
Дарья Михайловна пыталась урезонить мужа:
– Остановись, Данилыч! Постой! Зачем тебе власть безмерная, к чему стремиться наверх? Ближе к трону – ближе к смерти, Алексаша, миленький мой!
Но светлейший и впрямь возомнил о себе: грубил и тем ещё более злил своих недругов.
Кто-то (уж не Остерман ли, учитель?) сказывал, что Меншиков отказал царскому камердинеру. Какое право имел Данилыч отменить указание царя, зачем наказал его камердинера?
Дарья Михайловна непрестанно уговаривала любимого мужа:
– Что нас ждёт всех, а ну как молодой император рассердится…
Только не слушал её дорогой муженёк. Она плачет и рыдает, а он знай своё:
– Не боюсь богатых гроз, а боюсь убогих слёз! – и вон из комнаты.
…Пётр I прорубил окно в Европу, можно сказать, даже двери. Но при открытых дверях возникают сквозняки не только в европейской части России, но и по ту сторону Урала. Демидовы, Строгановы, уральские заводчики, поучившись в Европе, понесли учёные новшества в Сибирь.
При открытых окнах иностранцы тоже валом повалили в загадочную Россию. Кто из любопытства, кто в погоне за длинным рублём. Одни – на время, другие – навсегда. Брали себе русскую фамилию, имя, женились на русских и… оставляли подробные эпистолярии об увиденном. К примеру, француз Вильбоа Франсуа де Гильмот в России стал Никитой Петровичем Вильбовым. Он, видимо, имел склонность к писательству, обожал вести записки по следам разных событий, коим был свидетелем или слышал рассказы очевидцев. Вот что он писал, в частности, о Меншикове:
«Первое, что сделал Меншиков как искусный политик, было уверение юного царя в важности услуги, ему оказанной, и внушение недоверчивости ко всем; так что царь не мог уже считать себя безопасным, не передавши Меншикову звания правителя государства и генералиссимуса армии… Другое дело Меншикова состояло в немедленном обручении царя со своей дочерью. Церемония совершилась без всякого явного спора со стороны сенаторов и других знатных людей, к ней приглашённых. Они присутствовали, не смея дать ни малейшего внешнего скрываемого ими неудовольствия. Для достижения сего успеха Меншиков удалил от дел и двора многих, не скрывавших отвращения своего от предложенной женитьбы и могших тому воспротивиться, иные были даже сосланы в Сибирь за выдуманные преступления. Или не знал Меншиков нерасположение к нему князей Долгоруких и графа Остермана, или не считал их опасными, но только он не предпринял ничего против них, повелевая ими как властитель, не знавший других законов, кроме своей воли. Неприлично обращался он и с самим царём, который был ещё весьма юн. Меншиков стеснял его в самых невинных удовольствиях… Словом, Меншиков правил вполне Россиею… Он занимался только приготовлениями к свадьбе своей дочери».
Мелкие обиды, недоразумения между Петром II и Меншиковым копились, копились – и разразилась гроза! О последних спорах написал генерал Манштейн:
«Не помню, по какому случаю, цех петербургских каменщиков поднёс императору в подарок девять тысяч червонцев. Государю вздумалось порадовать ими сестру, и он отправил к ней деньги с одним из придворных лиц. Случилось последнему повстречаться с Меншиковым, который спросил его, куда он несёт деньги. На ответ придворного Меншиков возразил: “Государь, по молодости лет, не знает, на что следует употреблять деньги, отнесите их ко мне, я увижусь с государем и поговорю с ним”. Хорошо зная, как опасно противиться воле князя, придворный исполнил это приказание. На другое утро царевна Наталья, по обыкновению, пришла навестить брата. Только что она вошла к нему, как государь спросил её, разве не стоит благодарности его вчерашний подарок? Царевна отвечала, что не получала ничего. Это рассердило императора. Приказав призвать придворного, он спросил его, куда девались деньги? Придворный извинялся тем, что деньги отнял у него Меншиков. Это тем более раздражило государя. Он велел позвать князя и с гневом закричал на него, как смел он помешать придворному в исполнении его приказания? Не привыкший к такого рода обращению, князь был поражён как громом. Однако он отвечал, что, по известному недостатку в деньгах в государстве и истощению казны, он, князь, намеревался сегодня же представить проект более полезного употребления этих денег, и прибавил: “А если вашему величеству угодно, то не только прикажу возвратить эти девять тысяч червонцев, но даже дам из собственной своей казны миллион рублей”. Государь не удовольствовался этим ответом. Топнув ногою, он сказал: “Я покажу тебе, что я император и что я требую повиновения”. Затем, отвернувшись, ушёл, Меншиков пошёл за ним и так упрашивал его, что он на этот раз смягчился, но мир продолжался недолго».
…Сентябрьским днём (в самом начале месяца) 1727 года «полудержавный властелин» почувствовал неладное. Он вошёл в свой богато обставленный кабинет, плотно прикрыл дверь, задвинул тяжёлую гардину и зажёг свечи в шандале – теперь он был прочно отгорожен от внешнего мира, так ему лучше думалось.
В длинном бархатном кафтане, в мягких сапогах скорым шагом пересёк кабинет, резко повернулся и – назад. Заложив руки за спину, хмуро глядя на роскошный восточный ковёр, прохаживался по кабинету.
Остановился перед зеркалом: лицо его ожесточилось, появились язвительная ухмылка и две глубокие морщины возле рта – не осталось и следа от весельчака, который покорил когда-то Петра Великого. Ямка на подбородке длинного лица углубилась, волосы топорщились, и всем своим обликом напоминал он старого льва.
Было о чём подумать всемогущему властелину! То возвращался мыслью он к Петру Великому – как тяжко тот умирал, как мучила его мысль о том, что все начинания его придут в забвение…
И, конечно, терзался собственной судьбой. Зашаталась под ногами у светлейшего земля… Он ли не воспитывал Петрова внука, он ли не держал его в строгости, как приказывал Пётр? Денег лишних – ни-ни, играми тешиться много не давал, об здоровье его заботился более, чем об собственном сыне, в ненастье на прогулку не выпускал.
Помня заветы Петра, хотел вести Россию по европейскому пути – наши-то ещё и без ножей-вилок за столом обходятся, а как упрямствуют!
Меншиков шагал по кабинету, заложив за спину сильные, цепкие руки. Хмурил брови, мягко вышагивая в татарских сапогах. Не было слышно шагов его за закрытой дверью, а походка напоминала поступь зверя, почуявшего опасность…
Вот он остановился возле шандала, загадал: ежели одним дыхом погасит все свечи – быть добру, выдаст дочь за императора, станет властелином ежели нет, то… Остановился поодаль, набрал воздуху, дунул, но… то ли слишком велико расстояние, то ли волнение овладело – погасли только две свечи.
Меншиков обернулся вкруг себя, словно ища виновника этакого казуса и стыдясь за себя. Затем рванул колокольчик, дёрнул штору, она неожиданно оборвалась, обрушилась – и вельможный князь выругался…
Пётр II и в самом деле становился нетерпимым – то горяч и вспыльчив, то ревнив и мрачен. Он понимал, что большинство знатных невзлюбили Меншикова, называют его выскочкой, что это злобит Долгоруких.
А тут случилось ещё одно непредвиденное событие, но весьма значительное… Как пишет генерал Манштейн, Меншиков допустил большую ошибку. Двор уже переехал в Петергоф, а он, воспользовавшись небольшой болезнью, остался в своём имении:
«…Он поехал в Ораниенбаум, загородный дворец свой, в восьми верстах от Петергофа. У него тут строилась церковь, которую он хотел освятить. На эту церемонию приглашены были император и весь двор. Но как врагам Меншикова недаром грозила месть его в случае примирения его с государем, то они научили последнего отказаться от приглашения под предлогом нездоровья, что он и сделал».
Как унижался светлейший, встретив царя! Как умолял его забыть про худое, вспомнить про великого деда, у которого Александр Данилович был фаворитом!
Но у Петра II ещё не остыла обида за те червонцы для сестры. Тут оказалось, что портреты своих родственников Меншиков велел занести в царский альбом. Когда же император, полный добрых порывов, заговорил о бабушке своей Лопухиной, что он желал бы пригласить её в Петербург, Меншиков возразил. Возможно, светлейший думал о заветах своего минхерца, об опасности возвращения к прежним российским порядкам… Тут Пётр II потребовал, чтобы обсудили сие на Верховном совете. Совет поддержал императора, и Меншиков принуждён был согласиться, но – было уже поздно!.. Карта князя была бита, крах, который предчувствовала Дарья, случился!
Наконец юный царь показал характер: он просто бежал из дворца светлейшего, а в Верховном совете сказал такую речь, которая разрывала все отношения с Меншиковым:
«Понеже Мы, Всемилостивейший император, намерение взяли от сего времени сами на Верховном тайном совете присутствовать и всем указам отправленными быть за подписанием собственной руки нашей и Верховного тайного совета… того ради повелели, дабы никакие указы и письма, о коих бы делах отныне не были, которые от князя Меншикова… не слушать и по оным отнюдь не исполнять, под опасением нашего гнева… О сём публиковать всенародно во всём государстве и в войсках…»
Так повторилась ветхозаветная история о молодом Давиде и о Голиафе, великом силаче филистимлян. Давид положил в пращу камень и бросил в Голиафа, сразив великана ударом в лоб.
На другой день около полудня приехал генерал Салтыков с приказанием взять из дома Меншикова царскую мебель и перенести в Летний дворец…
…В сентябре 1727 года во дворце раздался грохот, словно явилась рота солдат. Дарья выбежала, всплеснула руками, говорит: мол, князь хворый, но фельдъегерь подаёт бумагу с печатью.
Данилыч слышит, однако не выходит из комнаты.
Через полчаса Дарья решается заглянуть, и ей предстаёт странная картина: Меншиков не лежит с хворями, а стоит возле шкафа и держит сундучок со своими орденами и медалями.
– Батюшки! Да что хоть с тобой?
Он невозмутимо:
– Складываю ордена и награды, которые мне великий Пётр дарил. Знаю, что скоро придут за мной и вышлют…
…И вот уже меншиковская кавалькада выезжает с Васильевского острова. Возглавляет её четверня белых коней и карета, в которой сидит светлейший. Он отправляется в изгнание, однако, горделиво поглядывая кругом и улыбаясь, кланяется всем… На нём дорогой кафтан, меховая шапка с красным околышем, парик…
Александр Данилович был уверен, что едет в своё рязанское имение Раненбург. Не зная ещё, что столь простой ссылкой не кончится задуманное против него дело… В толпе стояли и Наташа Шереметева и её подруга Варя Черкасская, они отыскивали глазами бедную Марью Меншикову.
– Не дай Бог никому такого, – шептала Наталья, и в сердце её кольнуло от дурного предзнаменования.
Неподалёку из окна наблюдала опальное шествие Катерина Долгорукая. Глядела она зорко, не без злорадства: был ты безродный, Данилыч, безродным и станешь, не знаешь, что место возле трона следует занимать старинным династиям, а ты…
Политика политикой, но амуры амурами, и Катерина крикнула служанке: «Одеваться! Быстро!» Она спешила на свидание к Миллюзимо. Ах, какой это любезник, какой кавалер! Ухаживает, ручки целует, цветы подносит – не то что наши олухи стоеросовые!
Перед отъездом Марье Меншиковой принесли записку от любезного её сердцу человека. Чувствительная сердцем, она вздрогнула: случилось что-то неладное? Молодой император сам отказался от неё, уж не о том ли записка Фёдора Долгорукого?
Нет, князь верен ей, а писал лишь о том, что надо увидеться, что едет он далеко, по морскому делу. Как сие не ко времени! – ведь судьба семейства Меншиковых на тонкой нитке.
Принарядившись, Марья поглядела в зеркальце: головка как ромашка, личико бледное – понравится ли Фёдору? Влюблённые встретились, но не было у них времени ни для вопросов, ни для уверений. Руки крепкие, лицо загорелое, губы… И сладко, и совестно, и страшно – дух захватило. Он не выпускал её из рук. Времени было мало, оно ушло на поцелуи, а для слов остались только последние минуты: «Люба моя, светик мой! Марьюшка дорогая! Знаешь ли ты, что прощаемся мы с тобой надолго? Меня отправляют далеко-далеко». – «Я тоже еду, а куда – не знаю». – «Не тужи! Всё едино, я найду тебя, люба моя!»
Фёдор Долгорукий уезжал через три дня, а Меншиковы днём позже, так что Фёдор даже не мог помахать Марье рукой.
Зато на Невском, в доме Голицына, собрались князья. И у Долгоруких – тоже. Изгнание Меншикова! – никто не скрывал, что захвачен зрелищем, открывшимся на дороге.
Меншиков ехал, красуясь как на параде. Князь Алексей Григорьевич усмехался. Василий Лукич улыбался краешком губ. Иван Алексеевич охвачен был двойственным чувством, в котором смешались жалость к светлейшему и смятение перед бренностью власти. Не случится ли так, что завтра на смену Меншикову вот так же кто-то ещё покинет город?.. Он и осуждал властолюбца, и сожалел о том, что Верховный совет не внял его просьбе, – ведь князь истинно захворал, просил об отставке, хотел повиниться. И ещё смутное чувство собственной вины шевелилось в Иване Долгоруком: Василий Лукич и Остерман пугали государя чрезмерной властью Меншикова и его, фаворита, подбивали на то же…
Из состояния задумчивого смущения князя вывел Голицын, предложив ему бокал. Они чокнулись. Дмитрий Михайлович сказал:
– Неумеренная власть сгубила светлейшего, да ещё жадность к деньгам. Однако не отнимешь у него ума… А в молодые годы – какая счастливая была у него физиономия!
– Зависть его чрезмерно велика… Ежели бы она обратилась в горячку, так мы все бы померли от неё, – засмеялся Василий Лукич.
Но всё же и он тайно омрачён был мыслью о собственной судьбе: кто близок к трону, тот ходит по канату… Неведомо ещё, чем кончится дело Меншикова: ссылкой ли в собственное имение? Или вышлют его в самый дальний край, в Сибирь?..
Да, дело меншиковское раскрутилось. Потеряв всех слуг, ценности и кавалерию в пути, будет он выслан в край вечной мерзлоты, городок Берёзов… Минует ещё три года, и князь Иван Долгорукий, Наташа Шереметева по иронии судьбы и истории тоже окажутся в Берёзове… Мало того: спустя несколько лет туда же попадёт Остерман, умный и деятельный вельможа. А князь Иван будет слушать рассказы берёзовских старожилов про Александра Даниловича и удивляться. Но до той поры ещё целых три года…
- Суждены нам благие порывы…
Никто из петербургских обитателей не знал, не ведал, что из одного тёмного окна наблюдал меншиковскую кавалькаду Яков Брюс.
Дом был почти пуст – жену Маргариту и многую часть скарба два месяца назад отправил он в Москву; более в Санкт-Петербурге делать нечего, надо перебираться в подмосковную усадьбу Глинки. Остерман, вездесущий Андрей Иванович, дал ему совет купить у князя Алексея Долгорукого ту усадьбу: мол, бывал там, видел – усадьба понравится Якову Вилимовичу. Он быстро спроворился, съездил, оглядел всё – ландшафт, воды, положение относительно Полярной звезды, ну и недра, конечно, – и сделка состоялась.
А в тот сентябрьский день, как и все знатные люди новой столицы, Брюс засмотрелся, не зажигая свечей, сперва на горделивое шествие меншиковского семейства, на карту звёздного неба, а потом изучал положение светил и как будут определять они будущее Российской империи.
Да, эра светлейшего князя кончилась… Два года руководил он супругой Петра Великого и пять месяцев – внуком его, служил ему, однако – в чужую голову не вложишь умных мыслей. Да и воспитание, малая грамотность с чрезмерным тщеславием сгубили Данилыча. Как говорят в России, «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано».
Что скажет умное звёздное небо? Чья власть возобладает над несчастным наследником? У Долгоруких – сила в Верховном тайном совете. Хитроумный Остерман вёл себя как друг Данилыча, однако вскоре понял, что сие против желания вельмож. Ох, Андрей Иванович (думал Брюс), долго ты продержишься возле трона, переживёшь ещё пять-шесть монархов и полумонархов! Мне такие штуки не по характеру, я человек прямой, а ты, друг мой, первым желаешь быть при власти.
Задумал женить Петрушу на его тётке Елизавете – пара хоть куда, оба красавцы, пусть она старше по годам, зато «племянничек» на голову выше, – и план Остермана втайне одобряли многие, вот только Церковь всё решила: запрет в Писании на такой брак! Вот и лопнула твоя затея, Остерманчик!
С Долгорукими он тоже в дружбе и согласии – как был, так и останется главным учителем наследника. Славно, конечно, да только неизвестно, в какую сторону у того нравственное развитие пойдёт.
Звёзды, звёзды, вы всемогущи! Весы – славный знак для правителя, да ведь в звёздах ошибаются астрологи. В XVI веке жил Нострадамус, нагадал королю Генриху смерть на турнире, а тот остался жив, и фармацевту-предсказателю чуть не сняли голову… А ведь был великий прорицатель и ясновидящий.
Что такое ясновидение? Брюс, кажется, приближается к сему, даже составил формулу: точное знание объекта (хотя бы на одну треть), плюс познание сердцем, плюс интуиция и – сильное напряжение всего существа. Брюс это делал и по старинным книгам, и по особым картам, разными способами…
Но что, однако, ждёт Россию впереди? Как повлиять на судьбу, да и возможно ли это?
Брюс и тут, кажется, вывел формулу: есть воля ума и логики – и есть воля судьбы и фатума, и нельзя препятствовать ни одному из них. Кто живёт только логикой и умственными планами – схоласт и сухарь. Кто следует только воле судьбы, не умеет к ней хотя бы чуть приспособиться – тот в проигрыше. Если бы к этой формуле прислушался (или дошёл до понимания её) Пётр-наследник!.. Ах, если бы…
Князь Алексей Долгорукий, похоже, нарисовал логический план действий. А Меншиков жил по второй схеме – творил, что желал его темперамент.
– Однако, – произнёс вслух Брюс, – похоже, что Долгорукий пойдёт тем же путём: попробует женить наследника на одной из своих дочерей… Ага! Но и его ждёт крах на том пути!..
А это чей образ выплывает из-за третьей фазы Луны? Что за старческая, бабья физиономия? И какое окружение! Золото, бриллианты, генеральские мундиры!.. Ба, да это же коронация! И добрый от природы царь-мальчик обнимает старушенцию?.. Да уж не Лопухина ли это Евдокия, первая жена Петра I? Значит, отрок отпустил её из монастыря, дал слуг, пенсион… Опять же вездесущий Остерман говорил Брюсу: мол, читал письма Лопухиной, диктовал ответы. Они полны выспренных слов: «Дражайший внук, державный император… желаю видеть Вас, по горячности крови моей, и сестру Вашу, внуку, любезную Наталию, прежде кончины моей». Внук под диктовку своего учителя отвечал в том же духе. Только, похоже, особых родственных чувств они не испытывают…
Что показывают звёзды об их будущем? О-о! Да никак старая ведьма переживёт и Петра и Наталию!.. Вот ещё беда! Может быть, звёзды всё же ошиблись?..
Уже было за полночь, когда Брюсу явилось видение, которое заставило его вздрогнуть, – на широком ложе лежала обнажённая красавица Елизавета и миловала царя-отрока! Неужто интрига Остермана сработала? Горе бедному вьюноше! Славная пара они с принцессой, дочерью Петра, да ведь поиграет и бросит его эта красотка, а у него навсегда заноза в сердце останется. Ой, не пришло бы ему в голову пуститься во все тяжкие… Или – потерять вообще охоту к жизни…
И тут новое видение: в опочивальню входит Иван Долгорукий, Петруша вскакивает в негодовании, чуть ли не бросается на своего фаворита…
Ох, беда, из благих намерений Остермана может выйти большая беда!
Яков Брюс схватился за голову двумя руками и закачал ею из стороны в сторону…
Коронация
Коронация Петра II была назначена на 25 февраля (8 марта) 1728 года. Пока не свершилась церемония, наследник истинный – ещё не царь. Все ждали этого дня, но особенно старая столица Москва. Это событие чрезвычайное, жданное и желанное. Устроители коронаций всегда стремились удивить, покорить народ! Пётр I, когда короновал свою «Катеринушку», устроил пир на весь мир. На кремлёвской площади поставили два рундука, на которых уложены были жареные быки колоссальных размеров, начинённые внутри разного рода птицею. Тут же, рядом с уложенными быками, били два искусственных фонтана, извергавшие один – белое, другой – красное вино…
…Близится час коронации! Курьерские тройки мчатся по Тверской. Народ толпится на заснеженных улицах – глазеют, ждут царского поезда.
Поют-веселятся в Москве наособинку: такую похвальбу устраивают, такие выкрутасы придумывают, что любо-дорого послушать:
- На деревьях – пироги,
- На кустах-то пряники!
- А у вас – не как у нас:
- У нас курицы поют,
- Петухам воли не дают!
- У вас – петухи поют, спать не дают,
- А у нас: ел – не поперхнулся,
- Лёг – свернулся, а встал – встряхнулся…
Солнце позолотило купола, заблистали сугробы, снега московские, – а солнце так и играет в небе, не менее восьми лучей посылая на землю…
Площадь возле Девичьего поля полна народу. Ждут!
Уже позади Пречистенка, подъезжают к Новодевичьему монастырю… На поляне разбиты палатки, шатры. Лошади стоят, запряжённые и в простые сани, и в сани богатые, убранные медвежьими да плюшевыми покрытиями.
Юный царь-государь полон благих чувств. Он сделает своих подданных счастливыми. Он освободит свою бабушку Евдокию Лопухину и даст ей всё, что она пожелает. Он разрушит преображенскую избу, где сидел его отец, царевич Алексей. Сердце его ширится от добрых мыслей и дел…
Первая жена Петра I, мать царевича Алексея, Евдокия Лопухина – что за женщина?
Много о ней написано, наговорено, много напраслины возведено. Или не всё то напраслины?
Историк Костомаров писал:
«Пётр женился на Евдокии Фёдоровне Лопухиной тогда ещё, когда ему было шестнадцать лет. Он женился так, как женилось тогда множество людей: собственно, не он женился, а его женили. Его женила мать. Несмотря на обычность такого рода женитьбы в русской жизни, брак Петра был не похож на браки предшествовавших царей, его предков, потому что последние, благодаря слагавшимся обстоятельствам своей жизни, выбирали себе жён по собственной воле. Едва ли Пётр выбрал бы ту, которую ему дали, если бы его не женили, а он сам женился. Впрочем, первые года его супружества, насколько нам известно, прошли спокойно; плодами супружеской связи Петра с Евдокиею были двое сыновей; из них меньшой, Александр, умер скоро после своего рождения; старший, Алексей, родившийся 18 февраля 1690 года, пережил своего брата себе на горе».
«Царица Евдокия Фёдоровна была простая русская любящая женщина. В её письмах, где она выражает свою грусть в разлуке со своим “лапушкой”, слышится простодушное искреннее чувство.
Историки пытались объяснить, что Евдокия не могла удовлетворить духовным потребностям Петра по своей узкости, закоренелости в предрассудках, приверженности к старине, богомольству, праздности и т. п., что гениальная натура великого преобразователя требовала чего-то иного, высшего, более развитого, нуждалась в такой женщине, которая бы могла его понимать, на что неспособна была дочь Лопухина… Нам кажется, ларчик проще открывается. Пётр поступил так же, как поступал обыкновенно русский удал добрый молодец, когда, по выражению песни, зазнобит ему сердце красна девица или “злодеюшка чужа жена” и станет ему “своя жена полынь горькая трава”.
Не чувствовавши влечения к Евдокии при выборе её в жёны, Пётр, может быть, и сжился бы с ней, если бы не приглянулась ему в Немецкой слободе Анна Монс. Пётр не умел сдерживать своих страстей и, как самодержавный царь, не считал нужным себе отказывать в чём-либо.
В Евдокии Лопухиной больно отзывалась эта перемена. В письмах она жаловалась царю, что не видит его; жаловалась и своему отцу, своим родным, а те изъявляли неудовольствие царём. Это длилось около четырёх лет.
Но, будучи за границей, из Амстердама и из Лондона Пётр поручал Льву Нарышкину и Стрешневу уговорить царицу добровольно уйти в монастырь. А возвратившись из-за границы, призвал царицу и сказал ей: “Как смела ты ослушаться, когда я приказывал неоднократно письмами отойти в монастырь, и кто тебя научил противиться?” Через три недели после того Евдокию повезли в карете в Суздаль и заключили в Покровском девичьем монастыре…
После царствования Ивана Грозного в семейной жизни московских царей не происходило ничего подобного. Цари Фёдор, Борис, Шуйский жили согласно со своими жёнами. Вступила на престол новая династия, дом Романовых; первые цари из этого дома, один за другим, отличались безупречной семейной нравственностью. Царская семья в глазах народа показывала образец богобоязненной жизни.
Явился на престоле Пётр – и началась ломка, перестройка государственной, общественной, домашней жизни. Царь – бомбардир, каменщик, плотник, кузнец, лекарь, законодатель, учитель – всему сам даёт почин… Невольно на память приходит Иван IV Грозный…»
Было о чём подумать юному Петру II перед коронацией и во время её. Действительно ли Евдокия Лопухина в Суздале завела полюбовника Глебова? Бабушка, похоже, с характером, она перечила царю, писала ему укоризненные письма, мол, «от печали по нём она истинно умирает»… Где правда? Как искупить грехи близких? Бабушку, пребывающую теперь в Новодевичьем монастыре, он освободит из заточения, взглянет в её глаза – может, там он что-нибудь увидит и поймёт? Пётр II въезжал в Новодевичий монастырь, оглядывал толпу на площади…
Кто это? Никак, Наталья Шереметева, которую, кажется, полюбил Иван Долгорукий, сказывала она, что в Новодевичьем сидела царевна Софья, ранее – Ирина Годунова, а ещё Елена Шереметева, супруга сына Грозного… Нет, Пётр II не станет столь жестоко обращаться с подданными и никого из женщин не посадит в заключенье!..
Так размышлял император, входя в ворота монастыря, в Смоленский собор. Рядом был Иван Долгорукий, вельможи, генералы, сановники, священники…
Помолившись в Смоленском соборе, царь вышел, а навстречу ему идёт бабушка Евдокия Лопухина. Объятия, поцелуи… слёзы… Лицо у неё бледное, одутловатое, а царь-отрок – на загляденье великодушен, добр, ядрёный цвет на щеках, глаза светлые, радостные.
Наталья Шереметева «углядчива»: заметила, как настороженно глядит «бабушка» на принцессу Елизавету – ведь это дочь её соперницы, мерзкой иноземки… В лице милого царя замечает она не только радость, но и глубоко запрятанную печаль. Бедный! Каково держать скипетр и державу в этаком юном возрасте!.. Оба они сироты, ни отца, ни матери, по судьбе – как брат и сестра.
Иное дело – Иван Долгорукий, сидит, как заноза, в её сердце, чернобровый красавец… Ах, не заметил бы, что она глаз с него не спускает! И Наталья спряталась за чью-то спину.
Самые главные часы во всей коронации – служба в Успенском соборе, проповедь священников, моление о благополучии царствования Петра II. Подданным, сановникам и самому царю внушались мысли о неземном происхождении его власти, о богоданном праве его повелевать своими подданными.
Яков Брюс тоже получил приглашение на коронацию, а скептицизм его всегдашний подсказывал: титул свой получил царь рано, ещё не сформировался характер, а уже вседержавный царь!
В душе государь помышлял, должно быть, о том, чтобы скостить недоимки у народа, дать ослабу Малороссии, а ещё… Ещё надобно непременно уничтожить Преображенский приказ, где дед содержал его отца, быть может, пытал…






