Тайна царя-отрока Петра II Алексеева Адель
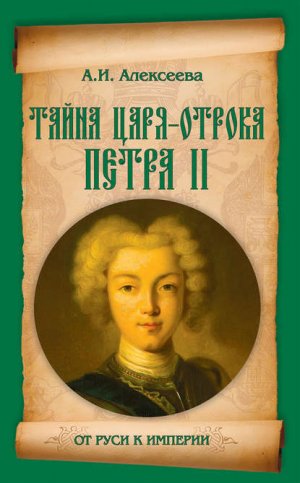
Свадьбу решили играть 19 января. И не только потому, что за день до того Наталье исполнялось шестнадцать лет, но оттого, что на тот же день назначена государева свадьба, а двойные свадьбы, известно, к счастью.
Три праздничных дня пролетели быстро, и Долгорукий вновь вернулся в лефортовский дворец. А Наталье пришло время навещать своих сродников. В первую очередь дядю Владимира Петровича, который по нездоровью своему отсутствовал в день помолвки. Отправилась она туда с младшим братом Сергеем.
Дядя был уже на своих ногах, сердечная боль отпустила – и бурно выражал радость. На столе лежала простая еда: холодная говядина, капуста, квас, любимое дядино желе из клюквы. Он потребовал подробного отчета, как прошёл сговор, и Наташа охотно о том поведала (а потом описала в своих «Своеручных записках»):
– Ах, дядя, вправду сказать: редко кому случалось видеть такое знатное собрание! Вся императорская фамилия была на нашем сговоре, все чужестранные министры, все знатные господа, весь генералитет. Столько было гостей, сколько дом наш мог вместить… Ни одной комнаты не было пустой… А подарков сколько!.. Петруша поднёс Ивану Алексеевичу серебра пудов шесть – старинные великие кубки, фляги золочёные!.. Когда мы выходили – простой народ запрудил улицу, и крики стояли, и славили меня: «Слава Богу! Господина нашего дочь идёт за великого человека! Восславит род свой и возведёт братьев на степень отцову!»
– Вот и славно… – раздумчиво заметил Владимир Петрович. Он подвёл племянницу к шкафу. – Вот, – взял в руки большую гербовую бумагу с начертанными на ней рисунками, знаками – родословное древо Шереметевых. – Дай Бог тебе внести в сие древо достойных потомков! И помни всегда девиз: «Бог сохраняет всё».
Дядя стар и болен, однако ничуть не утратил энергии и жизнелюбия. К тому же стал изрядно говорлив. Подобно всем петровским дворянам, которые вели суровую походную жизнь, а на старости лет забирались в свои вотчины или московские дома и отлёживались там, любил рассказывать молодым о деяниях предков. Он и сегодня пустился в воспоминания:
– Рохлей али пентюхов в нашем роду не было! Чести искали на полях сражений, и забота их не о себе была, а об России… Борис Петрович, батюшка ваш, будучи окружён турками, помню, приподнялся на лошади и крикнул солдатам: «Аль прорвёмся мы чрез поганых турков, аль не быть нам всем живы!» С умом и строгостью управлял предок ваш войском, однако не хуже того был и в мирной, домашней жизни. Смолоду себя к узде приучал, натягивал вожжи характера своего! Не чета мне, я-то кипуч, горяч… Вы, молодёжь, учитесь с младых ногтей уму-разуму… А ты, Натальюшка, когда в чужой семье будешь, – крепко себя держи. Долгорукие-то вон какое великое семейство, ежели не по-ихнему – загрызут. Ты им с первого дня достоинство своё покажи. Свёкор твой мёдом не мазан, иглы так и топорщатся… однако Иван добрый молодец и собой пригожий… Ежели не ссорно жить – так всё ладно будет…
Сергей, мечтавший о военной службе, попросил:
– А расскажите, дядя, про Василия Борисовича.
– Про Василия Шеремета? О, храбрее его в нашем роду вроде и не было! С охотой вспоминаю его… Да-а… Что самое замечательное в походной жизни его? Как он три дня у Белой Церкви неприятеля теснил! У него тридцать пять тысяч войска, у них семьдесят тысяч – поляки тогда с татарами соединились, у Шеремета половина русских, половина черкесов да калмыков – как они за русского царя воевали, как кричали и взвизгивали – удержу не было! Шереметев во главе и всеми любим!.. И победил бы он всенепременно, кабы не изменники да не предатели. Тьфу, поганцы сатанинские!
– Как почитаешь, как послушаешь, – с наивностью заметил Сергей, – так диву даёшься: история вся – только войны да походы…
– А ещё, – подхватил дядя, – доносы да вероломства… Простой человек, правда, и без вероломства проживёт, а кто близко к трону – тот только того и жди… Уж какой верный слуга Ивану Грозному был наш Иван Васильевич Большой! Казань, Ливонию, Крым воевал, и поди ж ты, тоже стал неугоден… Нашёлся человек лядащий, написал на него донос – и всё, гневу царскому края не было… Скрылся тот в Белозёрском монастыре, но Грозный и там его настиг, в цепи велел заковать, железа пудов десять навесить на шею да ещё и письма писал поносные. Не приведи Господи!.. Немилость царская, донос да топор вострый – только того и жди!
Наталья подумала о молодом государе: что-то с ним станется?
Владимир Петрович помолчал, однако долго унывать он не умел и не без озорства добавил:
– Да и пусть! Лишь бы сердце своё не отягчить виною перед отечеством да перед Богом! А цари да слуги на том свете поклонятся нам… Мы, Шереметевы, просты, упорны, позитур разных не ведаем, однако нрав имеем мирный, несклочливый. Ежели кто к царю с глупостями лезет, урезоним. Ежели государь велит на войну идти – готовы… А дела у нас, как молодая брага, играют.
В камине догорало. Вылетали искры, слышались шорохи падающих обгорелых поленьев. Дядя ворошил их.
Владимир Петрович протянул руку племяннику, тот помог ему встать. Поднялся так, что заскрипели диванные пружины, и подвёл гостей к наугольному столу, на котором лежало что-то, завёрнутое в холстину, развернул.
– Хочу передать вам… отцу вашему принадлежавшее… – Приподнял подсвечник, и предстала картина в чёрной раме с тёмным, еле различимым изображением. – Читайте, что тут надписано: «Кортын… Страстотерпец Георгий…» А вот ещё одна. – Он скинул покров со второй картины: – «Кортын… Филист, персона крыласта…» Картины сии старого малевания… Пусть хранятся у вас! – и вручил каждому по «кортыне»…
Под конец беседы с дядей Наташа уже сгорала от нетерпения – как-то там Иван Алексеевич? Как государь-император? Что творится в доме Долгоруких?
Вспомнили, как Брюс сказывал мифологическую историю про Лаокоона, как хотел тот предупредить Трою о спрятанных в деревянном коне воинах, но змеи подползли к нему и умертвили… А ну как Долгорукие (не Иван, конечно!) принесут горести государю?..
Счастливый тот день помолвки Наташи омрачился такими думами. Вспомнила ещё и гадание Брюсово: про цветок, из которого пчела нектар выпивает, а цветок вянет…
День Богоявления, Крещение Господне.
А между тем Россия вступила уже в страшный свой 1730 год. Ещё немного, и скажет своё последнее слово главная повелительница XVIII века – смерть… А пока старая столица веселится по-молодому. Люди живут шумными гостеваньями, на столах красуются запечённые утки, гуси, а в знатных хоромах – фазаны и куропатки, украшенные белыми крыльями.
По причине великих морозов печи топили два-три раза на день и из печей таскали пироги. Иной раз к столу подавали до десяти сортов разных пирогов. Гости еле поднимались, вздыхали: «Охо-хо-нюшки, накормили меня, яко гуся рождественского!» – отлёживались день-другой, и снова всё сначала. Особенно не по себе делалось от тех гостеваний иноземным людям, важным посланникам, кои уже собирались в Москве, чтоб принять участие в свадебном обряде императора.
Алексей Григорьевич ошалел от счастья: ещё недели две – и он государев тесть!.. Братья его упивались общим почитанием. Василий Владимирович, фельдмаршал, сдерживал своих неразумных сродников, но Василий Лукич не разделял его благоразумия, мол, род ихний исстари ценили за деятельный характер, войдут они ныне в великую силу, как и положено. Князь Иван Алексеевич проявлял завидное проворство и сметливость. Княжна же Катерина пребывала в заботах о свадебных нарядах-украшениях, от неё не выходили портнихи и ювелиры, в том числе и Пелагея, без которой она, как взяла её от Брюса, не обходилась.
Единственный человек, с чьего лица не сходила печальная озабоченность, был император. В самый разгар связи его с Катериной расхворалась сестра Наталия – 11 ноября она скончалась. Он же, еле дождавшись сороковин, под давлением Долгоруких через восемь дней объявил о своей помолвке. Петра мучило раскаяние – уж не оттого ли заболела сестра, что лишилась жизненной силы, увидав забавы его в доме Долгоруких?
Другая мысль, глодавшая его сердце, была участь отца и деда. В один из первых дней января император велел запрячь сани и отправился в Сокольники; случилось проезжать мимо бывшего Преображенского приказа – приказной избы. После коронации велел он уничтожить пыточную избу, а теперь хотел поглядеть, что там… Остановили лошадей, он вышел… Приказная изба была разрушена, но следы сохранились: торчали железные прутья, лежали остатки заиндевевших брёвен. Долго стоял Пётр, думая об отце, об участи августейших особ, и казались они ему невольниками несчастного отечества… А потом бросился к саням и велел гнать скорее на Басманную, к Богоявленскому собору… Войдя в церковь, встал не на царское место, а в боковом приделе, и долго молился, поминая ушедших предков и прося за них прощения у Бога…
Императора называли мальчиком, а он чувствовал себя старым. В нём видели богатырские задатки, он и в самом деле был находчив, сообразителен, но не уверен в себе. Как в глубине выросшего на худой почве дерева что-то разрушается, гниёт, червоточит, так и юного Петра постоянно омрачала некая мысль. По ночам снились беспокойные сны…
Пятого января 1730 года днём, вернувшись из Нескучного сада, где катался с принцессой Елизаветой, Пётр лёг отдохнуть и заснул. Проспав короткое время, открыл глаза, вскочил, но никак не мог вырваться из удушающего дурмана.
Что ему снилось? Будто дворец его – зверинец… Всюду клетки и звери, а у зверей – человеческие лица, и все к нему тянутся, клацают зубами, царапают когтистыми лапами. У чёрного медведя лицо Меншикова, рыжая лиса сходна с Катериной, а князь Василий Лукич – вылитая обезьяна… Пётр проснулся, но тут же снова повалился на диван, и опять охватило его сновидение. На этот раз явилась женская фигура в белом платье. Сестра, стоя за колонной, укоризненно глядела на него и манила пальцем. Он кинулся, в тот же миг она исчезла, скрывшись за колонной. Он водит руками, а там – никого, только туман… И вдруг – усатая голова, кот, говорит человеческим голосом: «На тебя я, друг мой, надеялся, а ты… Россия без отца сирота…»
Мечется во сне император, перекатывается с боку на бок, не может проснуться… Так и застал его Долгорукий – сел Пётр на постели, обхватил голову руками и мычит что-то нечленораздельное.
– Просыпайтесь, Ваше Величество! – бодро воскликнул Иван Алексеевич, только прискакавший от Натальи Шереметевой.
Тот закачался на кровати, застонал:
– Какой сон мне привиделся, Ваня!.. Ох, какой сон… – И стал пересказывать.
Долгорукий, не дослушав, рассудил:
– Сестра приснилась? Так ведь ушла за колонну, не позвала за собой – значит, и ладно, простила…
– Виноват, виноват я перед ней, Ваня… Твои-то сродники насели: объяви да объяви про невесту, а то, что Натальюшка моя в лихорадке, нипочём… А зверинец, зверинец-то к чему, Ваня?
– Ваше Величество, всё пустое! Звери и есть звери, что с них взять?.. Наплевать да и забыть сон сей!.. Скажите лучше, Пётр Алексеевич, какие ваши дела-заботы на завтрева? Ведь водосвятие, потом – Крещение.
Не без резона спрашивал о том Долгорукий: назавтра Шереметевы звали их вместе с государем к себе на Воздвиженку.
– Завтра? – переспросил царь рассеянно. – Помнишь, в Евангелии как написано? «И открылось небо, и Святой Дух в виде голубя сошёл на Христа, и послышался голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение…»[2] К чему спрашиваешь? На водосвятие на Москве-реке гулянье, где царю место в такой день? Всеконечное дело – где народ, на реке, когда будут воду святить…
Царь всё ещё был во власти сновидения:
– Ваня, а ведь кота-то я видел… Усы у него так и топорщатся, сам сердитый и говорит человеческим голосом: «На тебя я, друг мой, надеюсь, а ты…» Ваня, ведь это он! – Пётр поднял вверх палец. – Он спрашивал, исполняются ли его законы, а у нас законы только те, которые к веселию направлены, со тщанием исполняются. Велел он указы исполнять, к деловой жизни и учёности направленные, дьячкам приказывал учить латынь, прочие науки, а они?.. Нет, неладно живём мы, Ваня…
Мысль о Петре Великом для Петра малого постоянно оборачивалась укором. Но царский любимец – потому и царский любимец, что знает, как отвлечь государя от мрачных мыслей: надобно говорить что-нибудь, балагурить. И Долгорукий, немалый мастер почесать языком, продолжал балагуры. Между делом ввернул и про Шереметевых, мол, приснилась ему Наталья Шереметева в обличье царевны-лягушки, что возле церкви была она, а церковь видеть – к свадьбе, вот какой сон, в руку!.. Едем завтра к Шереметевым!
– Запряжём сани да и поедем! – наконец взбодрившись и хлопнув себя по коленям, проговорил молодой государь и поднялся.
Вечером перед праздничным днём, Крещением, Наташа Шереметева молилась. Не за себя, не за жениха – нет, она молилась о государе: больно холодные дни, а надобно ему быть на Москве-реке, принимать народ, открывать празднование. И читала страницы в Писании о Крещении, об Иоанне Крестителе, молилась:
«В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное… Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидел же Иоанн… идущих к нему креститься, сказал им: “Я крещу вас в воде… но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём…” Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: “…так надлежит нам исполнить всякую правду”. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него…»[3]
Утром Наталья встала чуть свет, накинула пуховый платок, сунула ноги в белые валеночки и кинулась во двор, к амбарам и погребицам. Сам государь будет у них нынче в гости! Надобно отобрать съестные запасы, наготовить угощений, проследить за всем. Сопровождали её три служанки.
Клетей и подклетей, сараев и амбаров в шереметевском дворе множество, и чего только там нет! В сараях – сёдла и узды, вожжи и оглобли, епанчи и попоны для лошадей. В амбарах крупы, отруби, мука разных сортов, перины, мешки меховые, холщовые пологи, обмотки, войлок. В клетях и подклетях – бочки, корчаги, фляги великие, горшки с молоком, сыром, сметаной, чаны с квасами да медами, ведёрки с лимонами, со сливами, вишни в патоке, красная рыба в рогоже… И везде чистота, и нигде худого воздуха, всякую неделю тут проверяют, не завелась ли плесень; ежели завелась – верх сливают, добавляют свежего рассолу, пускают в дело – ничто не пропадало в шереметевском хозяйстве. Пётр Борисович сам требует отчёта.
Молодая хозяйка впервые сама отбирала продукты и передавала их дворовым девушкам.
– Держи, – она протянула Дуняше бутыль, доверху набитую крохотными рыжиками, – глянь, какие бисерные!.. А вот клюква – государь жалуют клюкву в меду.
Спустившись в ледник, отобрала самых жирных гусей – что за ужин без гуся, запечённого в тесте? Иван Алексеевич не так гуся, как зажаренную корочку уважает.
На кухне кипела работа – топились печи, бурлило варево, потрошилась птица. А Натальино место теперь в гостиной – надо было проследить, как накрывают стол. Оглядев, хороши ли скатерти, какова посуда, побежала она на второй этаж, к бабушке. Вчерашний день нездоровилось ей, а как нынче? Захватив клюквенного морсу, с улыбкой влетела к Марье Ивановне.
В бабушкиной комнате время словно бы останавливалось. Эти старинные сундучки, воздух, домотканые изделия. Поставив морс, Наташа приобняла бабушку, спросила:
– Каково сердце-то?
– Ай, ничего, внучка, с моим сердцем ничего не станется до самой смерти, – отмахнулась Марья Ивановна. – Сядь-ко да погляди, чего я нашла. Эвон какое полотенце, матушка моя ещё вышивала… – Она развернула чуть тронутое желтизной полотенце с чёрно-красными петухами, вышитое крестом. – Рукодельница она была – страсть какая! В прежние-то годы всякая девка, царских ли кровей али подлого рождения, чуть не с детства приданое себе готовила, ткала, вышивала, шила. А это, матушка моя сказывала, вышивала она, когда невест для Алексея Михайловича выбирали… Знамо ли тебе, каково это делалось?
И хоть недосуг было молодой хозяйке, села она на маленькую скамейку возле кровати бабушкиной и выслушала её рассказ, как по весне и по осени привозили невест со всех краёв российских. В разных покоях рассаживали, они там одевались, готовились. Царь то к одной, то к другой заглянет, ходил неспешно. Но пуще, чем царь, глядели лекари да спальники, обсматривали, ощупывали: ладно ли у девицы плечо скатывается, нет ли худобы, хороша ли, бела ли кожа, блестит ли волос. А ещё – довольно ли в груди, обильна ли в заде невеста…
– Ой, да что это разболталась-то я? – остановила себя бабушка, вспоминая, что день сегодня особенный. – Да и ты, голубушка, сидишь-рассиживаешь. Ну-ка марш в гостиную, да гляди, чтоб ладно всё там было. Знаю я, эти Глашки да Палашки салфетки забудут, ножи не к месту покладут… Дай-ка им от меня по грошику, – она порылась в широкой своей юбке и высыпала мелочь, – знаю я: как недоглядишь за ними, так и осрамишься. Иди!
– Накапать в чашку камфары? – спросила Наташа.
– Делай что говорю! – прикрикнула Марья Ивановна. – Ретираду – и марш!
В столовой уже сверкали зажжённые свечи – и в шандалах, и в канделябрах. Жёсткая новая скатерть топорщилась на углах, а середина её была заставлена: мерцала серебряная и золочёная посуда, в высоких штофах переливались вишнёвые, малиновые, лимонные настойки, огурчики пупырились иголочками, красная рыба горела яхонтом, мясные закуски, буженина подёрнуты влагой…
Время шло. Мороз уже изрисовал все окна, а гостей дорогих всё не было…
Не звенят ли колокольцы?
Не хлопнули ли ворота? Но было тихо.
Небо стало тёмно-васильковым, свечи на окнах – будто жёлтые цветки. Серебряные подсвечники синими огнями отражались и меркли в высоких зеркалах в простенках… Часы бьют уже девять раз: бом-м, бом-м… Но и в этот час никто не возвестил о приезде гостей.
Стало совсем темно. Зазвонили в последний раз колокола…
Настала ночь, тревожная и тягостная…
Но так и не появился царь, так и не стукнул никто в ворота…
А на Москве-реке в тот день собралось великое множество людей.
Во льду была проделана большая прорубь, пар от неё поднимался в морозный воздух, а вокруг ходили толпы вслед за священником. Начиналось освящение воды…
Поодаль стояли иноземные гости, наблюдая невиданное зрелище, – все эти дни дивились они московским обычаям, как на Рождество плясали ряженые, как с наговорами да приговорами гадали на Святках, как теперь на водосвятие торжественно носили хоругви, мальчики славили Христа, и не умолкало «Во Иордане».
Ликование народа на реке достигло предела, когда подъехала шестёрка белых коней. Кони с красными попонами встали, и вышел император в шубе нараспашку, в красном шарфе и собольей шапке с синим околышем. Подняв руки, приветствовал народ, а получив благословение митрополита, присоединился к шествию вокруг проруби…
Хор, сперва нестройный, всё набирал и набирал силу. Зазвонили в колокола, на небе ярко вспыхнуло закатное малиновое солнце и осветило чудное зрелище. На берегу командовал своими гвардейцами Василий Долгорукий. Звучало:
– «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя… Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе…»
Не одни священники, но весь люд возносил голоса к небу в искреннем молении.
И вдруг из толпы в каком-то угаре выскочил молодой парень. Чужеземцы не поверили своим глазам, когда он скинул с себя полушубок, кафтан, порты, бросил шапку на снег, перекрестился: «Крещаюся в Москве-реке за-ради царя нашего батюшки!» – и бросился в прорубь. В воде плавали белые, как сало, льдинки, дул ветер, от мороза сохло горло, трудно дышалось. Выскочил из проруби мужик красный, точно ошпаренный, с выпученными глазами, крикнул: «А ну, кто ещё разболокаться могёт?»
«Дикая и дивная страна», – качали головами иноземцы. Ещё более удивились они, когда царь с одобрением оглядел смельчака, обнял его и расцеловал. А потом снял с себя шарф и кинул тому на ше.
Народ восторженно шумел, неистовствовал, но…
Но уже ударил роковой час для русского престола: здесь ли, ранее ли царь заразился чёрной оспой… Пришла та зараза через его объятие с мужиком или ветер принёс её из Замоскворечья? Или пролетела комета хвостатая, в которой, доказывают, и обитают те микробы, – неведомо…
Ещё не кончилось гулянье, ещё идут в церквах службы, но царю уже неможется… Долгорукий с тревогой глядит на него:
– Каково, государь, чувствуешь себя? Едем ли к Шереметевым?
Ослабевшим голосом Пётр ответствует:
– Гони, Ваня, к дому.
…А на Воздвиженке мечется, носится по дому молодая графиня Шереметева. Чуть не в полночь явился посыльный с цидулькой от Ивана Алексеевича: так и так, мол, государю нездоровится, не ждите…
– Наталья, еду прикажи, какая портится, раздать дворовым, – сурово говорит Марья Ивановна, – а прочую назад в ледники…
– Да бог с ней, с едой-то!.. А ежели что худое с государем приключилось?
Бабушка не утешила, не разуверила, сухо заметив:
– Ежели мор – за грехи он в наказание нам даётся… А ты береги себя да молись. Вот и весь мой сказ!
Утром Наталья бросилась в домовую церковь Знамения. Там упала на колени перед Казанской иконой Божьей Матери.
– Господи, Ты можешь всё! Убереги государя нашего от напасти!.. Не пожил ещё, не порадовался милостивец наш!.. Сколько раз наставлял Ты нас, Господи, на путь истинный, давал силы, когда сникал подавленный разум, просвети ж и теперь, пошли отблеск лучей Твоих…
В числе гостей в тот крещенский день на Москве-реке была и знакомая уже нам леди Рондо, написавшая свои «Записки». А своей лондонской приятельнице она рассказывала:
– В те дни начала 1730 года великое веселье шло по России. Рождественские праздники были в полном разгаре. Устраивались торжественные церемонии, которые русские называют водосвятием; при этом воспроизводят обряд Крещения нашего Спасителя…
По обычаю государь находится во главе войск, которые в этот день выстраиваются на льду. Несчастная хорошенькая избранница императора должна была в тот день показаться народу. Она проехала мимо моего дома с гвардией и свитой – такой пышной, какую только можно себе вообразить. Екатерина сидела одна в открытых санях, в дорогой собольей шубе, а отрок-император стоял на облучке позади её саней. Не припомню другого столь холодного дня, и я с ужасом думала, что надобно выйти из дому и ехать на обед ко двору, куда были все приглашены для встречи юного государя и его невесты при возвращении. Представляешь, эти молодые находились на льду, на таком морозе четыре часа!
Едва они вошли в зал, император стал жаловаться, что он замёрз и у него сильно болит голова. Лицо его было красно, воспалено, глаза больные – его отвели в опочивальню. Иван Долгорукий вышел и объявил гостям, что государю очень худо. Тут же призвали докторов. Опечаленная невеста попросила у гостей прощенья – и все разъехались.
Полагаю, что большинство москвичей в ту ночь не спали: всё гадали, что же случилось с бедным юношей. Если простудился на водосвятии – то ничего, молодой организм выдюжит. Однако сведения из дворца поступали с каждым часом печальнее… Прошёл слух, что в городе чёрная оспа…
Между тем на 19 января была назначена свадьба императора. Съезжались иностранные гости, губернаторы, воеводы. Свадьба должна быть двойная – это к счастью! В тот же день должен жениться Иван Долгорукий на Наталье Шереметевой. О них говорили: вот где истинная любовь, должно быть, навеки!
Неожиданно пришло радостное известие: царю лучше, кризис миновал! Все радовались, предвкушая великие празднества. И вдруг – неразумный поступок больного! Оставшись один в своей опочивальне, будто желая себе смерти, Пётр Алексеевич поднялся с постели и растворил окно: «Дышать нечем!» Все передавали потом его последние слова: «Запрягай, Ваня, сани, еду к сестре своей!» Сестра его Наталья умерла незадолго до того.
И – что бы ты думала, дорогая? Я холодею, когда вспоминаю тот день 19 января! День свадьбы стал днём кончины юного императора…
Царская невеста? Ты спрашиваешь о ней? Судьба её ужасна! Долгорукие затеяли, вернее, продолжили своё чёрное дело. Дядья, братья, особенно князь Алексей Долгорукий – все приложили руку к тому, чтобы на троне оказалась… их дочь! Опутали князя Ивана, заставили подделать царскую подпись… Он плакал ужасно, как ребёнок. Помолвленная, но не обвенчанная с царём Екатерина, наоборот, окаменела. Я видела её мельком: бела как снег, голова горделиво откинута назад – одни шипы, одни колючки, ничего не осталось от розы!..
На похоронах императора её вообще уж было не узнать. Чёрное, злое лицо, взгляд – оторопь брала, губы сжатые. Кто-то обратился к ней: «Княжна…» Она тут же оборвала: «Я не княжна, я ваша государыня!» Вот так-то!
Ах, милая, как порою жестока бывает судьба! Я от души жалела молодого царя, но и Долгорукую я понимала. Моё впечатлительное сердце было обеспокоено судьбой юной бедняжки, которую разлучили с любимым человеком, а теперь она была лишена даже слабой награды – величия. Она переносила это стоически. Говорила, что скорбит о потере как подданная империи, однако как частное лицо она удовлетворена: кончина императора избавила её от бльших мук, чем могли бы выдумать величайший деспот или самая изобретательная жестокость. Что стояло за теми словами – как догадаться? Ей представлялось, что, преодолев свою страсть к австрияку, она может перенести всё: ведь будущее сулило ей награду – российский престол…
Один джентльмен, тогда видевшийся с нею, поведал мне, что нашёл её совершенно покинутой, при ней были только горничная и лакей, которые ходили за нею с детства. Когда он выразил возмущение этим, она сказала: «Сэр, вы не знаете нашей варварской страны».
А вокруг русского престола уже завертелось чёртово колесо борьбы за власть. Явилась из Курляндии дочь Ивана, брата Петра Великого, Анна Иоанновна, 37-летняя дама, любовница графа Бирона, и заявила свои претензии на трон. Верховный тайный совет велел ей подписать «Кондиции» в пользу аристократов. Она подписала, чтобы добиться своего, но, боже мой, что завертелось с этими кондициями!
И сразу же возбудили дело против Долгоруких… Долго не хоронили бедного Петра, лежал он, молодой несчастный красавец, в ледяных погребах… Прошёл тайный слух: мол, оттого царя не хоронят, что помолвленная с ним Екатерина… ждёт наследника!.. Что далее случилось – это тайны «мадридского двора», русского двора. Только в скором времени Анна Иоанновна, руководимая интриганом Бироном, со всей силой обрушилась на семейство Долгоруких! Да и Остерману, воспитателю Петра II, тоже досталось…
Леди Рондо была говорлива. Она надолго погрузилась в свои мысли, но продолжила свой рассказ, на этот раз о жизни в Российской империи.
– …Миновали похороны, наступили апрель – май 1730 года. Мы жили в Москве.
Поднималась я в шесть часов – как простолюдинка. Чтобы, осмотревшись и распорядившись по дому, к восьми выйти к завтраку. Покончив с этим, занималась с учителем французским в продолжение часа; затем удалялась в свою комнату и либо рукодельничала, либо читала до двенадцати и одевалась к обеду.
К вечеру мы отправлялись подышать воздухом – в карете или пешком. Окрестности Москвы были прекрасны: леса, река, плодородные нивы ласкали глаз. Поскольку у мужчин гораздо больше дел, чем у женщин, они были по обыкновению заняты, так что я часто выезжала одна.
Во время одной из таких бесцельных поездок мы обнаружили усадьбу, принадлежавшую прежде князю Меншикову. Роскошный дом, расположенный на прекрасной поляне, был необитаем. Большой пруд перед фасадом, позади – другой, вокруг густой лес, через который не было проложено ни одной регулярной дорожки…
Вокруг Москвы, на расстоянии трёх, четырёх, пяти миль, было много монастырей. В часовнях монастырей обычно хранились большие богатства. Я как-то раз посетила настоятеля одного из монастырей, который очень любезно угощал нас кофе, чаем, сластями. Наконец он сказал, что должен попотчевать нас по обычаю своей страны, и тогда стол уставили орохом, бобами, репой, морковью и прочим – всё в сыром виде: у них шёл какой-то пост. Они часто постились. То Рождественский, то перед Пасхой, то Петров… Православный игумен оказался славным, добродушным человеком, и мы очень приятно провели день. Милях в трёх оттуда был расположен женский монастырь для высокопоставленных особ, там взаперти находилась вдовствующая императрица, как она себя называла. Я имею в виду первую супругу Петра I, Евдокию Лопухину, мать царевича Алексея…
Да, так вот… Ты весьма уважала Петра Великого, и вот ещё одна история о нём – со слов Миниха. Его отец строил канал между Ладожским озером и Невой. Пётр прибыл туда, и отец его постарался именно в тот час сломать плотину и пустить воду. Царь увидел небольшой бот, тут же прыгнул в него. Бот поплыл с огромной скоростью, вода бурлила, а Пётр пришёл в такой восторг, что сорвал свою шляпу и стал кричать: «Ура!» Он прыгал, обнимал окружающих, в общем, темперамент его проявлялся во всём. Помнишь ту историю с Анной Монс? Так же страстно любил он других женщин, особенно супругу Екатерину. И ты, вероятно, знаешь, что когда в последний год жена изменила ему – увы, это тоже оказался немец Монс! – то… казнил его на глазах у жены. Такая это страна, Россия. Впрочем, мало ли жестокостей творилось и в Англии? Казнили Марию Стюарт, короля Карла I… А ещё ранее – Ричард III…
Не могу удержаться, чтобы не рассказать тебе, дорогая, об одном русском, который побывал во Франции и кое-чему научился там. И вот в России попал он в компанию хорошеньких женщин, сразу четырёх. С каждой танцевал, веселился, похвалялся лёгкими победами. А дамы эти, надо сказать, были замужем, взяли да и рассказали обо всём своим мужьям. Одна из дам пригласила молодого человека к себе на ужин, не сказав, кто там будет ещё. Он летел на крыльях любви и был встречен с любезностью. Но посреди восторгов дама стала выговаривать ему за те речи, что он произносил. Он всё отрицал. Тогда вошли её приятельницы, да ещё со своими мужьями, и мужья произнесли свой приговор: пусть все женщины собственноручно выпорют его ремнём. Кое-кто говорил, что они и впрямь проделали это; другие утверждали, будто дамы приказали сделать это своим горничным; во всяком случае, наказание было исполнено с такой жестокостью, что любвеобильному кавалеру пришлось несколько дней провести в постели. Неясно только, были ли дамы только наблюдательницами или сами производили экзекуцию. Я привела тебе этот пример, чтобы ты могла судить о любовных играх в здешнем северном климате.
Однако… всё же я вернусь к нашей княжне.
Ах, милая, надо долго жить, чтобы понять что-то в людях, в любви, в их отношениях. Ты думаешь, что княжна Долгорукая только и думала о Миллюзимо? Нет, она была волевая женщина и запретила себе о нём говорить и думать, решила, что те её мысли были преступны. Если ненависть может перейти в любовь, то почему любовь не может превратиться в ненависть? Вот и его посчитала она виновником своих несчастий. Однако прежде всего Екатерина была обеспокоена судьбою своей семьи, их будущим, хотя… хотя, в сущности, ведь это они, её родственники, принесли девушку в жертву своему властолюбию…
Всё семейство Долгоруких, в том числе и бедная «императрица на час», было сослано по приказу Бирона и Анны Иоанновны. И представь, сослали их в то же самое место, в тот же Берёзов, где жили дети Меншикова. Сам светлейший князь умер там за год до этих событий. Так что две эти девицы, которые одна за другою были невестами молодого царя, могли встретиться в той ссылке. Не правда ли, какой потрясающий сюжет для трагедии? Жаль, что нет уже Шекспира.
Кстати, в России ссылали женщин и детей: если подвергался опале глава семьи, вся семья также следовала за ним, имущество, принадлежащее им, отбиралось, и самые знатные становились простолюдинами…
Извини, дорогая, в голове у меня путается… Хочу сказать, что у нас в Москве был небольшой дом за городом, который доставлял мне огромное удовольствие, – здесь можно было отдохнуть от напряжения, всегда сопутствующего пребыванию при дворе. Дом стоял на возвышенности, у подножия – прекрасный луг, спускавшийся к реке. Позади на много миль – лес. Вокруг нет ничего обустроенного или возделанного, ибо ненадёжность погоды в здешних краях сделала бы расходы на это смешными, и насколько дом выглядел сельским снаружи, настолько он был прост и внутри. На столы подавался дельфтский фаянс, постельное бельё – из белого миткаля, плетёные стулья и остальное в том же духе. В одной гостиной книги и карты. Они да ещё мои пяльцы для вышивания – это единственное, что отличало наш дом от фермы. Здесь мы с большой приятностью проводили три дня в неделю.
Быть, моя милая, при королях, императрицах – весьма утомительное занятие. Помню один праздник. В зале было тепло от печей, он был украшен цветущими померанцевыми деревьями и миртами, расставленными рядами вдоль стен. Посреди – место для танцующих. Так вот, эти аллеи по обеим сторонам зала давали возможность каждому посидеть здесь, отдохнуть, укрыться от зорких глаз государыни Анны Иоанновны. Красота, благоухание и тепло этого зимнего сада, тогда как за окнами бушевала метель, давали отраду, казались волшебством и наполняли мою душу приятными мечтаниями. В смежных комнатах обществу предлагали освежающие после танцев напитки и закуски. Когда же мы вернулись в зал, музыка и танцы посредине и прячущиеся в аллеях красавицы и кавалеры в пышных по случаю тезоименитства царицы нарядах дали волю моему воображению – будто бы я нахожусь в сказочной Аркадии или в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Так живописно было это зрелище!..
Однако я вовсе отвлеклась от несчастной княжны Долгорукой…
Она оказалась в страшной Сибири и уже ходила не в парче, а в крестьянском платье. Говорили, правда, будто и там требовала, чтобы называли её не иначе как государыней, и не только чужие люди, но и собственные родители, братья и сёстры. Ах, коли уж родился человек с шипами, он везде так и будет колоться. С годами, видимо, колючки делались всё злее да острее, а сама роза… роза – увы! – увядает. Если соединить то, что я слышала о её пребывании в ссылке, то сам собой напрашивается вывод: эта княжна несла с собою несчастье, было в ней что-то роковое…
Соблазнила юного императора – и его не стало. Да и судьба Миллюзимо, изгнанного из России, оставляла желать лучшего. В ссылке тоже заварилась каша. Был там некий офицер, на которого произвели впечатление непомерная гордость и знатное происхождение княжны. Он угождал ей, удовлетворяя её тщеславие. Был он, говорят, хорош собою, делал ей подарки, может быть, даже мантию горностаевую подарил – у русских это признак царской власти. Кстати, рассказывали мне, что по пути в ссылку солдаты потребовали, чтобы она сняла с руки кольцо. То самое, которое надел ей при помолвке покойный царь. И знаешь, что она ответила? «Никогда не сниму сие кольцо. Только с пальцем вместе. Рубите!» Такова она была, обезумевшая от жажды власти Екатерина…
Хочешь, я расскажу тебе ещё одну характерную историю некой дамы, стойкости которой дивлюсь я ещё и теперь? Польский посол и его супруга были приглашены на обед к графу Ягужинскому, где должно было собраться большое общество. Граф жил по одну сторону Невы, а посланник с женою – по другую. Когда они по льду переезжали реку, лёд треснул, сани её провалились в воду, и она с большим трудом выбралась, вымокнув с головы до ног. Бедняжка, вся обледеневшая, вернулась домой, а её муж поехал к Ягужинскому, извинился за опоздание и очень спокойно поведал о приключении по дороге. Что меня поразило? Когда подали десерт, появилась и сама жена посланника. Она переоделась, села в другие сани, переехала через Неву и вовсе не выглядела расстроенной: она танцевала на балу у графа всю ночь. Общество выразило восхищение её отвагой. Я же, должна признаться, посмотрела на это дело с другой точки зрения и увидела в нём явное свидетельство легкомыслия, в котором обвиняют наш пол. Стоило ли подвергаться такому риску ради бала!..
Коль скоро я заговорила об этой даме, должна добавить ещё кое-что. Присутствовали там, у графа, ещё две знатные польские дамы, внешне очень эффектные, хоть далеко и не красавицы. Обе грациозны, веселы, но несколько чопорны и слишком утомительны для более долгого общения. У них великолепные слуги, одежда, но в них столько национальной спеси и воинственности, что утрачивается всякая женственность…
Что было далее с княжной Долгорукой? Дошли слухи, что стала она женою Брюса. Вышла она то ли за сына его, то ли за брата, думала, вероятно, что в нём заложена часть ума и таланта великого шотландца.
Было в этой женщине нечто дьявольское, роковое, инфернальное; впрочем, в России слова «инфернальное» тогда не знали, а говорили: у-у, дьявольское отродье! Да, Долгорукая притягивала к себе несчастья. И тех, кто был близок к ней: брат ли её Иван Алексеевич, император Пётр Алексеевич и тот офицер в Сибири – всех их не миновал рок. А она… она так и не смогла найти точку опоры. И на воле её преследовали беды. «Бедной Катрин и тут не везло… И всё-таки, – писала леди Рондо, – мне очень жаль Катрин! Как красиво начиналась её жизнь, которая превратилась в беспрерывные страдания. Нет, не должна женщина выше любви ставить ни славу, ни деньги, ни власть…» Нет ничего, что возвышало бы её так, как настоящая любовь. И доброта. И смирение…
Как странно порою три дочери Зевса и Фемиды прядут нити судьбы! Мойра Лахесис наделяет людей судьбою, мойра же Атропос в назначенный час обрезает жизненную нить… Но что же, стало быть, мы целиком зависим от этих мифологических дев? Разве не сам человек управляет своей жизнью и выбирает себе ту или иную судьбу? Велика ли роль случайности? Или нужно положиться на волю Провидения? Древние греки считали властителем людей рок, фатум. И доверялись мойрам. Гораздо позже трезвомыслящие, наделённые практицизмом англичане придумали правило: «Посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». Этого правила, разумеется, не знала, да и не собиралась придерживаться своенравная Екатерина. Она не умела и не хотела учиться «властвовать собою» и смиряться ни с чем не желала…
Тайна смерти императора
Пётр II скончался – и последней его фразой в этой жизни были слова, которые не оставили равнодушными ни одного очевидца, ни одного историка. Глядя на своего фаворита, он крикнул (или прошептал?): «Запрягай же, Ваня, сани! Еду к сестре моей!»
Фраза эта говорит и о поэтичной натуре Петра, и о чувстве вины перед любимой сестрой, а ещё – о готовности принять смерть.
Одни называли болезнь его холерой, другие чёрной оспой – тогда была эпидемия. Однако болели многие (например, Пётр Шереметев), но умер – царь! Удивительно, что Иван не заразился от царя, хотя находился при нём неотлучно. Почему? Тут спрятаны не одна тайна, целый ряд причин! Перечислим, что думал о том Костомаров.
Первая причина. Быстрота развивавшихся событий:
11 ноября скончалась (от чахотки) сестра Петра Наталия.
19 ноября в Верховном совете царь объявил, что намерен вступить в брак с Екатериной Долгорукой.
30 ноября – на этот день назначено обручение.
24 декабря – торжественное обручение Ивана Долгорукого и Натальи Шереметевой.
5 – 6 января – навечерие Богоявления и Крещение. Празднование на Москве-реке с купанием в ледяной воде. Болезнь.
На 19 января назначена двойная свадьба Ивана Долгорукого и Натальи Шереметевой, Петра II и Екатерины Долгорукой. Съезд гостей из разных стран.
12 января – кризис болезни императора миновал, ему стало лучше, но… внезапное ухудшение болезни…
В этих стремительно развивающихся событиях было что-то роковое – словно действовал фатум… Или всё было предопределено ходом истории?..
Вторая причина-тайна. Исток её – в реформах Петра I, в настроении народа.
Пётр I действовал как демиург, он создавал новую Россию, проводил реформы, не считаясь с традициями (ибо знал, что может не успеть сделать задуманное). Он перенёс старую столицу Москву к устью Невы, менял русские платья на немецкие – это вызывало недовольство.
Что говорили в народе на коронации Петра II?
– Вот истинный наследник, сын царевича Алексея! Дед его мучил безвинно свою законную жену за её любовь к старине, замучил своего бедного сына. А потакавшие царю бояре, по смерти его, возвели на престол немку, которую царь при жизни своей объявил своею царицею беззаконно, а того, кто имел право на наследие русских царей, устранили совсем.
Однако Бог не допустил до этого. По Божией святой воле досталось царство русское тому, кому оно принадлежало по рождению. И вот теперь этот законный молодой царь возвращается в свою столицу, в первопрестольную Москву, униженную его дедом. Все любовались царём, когда видели его на коронации. «Ах, какой он молодец! Вот царь так царь! Это будет настоящий русский царь!» Невзлюбил молодой царь новой столицы, построенной на болоте, в чухонской земле, а полюбил Москву православную с её золочёными маковками. Теперь уже не будут неволить русского человека, переселять его на житьё в проклятое болото. Москва опять станет средоточием русской жизни, как была встарь, с незапамятных времён. Какое счастье, какая радость русским людям! Какая горесть проклятым иноземцам и с ними их любителям!
В дни коронации, посетив Новгород, новый царь произнёс такую речь: «Русский престол берегут Церковь и русский народ. Под охраною их надеемся жить и царствовать спокойно и счастливо. Два сильных покровителя у меня: Бог в Небесах и меч при бедре моём!»
Иностранцы и сочувствовавшие им составляли свою партию в окружении Петра II. Из них самым близким был барон Андрей Иванович Остерман, взятый ещё Петром I и высоко им ценимый. Он стал воспитателем наследника при Меншикове, но и с тем и с другим происходили стычки. Остерман очень хорошо изучил русскую жизнь, и его не так-то легко было сбить с пути.
– Мои труды пропадают даром, – говорил Остерман царю, – потому что ваше величество меня не слушаете. Извините меня, государь, за мою смелость, если б я теперь не предостерегал вас, то, пришедши в возраст, вы бы велели мне отрубить голову. Я не хочу быть свидетелем вашего падения и желал бы, если б вы, государь, изволили отставить меня от должности царского воспитателя.
– Не отходите и не оставляйте меня вашими советами, я всегда буду во всём слушать вас, – обещал Пётр и плакал.
Шёл вопрос о том, какой быть Руси: новой ли, только что, так сказать, рождённой Петром Великим, или старой. С новой Русью соединён был новопостроенный Петербург, со старою – Москва, столица древних царей. Сторонники Петровского преобразования хотели, чтоб царь и двор оставались в Петербурге, с ними заодно были и послы иноземные. Противников их, старолюбцев, существовало два вида. Одни допускали, так сказать, некоторый компромисс с Западной Европой и заклятыми врагами иноземного просвещения не были, а другие старые люди не допускали иноземщины. Для них надеждою казалась царская бабка – она, мол, иностранцев не терпит, пророчили, что как только она войдёт в силу, тогда горе будет всем иноземцам, а Остерман станет первою жертвою. Но не знали мудрые прорицатели, что ловкий Андрей Иванович заручился уже дружбою и покровительством старухи, расположил к себе царицу-бабку, а с русскими вельможами поставил себя так, что даже старолюбцы признавали его полезным человеком.
Из всех сановников того времени не было никого трудолюбивее барона Андрея Ивановича, а из русских вельмож было довольно таких, которые рады, когда за них другой будет работать. Хитёр был Остерман и лжив – в один голос говорили о нём иностранцы. Но даже злейшие враги не могли сказать, чтоб он был корыстолюбив или пролагал себе путь по головам других. Так что хотя Остермана не любили русские вельможи, но делать ему решительного зла не стали.
Для Петра Великого все иностранцы были помощниками, или друзьями его, или слугами – их покорял его великий ум и размах. Но никто из наследников этого не имел, а более занят был самим собой и своим семейством.
Что мог сделать юный император между враждующими партиями? И всё же он сперва сбросил самодержавие Меншикова, а в конце прозрел, понял планы Долгоруких, но было уже поздно: в силу вступил всемогущий рок.
Причина третья. Сложные семейные отношения с сестрой и тёткой Елизаветой.
Историк Н.И. Костомаров пишет, что на одном из балов находившиеся там иностранные министры заметили с удивлением, что на этом бале не было царской сестры, великой княжны Наталии Алексеевны. Носился слух, что она нездорова и по этой причине не посетила бала, но это показалось для многих сомнительно, потому что перед тем Наталия провела вечер у герцогини Курляндской. Дело объяснялось тем, что великая княжна была тогда недовольна царём; у сестры к брату возникла некоторого рода ревность: великая княжна сердилась на то, что тот слишком много сердечного расположения показывает к своей тётке Елизавете. Царь, не дождавшись сестры, открыл бал без неё и вначале танцевал с тёткою. После трёх контрадансов он ушёл в другую комнату, а цесаревна Елизавета танцевала с царским фаворитом, князем Иваном. Царь из другой комнаты вышел и стал на пороге при входе в большую залу: он следил внимательно за танцующей парой, и замечавшие движение на лице его поняли, что его величество ревнует к тётке. Говорили тогда, будто Остерман разжигает в молодом царе любовь…
С царём ездила тётка Елизавета. Сестра, великая княжна Наталия, уклонялась от этих забав и не сопровождала брата: говорили, что у ней уже открывалась чахотка. С Елизаветою на охоте постоянно находились одна боярыня и две русские служанки. После охоты сходились в палатки, шёл весёлый пир, а по окончании пира снова всё укладывалось, увязывалось, ехали далее и снова становились там, где нравилось. Это было не столько увеселительная поездка, а скорее кочевание в азиатском вкусе и сообразно старой московской жизни. Даже купцы, думая зашибить копейку, с товарами, и особенно съестными, ехали вслед за двором, отправившимся на охоту: на охотничьих стоянках продавалось всё втридорога.
Там охота шла за волками и лисицами, в другом месте – за зайцами, в третьем – за птицами. В охоте за зверями работали егеря и охотники: они были в зелёных кафтанах с золотыми и серебряными перевязями; у каждого на такой перевязи висел блестевший золотом либо серебром рог; шаровары красные, шапки горностаевые, рукавицы лосиные. Сначала пускали, по обычаю, гончих собак спугнуть зверя, а егеря и охотники скакали вслед… На медведя охотились в дремучих лесах, царя не пускали близко. Выбирались охотники крепкие, рослые, сильные; борцы с медведями приобретали славу в охотничьем кругу, как храбрецы в военном. Царя приглашали приблизиться только тогда, когда медведя проколют рогатиною или попадут в него пулей. После охоты за зверем или за птицею наступал обыкновенно пир в палатках…
Князь Иван Алексеевич, сходясь с Остерманом и другими европейскими партиями, говорил, что ему надоедают эти забавы. «Не по сердцу мне, – выражался он, – когда царя заставляют делать дурачества, не терплю наглости, с какою с ним начинают обращаться на охоте».
Князь Алексей Григорьевич ластился к Остерману, а Иван его не любил. Остерман, так сказать, лавировал между ними: слушал со вниманием сына, когда тот жаловался на родителя, но показывал участие к отцу, когда тот говорил о проказах сына.
Сестре Наталии всё это, и особенно Елизавета, было не по душе.
Нелегко было 14-летнему отроку разобраться во всех этих хитросплетениях. У него было чувство вины пред сестрой, к этому добавлялась вина пред Меншиковым и Марией – в начале 1730 года пришла весть об их кончине.
Причина четвёртая. Отношения с Долгорукими.
Долгорукие спешили взять на удочку царственного юношу и покончить начатое, чтоб не дать ему времени одуматься. На 30 ноября 1729 года назначили обручение.
Царская невеста, объявленная с титулом «её высочество», находилась тогда в Головинском дворце, где помещались Долгорукие. Туда отправился за невестою князь Иван Алексеевич, в звании придворного обер-камергера, в сопровождении императорских камергеров. За ним потянулся целый поезд императорских карет.
Княжна Екатерина, носившая уже звание «государыни-невесты», была окружена княгинями и княжнами. По церемонному приглашению, произнесённому обер-камергером, невеста вышла из дворца и села вместе с матерью и сёстрами в карету, запряжённую цугом, на передней части которой стояли императорские пажи. По обеим сторонам кареты ехали верхом камер-юнкеры, гоф-фурьеры, гренадеры и шли скороходы и гайдуки пешком, как требовал этикет того времени. За этой каретой тянулись кареты с родственниками Долгоруких… По прибытии на место обер-камергер вышел из своей кареты и стал на крыльце, чтобы встречать невесту и подать ей руку при выходе из кареты. Заиграл оркестр.
В одной из зал дворца, назначенной для обручального торжества, на шёлковом персидском ковре поставлен был четвероугольный стол, покрытый золотою материею: на нём стоял ковчег с крестом и две золотые тарелочки с обручальными перстнями. По левой стороне от стола, на другом персидском ковре, поставлены были кресла, на которых должны были сидеть бабка государя и невеста, и рядом с ними на стульях мекленбургские принцессы и Елизавета, родственники невесты и знатные дамы. По правой стороне от стола на персидском ковре поставлено было кресло для государя.
Обручение совершал Новгородский архиепископ Феофан Прокопович. Над высокою четою во время совершения обряда генерал-майоры держали великолепный балдахин, вышитый золотыми узорами по серебряной парче.
Когда обручение окончилось, жених и невеста сели на свои места, и все начали поздравлять их при громе литавр и при пушечной троекратной пальбе. Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий произнёс царской невесте свою знаменательную речь:
«Вчера я был твой дядя, нынче ты мне государыня, а я тебе верный слуга. Даю тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твой род многочислен и, слава Богу, очень богат, члены его занимают хорошие места, и если тебя станут просить о милости для кого-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетели. Это будет настоящее средство быть счастливою, чего я тебе желаю».
В то время говорили, что этот фельдмаршал, хотя и дядя царской невесты, но противился браку её с государем, потому что не замечал между ними истинной любви и предвидел, что проделка родственников поведёт род Долгоруких не к желаемым целям, а к бедствиям.
В числе приносивших поздравления царской невесте был и Миллюзимо как член имперского посольства. Когда он подошёл целовать ей руку, она, подававшая прежде машинально эту руку поздравителям, теперь сделала движение, которое всем ясно показало её потрясение. Царь покраснел. Друзья Миллюзимо поспешили увести его из залы, посадили в сани и выпроводили со двора (об этом вспоминала и леди Рондо)…
По окончании поздравлений высокая чета удалилась в другие апартаменты; открылся блистательный фейерверк и бал в большой зале дворца. Царская невеста в продолжение всего рокового вечера была чрезвычайно грустна и постоянно держала голову потупивши. Ужина не было, ограничились только закускою. Невесту отвезли в Головинский дворец с тем же церемониальным поездом, с каким привезли для обручения.
Род Долгоруких достиг крайних пределов величия. Всё смотрело им в глаза, всё льстило им в чаянии богатых милостей. Пошли толки, чем кто из Долгоруких будет, какое место займёт на лестнице высших государственных должностей. Твердили, что князю Ивану Алексеевичу быть великим адмиралом; его родитель сделается генералиссимусом, князь Василий Лукич – великим канцлером, князь Сергей Григорьевич – обер-шталмейстером; сестра Григорьевичей Салтыкова станет обер-гофмейстериною при новой молодой царице…
Между тем дни за днями проходили; при дворе каждый почти день отправлялись празднества; вся Москва носила тогда праздничный вид, ожидая царского брака, но близкие к государю люди замечали, что он и после обручения не показывал никаких знаков сердечности к своей невесте, а становился к ней холоднее. Он не искал, подобно каждому жениху, случая почаще видеть свою невесту и быть с нею вместе, напротив, уклонялся от её общества. Этого и надобно было ожидать.
Царский брак мог совершиться только после праздника Крещения и назначен был на 19 января. Между тем на Новый год царь сделал выходку, которая сильно не понравилась князю Алексею Григорьевичу: не сказавши ему, он ночью ездил по городу и заехал в дом к Остерману, у которого, как рассказывает иностранный министр того времени, находились ещё двое членов Верховного тайного совета, и было там при государе какое-то совещание, вероятно, не в пользу Долгоруких: они умышленно были устранены от участия в нём. Тогда же состоялось тайное свидание с Елизаветой. Она жаловалась на скудость, в какой её содержали Долгорукие, захвативши в свои руки все дела двора и государства; в её домашнем обиходе чувствовался даже недостаток в соли. «Это не от меня идёт, – объяснил государь, – я уже не раз давал приказания по твоим жалобам, да меня плохо слушают. Я не могу поступать так, как бы мне хотелось, но я скоро найду средство разорвать свои оковы».
Так изложил причины гибели молодого императора историк Николай Костомаров. Он, конечно, основывался на подлинных исторических документах. Однако – все ли документы сохраняют истину и не слишком ли мы доверяемся им? Конечно, историки руководствуются архивами, но разве не несут архивы субъективного взгляда при отборе фактов?
Поступки и воспоминания – ещё не свидетельство о характере и личности героя, и в числе причин кончины последнего потомка Петра Великого есть и одна, главная причина и тайна. Психология Петра II! Он не был готов властвовать, его мучили сомнения, он увяз в хитросплетениях царского окружения. И ещё: его подавляло величие деда!
Известно, что раны победителей заживают быстрее и болезни часто не становятся смертельными. Юный царь не чувствовал себя победителем, не желал сопротивляться болезни – воля его слабела, и болезнь с лёгкостью довершила своё чёрное дело. Это-то и стало (на наш взгляд) истинной причиной кончины Петра II.
Таков взгляд на происходившие события у автора этой книги.
Однако было ещё кое-что, действительно тайное, что удалось «высчитать», «выстроить» по числам и некоторым фактам. Это действительно авторская версия. Но к ней мы обратимся позднее, после похорон царя и после появления у русского трона новой императрицы…
А пока – заглянем в Сухареву башню Якова Вилимовича Брюса.
В Сухаревой башне
Трудно вообразить, в каком состоянии пребывал царский двор, да и вся Москва, начиная с шестого января 1730 года. Снова смена царств? Перемена власти? Неизвестное будущее?
В такие времена (к тому же был сочельник – пора гаданий) хочется узнать будущее, прибегнуть к гаданию. Конечно, ни Пётр, ни его окружение не решились бы обратиться к «чернокнижнику» и прорицателю Брюсу. И всё же…
Однажды тёмным вечером, в лютый мороз, когда небо усыпано огромными зимними звёздами, а луна сияла, как новый серебряный рубль, один человек выбежал из лефортовского дворца, вскочил на коня и поскакал неведомо куда. Это был князь Иван Долгорукий, который отличался внезапными порывами и не задерживался с решением, ежели что-то вонзалось в сердце.
…В те дни негасимо горели свечи в Сухаревой башне. О ней ходило множество слухов. Будто когда-то сам Пётр Великий начертал план этой башни и повелел учёному, знатоку навигацкого дела, учить недорослей чертежам и расчётам. Была та башня разновысокая, от неё вниз – куб главного строения, нижний этаж с наклонной крышей – и всё покрашено красным цветом. Конечно, колонны, арки, балясины. Башня была воздвигнута не как военное укрепление, а как памятник: в тревожное время стрелецких бунтов неизменно верным Петру оставался стрелецкий полк Лаврентия Сухарева.
В самом верху были обсерватория, телескоп, библиотека. Позднее Пётр I перевёл навигацкую школу в Петербург, а здесь оставались лишь цифирные классы да обсерватория. Брюс днём спал, а по ночам взбирался наверх и, замерев у телескопа, наблюдал звёзды.
Не только Сухарева башня, но и прочие дома Брюса были окружены легендами и мифами (Мещанская улица, Разгуляй, Мясницкая), а самого его называли колдуном, и будто если соединить его дома, то получится звезда о пяти концах. Говорили, что в башне хранится «Соломонова печать», на которой написано по латыни: «Господь, дай силу повелевать судьбой». Повернёшь её к себе – невидим будешь, от себя отвратишь – будешь видим. А можешь с той печатью власть над сатаной получить.
Много анекдотов породила Сухарева башня. В XIX веке о ней писал Иван Лажечников и приводил то ли придуманные, то ли подлинные письма Остермана. Лажечникова обругали, но заступился Пушкин, написав автору: «…поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы Вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык».
Роман Лажечникова основан на якобы имевших место письмах Остермана к Брюсу. Отчего бы не вообразить существование тех писем? Привести отрывок хотя бы из одного письма, написанного в 1727 году:
«Сколько дивных перемен совершилось в глазах наших, почтеннейший друг! Жизнь Петра Великого прошла перед нами – довольно и этого, чтобы сказать: “и мы жили”. Чудное было тогда время. Видели мы много переворотов, но все они имели цель и последствия великие, все они клонились ко благу и славе России. А ныне что делается?.. Исполин пал; огромное место, которое он занимал в мире, опустело; всякий, кто был ближе к нему, хочет занять это место и играть властителя; другой, третий – туда же, пока настоящий властитель не укрепился летами и рассудком и не спознал своего назначения. И все думают только о своих выгодах, ни у кого в сердце нет Отечества; о завете Петра: продолжать им начатое – и помину нет. Господи! Когда будет конец этим часовым, непризнанным повелителям – этим временщикам, как хорошо называют их русские…
На престоле дитя, умное, доброе, подающее великие надежды, но имеющее нужду в испытанном, хорошем советнике; тётка Елисавета – дитя с характером; сестра Наталия хотя и превышает их всех умом и духом, всё ещё не вышла из детского круга… Страшусь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита; не великие по душевным качествам, они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничие умчат колесницу России… Ох, ох, страшусь за создание великого царя!
Но, любезный друг, мы, которые были первые исполнители гигантских помыслов Петра, мы, которым поверял он, как друзьям, все любимые, задушевные думы, которым завещал если не докончить, по крайней мере поддержать его создание и передать, сколько можно, в целости это наследие… Девизом нашим да будут слова Спасителя: “будьте просты, яко голуби, и мудры, яко змии”[4].
Пускай нашу партию называют немецкою – она самая просвещённая, самая благонамеренная и пригодная для России в нынешнее время. Мы, может быть, лучше коренных русских жителей России понимаем пользы её.
В скором времени двор отправляется в древнюю резиденцию царей на коронацию. Ты должен оставить своё уединение и явиться в Москву. Не извиняй отставкой: для истинных сынов Отечества нет отставки; служение их продолжается до гроба. Не говорю, чтобы ты должен был, в твои лета, принять должность при новом дворе, чтобы ты каждый день напяливал мундир на свои старые плечи и играл роль дневального придворного; нет, эта служба не по тебе. Но ты можешь служить иначе: советом, внушениями, связями, кабалистикой… Твоё таинственное влияние на народ может умы и мнения расположить в нашу пользу, ты можешь и судьбу подговорить в наш заговор. Ты всемогущ не только на земле, но и на небе… Ты должен явиться, или да будет тебе стыдно в будущем мире перед лицом бессмертного царя и нашего отца и благодетеля.
На днях отправляется в Москву мать фаворита с дочерью своей. Ты любим в семействе; ты отец крёстный княжны и брата её, ныне столь могущего… к тебе имеют они большую доверенность и уважение…
Жду с нетерпением минуты, когда и я обниму тебя».
…Разумеется, ничего такого не знал князь Долгорукий, когда мчался от лефортовского дворца к Сухаревой башне. Не знал он и того, что уже несколько ночей Брюс не отходил от своего телескопа и чертежей с неведомыми линиями.
Ночь чёрная, но чем ночь темней – тем ярче звёзды, и человек в чёрном парике, с бородой, в меховом бобриковом кафтане не отводил глаз от трубы со стеклянным объективом, вдыхал запахи из склянок своих с алхимией.
Он высчитывал времена соединения планет, Юпитера и Сатурна, самых важных для определения будущего, смотрел циклы затмений своей повелительницы Луны… Но – увы! – думал и гадал звездочёт не о болезни Петра малого. Он искал знаки Петра Великого, которому и теперь продолжал служить, хотел знать, что будет с Россией и через сто, через двести лет…
На столе лежали лунный календарь и карта звёздного неба, которую он чертил долгими ночами. Сознание его обострилось, словно переместилось в иное время, изменилось, и сквозь магический кристалл, а может быть сквозь, стеклянный шар, которым он пользовался, отойдя от телескопа, ему стали видны иные времена…
Что это? 1825 год…






