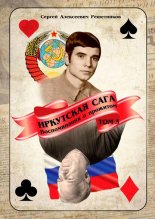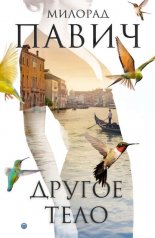Полет сокола Смит Уилбур
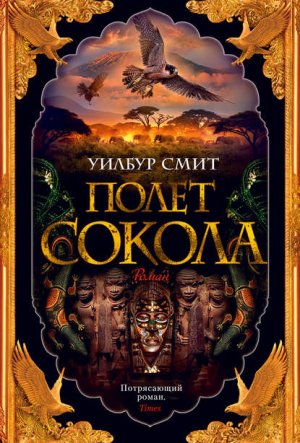
Моей жене, моей драгоценной Мохинисо, посвящается – с любовью и благодарностью за все волшебные годы нашей совместной жизни
Год 1860-й
Африка притаилась на горизонте, словно лев в засаде, рыжевато-золотистая в первых лучах солнца, обожженная холодом Бенгельского течения. Робин Баллантайн всматривалась в далекий берег. Уже час она стояла у борта в ожидании рассвета – знала, что земля там, чувствовала ее огромное загадочное присутствие, ощущала дыхание, теплое и пряное, среди липких ледяных испарений океанского потока, в котором двигался парусник.
Радостный возглас девушки опередил впередсмотрящего. Капитан Мунго Сент-Джон вихрем взлетел по трапу из своей каюты на корме. Матросы сгрудились на борту, возбужденно переговариваясь. Крепко сжав поручень, Сент-Джон бросил пристальный взгляд на горизонт, затем обернулся и дал команду – негромко, но внятно, так что слышно было, казалось, в любом уголке корабля:
– Приготовиться к повороту оверштаг!
Типпу, помощник капитана, быстро разогнал зевак по местам, пустив в ход узловатый линек и увесистые кулаки. Уже две недели свирепый ветер гнал по небу тяжелые тучи, не давая разглядеть солнце, луну и прочие небесные тела, чтобы определить координаты. Однако, судя по навигационному счислению, клипер находился в сотне морских миль к западу, далеко в стороне от дикого пустынного берега, грозившего неведомыми опасностями.
Капитан только что проснулся – его черная спутанная грива развевалась по ветру, на загорелом лице играл сонный румянец, усиленный беспокойством и раздражением. Однако глаза смотрели ясно – светло-карие, с золотыми искорками. Робин даже сейчас, в момент общей суеты, удивилась чисто физическому, будоражащему ощущению угрозы, исходившей от этого человека. Он отталкивал и в то же время неодолимо притягивал к себе.
Белая льняная рубашка, небрежно заправленная в штаны и распахнутая на груди, открывала загорелую, словно намасленную, кожу с тугими завитками волос. Девушка невольно залилась краской, припомнив тот день в начале плавания, когда они достигли теплых голубых вод Атлантики южнее 35° северной широты, – день, ставший для Робин источником душевных мук, от которых не спасали никакие молитвы.
В то утро, услышав плеск воды и лязганье корабельной помпы, она отложила путевой дневник, встала из-за шаткого письменного столика в крошечной каюте и, накинув на плечи шаль, поднялась на верхнюю палубу. Робин ступила, ничего не подозревая, в ослепительный солнечный свет и… изумленно замерла.
Двое матросов усердно качали рычаг, и чистая морская вода с шипением хлестала из помпы. Мунго Сент-Джон, совершенно нагой, подставлял лицо и руки тугой струе. Робин словно окаменела, не в силах оторвать взгляд. Матросы переглянулись, обменялись сальными ухмылками и продолжали трудиться, поддерживая бурлящий поток.
Ей, конечно, и прежде доводилось видеть обнаженное мужское тело – либо распластанное на анатомическом столе, дряблое, белое, со вспоротым животом, из которого, словно требуха в мясной лавке, вываливаются внутренности, либо корчащееся в предсмертной агонии среди зловония инфекционной больницы, – но только не такое, здоровое, полное жизни, бьющей ключом, и вдобавок чудесно сложенное, с мощным торсом и длинными сильными ногами, широкими плечами и узкой талией. Кожа блестела даже там, где ее не золотил солнечный свет. И мужские органы – не постыдный и неопрятный клубок, полускрытый жесткими волосами, а трепещущая напряженная плоть. Суть первородного греха – Змий и яблоки – внезапно предстала во всей ее прельстительной очевидности. Девушка невольно ахнула. Капитан, услышав, шагнул из-под грохочущей струи и отбросил волосы с лица. Робин стояла перед ним, не в силах двинуться с места или отвести глаза. Не сделав даже попытки прикрыть тело, по которому все еще струилась вода, сверкавшая алмазными блестками, он лениво протянул, искривив губы в с язвительной усмешке:
– Доброе утро, доктор Баллантайн! Похоже, и мне предстоит быть предметом ваших научных изысканий?
Только тогда наваждение рассеялось, и она кинулась в свою маленькую душную каюту, где упала на узкую дощатую койку, ожидая неизбежного приступа стыда и раскаяния. Ничего подобного почему-то она не почувствовала, хотя дыхание перехватило, щеки и лицо горели, а волоски на затылке встали дыбом. Тот же жар ощущался и в других частях тела. Робин в панике вскочила с койки, опустилась на колени и принялась молиться, дабы осознать всю глубину собственного ничтожества и греховности. За двадцать три года ей тысячу раз приходилось предпринимать сие упражнение, но ни разу со столь малой пользой.
В последующие тридцать восемь дней плавания Робин старалась избегать этих глаз с золотыми искорками и ленивой дразнящей усмешки. Пищу она принимала по большей части у себя в каюте, даже в удушающий экваториальный зной, когда зловоние от ведра за холщовой ширмой в углу едва ли способствовало аппетиту, и присоединялась к брату в кают-компании, только если непогода удерживала капитана на палубе.
Теперь, наблюдая, как он уводит судно прочь от враждебного берега, она вновь испытала странное волнение и поспешно отвела взгляд в сторону земли, проплывавшей впереди. Канаты визжали в блоках, реи скрипели, парус опадал и вновь надувался под ветром, хлопая с пушечным грохотом.
При виде земли стало легче справиться с ненужными воспоминаниями, их почти вытеснило чувство благоговения, такое сильное, что Робин невольно спросила себя: неужели родная земля способна столь явно и отчетливо взывать к крови своих детей?
Целых девятнадцать лет минуло с тех пор, как она, четырехлетняя малышка, цеплялась за юбку матери, а гора с плоской вершиной, стоящая на страже южной оконечности континента, медленно уходила за горизонт. Это было одно из немногих сохранившихся воспоминаний. Робин словно чувствовала под рукой дешевую грубую ткань платья, полагавшегося жене миссионера, подавленные всхлипы и нервную дрожь матери, к которой она прижималась. В памяти снова вспыхнули страх и смятение при виде материнского горя. Девочка смутно догадывалась, что их жизнь круто меняется, но знала лишь одно: высокого человека, бывшего центром ее детского мирка, теперь с ними нет.
«Не плачь, детка, – шепнула мать. – Скоро мы вновь увидим папу. Не плачь, маленькая».
После этих слов Робин решила, что вряд ли когда-нибудь увидится с отцом, и уткнулась лицом в шершавую юбку – уже тогда слишком гордая, чтобы показывать слезы.
Утешал ее, как всегда, братишка Моррис, тремя годами старше, мужчина семи лет, тоже рожденный в Африке, на берегах далекой неукротимой реки со странным экзотическим названием Зуга, в честь которой Моррис Зуга Баллантайн и получил свое второе имя. Робин предпочитала называть его Зуга – это напоминало ей об Африке.
Робин обернулась к юту: вон он, брат, высокий, хоть и ниже капитана, стоит рядом с Мунго Сент-Джоном и что-то горячо объясняет, указывая в сторону львино-желтой земли. Черты лица достались ему от отца, тяжелые, сильные, – ястребиный нос, твердая, почти жесткая, линия рта.
Брат поднес к глазам подзорную трубу, изучая низкую береговую линию с тщательностью, которую проявлял в любом деле, вплоть до самого пустякового, затем обратился к капитану. Мужчины беседовали вполголоса. Как ни странно, они находили общий язык, уважая силу и достоинство друг друга. По правде говоря, завязать отношения больше старался Зуга, готовый, как всегда, извлечь выгоду из ситуации. В ход пошло обаяние, и после отплытия из Бристоля он вытянул из Мунго Сент-Джона почти все, что тот узнал за долгие годы торговли и плавания вдоль берегов огромного неизведанного континента. Сведения аккуратно вносились в толстый кожаный блокнот в ожидании дня, когда в них возникнет нужда.
Капитан охотно взялся посвятить Зугу в таинственное искусство астрономической навигации. Ежедневно в полдень учитель с учеником устраивались на юте с медными секстантами наготове, ожидая огненного проблеска в сплошных облаках, и потом, раскачиваясь в такт с палубой, старательно удерживали солнечный луч в окуляре прибора.
Они устраивали стрельбу по пустым бутылкам из-под бренди, которые матрос бросал с кормы, чтобы развеять скуку долгих вахт. Мунго Сент-Джон приносил из каюты пару великолепных дуэльных пистолетов в ящичке с бархатной обивкой и тщательно заряжал, разложив на штурманском столике. Бутылки разрывались в воздухе фонтаном алмазных осколков, сверкающих в солнечном свете, и стрелки радостно хохотали, поздравляя друг друга.
Бывало, брат доставал новехонький карабин Шарпса с затвором, заряжавшийся патронами, – подарок одного из спонсоров «африканской экспедиции Баллантайнов», как окрестила их путешествие крупнейшая ежедневная газета «Стандард». Это чудо-ружье имело невероятную прицельную дальность до восьмисот ярдов и даже с тысячи легко укладывало буйвола. С помощью таких ружей меткие стрелки очищали американские равнины от несметных стад бизонов. Мунго Сент-Джон спускал за корму мишень – бочонок на тросе длиной восемьсот ярдов, – и они с Зугой целились поочередно, поставив на кон по шиллингу. Баллантайн, хоть и лучший стрелок в полку, тем не менее успел проиграть капитану больше пяти гиней. Американцы не только производили лучшие ружья в мире – Джон Браунинг запатентовал магазинную винтовку, которую Винчестер превратил в непревзойденное оружие, – но и безусловно превосходили всех в искусстве его применения. Сказывалась разница между пионерами Дикого Запада с их длинноствольными винтовками и британской пехотой, стрелявшей залпами из гладкоствольных мушкетов. Мунго Сент-Джон, настоящий американец, владел и дуэльными пистолетами, и «шарпсом», словно они были частью его тела.
Береговую линию снова поглотило холодное зеленоватое море, и Робин ощутила смутное беспокойство. Она рвалась к земле с отчаянным упорством, ничуть не ослабевшим с давней минуты расставания. Казалось, вся ее жизнь в последующие годы была лишь подготовкой к возвращению, долгой и полной препятствий, непреодолимых для женщины. Как часто она боролась с соблазном поддаться отчаянию, меж тем как другие видели в этом злостное упрямство, самонадеянность и заносчивость! Она с большим трудом, по крохам черпала свое образование в библиотеке дяди, сталкиваясь с его явным неодобрением.
– Книжная премудрость тебе только помешает, милочка. Не женское дело забивать голову заумными мыслями. Лучше бы помогала матери на кухне да училась шитью и вязанью.
– Я уже умею и то и другое, дядя Уильям.
Лишь позже дядюшка оценил ум и настойчивость племянницы, и его неохотные ворчливые уступки постепенно сменились полной поддержкой.
Дядя Уильям, старший брат матери, принял к себе всех троих, когда они вернулись из дальних диких краев почти без средств к существованию, имея лишь денежное пособие (всего 50 фунтов в год), полагавшееся отцу от Лондонского миссионерского общества. Уильям Моффат, имевший скромную врачебную практику в Кингс-Линне, с трудом содержал родственников, неожиданно свалившихся ему на шею.
Позже, много позже, средства появились, и немалые: чуть ли не три тысячи фунтов – гонорары за издание книг отца; однако самые тяжелые времена семье помог пережить дядя Уильям. Ему удалось наскрести достаточно денег, чтобы приобрести патент на офицерский чин для Зуги, ценой продажи двух охотничьих лошадей и унизительных хождений к ростовщикам. О лучших полках и даже регулярной армии мечтать не приходилось – юноша поступил в 13-й Мадрасский полк туземной пехоты, регулярное подразделение Ост-Индской компании.
Дядя Уильям сам обучал Робин, пока она не сравнялась с ним в знаниях, а потом помог совершить небывалый по тем временам обман, которого она, впрочем, никогда не стыдилась. В 1854 году ни одна медицинская школа в Англии не принимала женщин, поэтому племянница (на средства и по рекомендации дяди) поступила в лондонскую больницу Сент-Мэтью, выдав себя за племянника. Успеху способствовали высокий рост и маленькая грудь, а низкий хрипловатый голос менять почти не приходилось, равно как и имя. Робин коротко остригла темные густые волосы и научилась носить брюки с таким щегольством, что нижние юбки и кринолины, путающиеся в ногах, с тех пор ее неизменно раздражали.
Власти больницы обнаружили, что она женщина, лишь после вручения Робин диплома Королевского хирургического колледжа, когда ей исполнился двадцать один год. Они тут же потребовали дисквалификации обманщицы, и последовавший скандал прокатился по всей Англии, немало подогретый тем фактом, что девушка оказалась дочерью Фуллера Баллантайна, знаменитого исследователя Африки, путешественника, врача, миссионера и писателя. В конце концов ревнителям устава Сент-Мэтью пришлось отступить, поскольку у Робин и дяди Уильяма нашелся покровитель в лице Оливера Уикса, толстенького коротышки и главного редактора «Стандарда». Распознав сенсационный материал, как истинный журналист, он в громкой редакционной статье воззвал к британской традиции честной игры, всячески высмеял туманные намеки клеветников на сексуальные оргии в операционных и превознес выдающиеся успехи талантливой и увлеченной молодой девушки, достигнутые вопреки непреодолимым трудностям.
Однако диплом врача стал лишь первым шагом по долгому пути в Африку, о которой Робин так давно мечтала. Почтенные директора Лондонского миссионерского общества серьезно встревожились, получив прошение от женщины. Одно дело жена миссионера, в высшей степени полезная, чтобы ограждать мужа от плотских соблазнов в окружении неодетых язычников, и совсем другое – женщина-миссионер.
Было и другое обстоятельство, ставившее под сомнение кандидатуру доктора Робин Баллантайн. Ее отец, Фуллер Баллантайн, официально покинувший миссионерское общество шесть лет назад, чтобы исчезнуть в африканских дебрях, полностью дискредитировал себя в глазах директоров. Вне всякого сомнения, исследования и личные успехи интересовали его куда больше, чем приведение невежественных язычников в веру Христову. За тысячи миль странствий по Африке Фуллер Баллантайн обратил в христианство одного-единственного туземца – личного слугу. Вместо того чтобы выступать посланником Христа, он объявил крестовый поход африканской работорговле, превратив здание своей первой миссии в убежище для беглых невольников. Миссия в Колоберге – оазисе на южной оконечности великой пустыни Калахари – стоила Лондонскому миссионер обществу огромных расходов.
Как только Фуллер основал приют для беглецов, случилось неизбежное. Их прежние хозяева, буры-переселенцы, чьи крошечные независимые республики окружали миссию с юга, вызвали отряд коммандос, поддерживавший порядок на границе. Сотня бородатых всадников, с обожженными солнцем лицами цвета африканской земли и одетых в домотканую холстину, ворвалась в Колоберг за час до рассвета. Яркие вспышки мушкетов озарили тьму, а когда вспыхнула соломенная кровля, стало светло как днем.
Беглых рабов вместе со слугами из миссии и вольноотпущенниками заковали в длинные цепи и отправили на юг, а Фуллер Баллантайн с кучкой родных остался посреди жалких спасенных из огня пожитков и клубов дыма, поднимавшихся над обугленными остовами хижин. Укрепившись в ненависти к институту рабства, он одновременно получил нравственное оправдание для того, к чему неосознанно давно стремился: избавиться от обузы, мешавшей ему ответить на зов бескрайних неизведанных просторов северной Африки. Жена и двое детишек были отправлены в Англию, а с ними – письмо директорам Лондонского миссионерского общества. Господь ясно выразил свою волю Фуллеру Баллантайну: пойти на север, дабы нести слово Божье огромному континенту, стать вольным миссионером, не прикованным более к одной крошечной миссии, и сделать своим приходом всю Африку.
Совет директоров миссионерского общества немало расстроила потеря миссии, но еще больше – перспектива снаряжения дорогостоящей экспедиции для исследования областей, которые, как известно всему миру, представляют собой, за исключением узкого побережья, огромную пустыню, лишенную воды и жизни, сплошные выжженные пески, простирающиеся на четыре тысячи миль к северу, до самого Средиземного моря. Фуллеру Баллантайну тут же написали ответ, толком не зная, куда его послать, однако спеша снять с себя всю ответственность. В письме выражалась глубокая озабоченность и подчеркивалось, что, предпринимая подобные своевольные действия, Баллантайн не вправе рассчитывать ни на какие дополнительные средства свыше годового жалованья в пятьдесят фунтов стерлингов. Как оказалось, руководство общества могло не спешить и не беспокоиться, ибо, взяв с собой нескольких носильщиков, слугу-христианина, «кольт», винтовку, два ящика с лекарствами, дневники и навигационные инструменты, беспокойный миссионер исчез.
Он снова объявился в низовьях Замбези восемь лет спустя – в португальском поселке в устье реки, к большой досаде местных поселенцев, которые за двести лет не сумели пройти вверх по реке и сотни миль. Фуллер Баллантайн возвратился в Англию, и его книга «Миссионер в дебрях Африки» произвела настоящую сенсацию. Этот человек, пересекший пешком всю Африку от западного до восточного побережья, своими глазами видел там не безжизненные пески, а реки и озера, зеленые холмы, дышащие прохладой, огромные дикие стада и странных туземцев – но чаще всего он наблюдал страшные преступления, творимые охотниками за рабами. Разоблачения миссионера раздули в сердцах британцев искру, зажженную полвека назад Уильямом Уилберфорсом, возглавившим движение за отмену рабства.
Внезапная слава блудного сына привела в замешательство совет директоров Лондонского миссионерского общества, им пришлось изменить свое отношение и приступить к действиям. Фуллер Баллантайн указал места для будущих миссий, куда, затратив многие тысячи фунтов стерлингов, отправили группы преданных делу мужчин и женщин. Британское правительство под впечатлением от его описания реки Замбези как прямого и удобного пути в недра Африки назначило Фуллера Баллантайна консулом ее величества и финансировало экспедицию, призванную открыть новую артерию для распространения торговли и цивилизации во внутренние области континента.
Фуллер вернулся в Англию писать книгу, но даже в дни воссоединения с семьей родные видели великого человека не чаще, чем в те годы, когда он пропадал в заморских джунглях. Отец то запирался в студии дяди Уильяма, работая над описанием путешествий, то ездил в Лондон обивать пороги министерства иностранных дел или Лондонского миссионерского общества, а получив от них все необходимое для возвращения в Африку, разъезжал по Англии, читая лекции в Оксфорде или произнося проповеди в Кентерберийском соборе.
Неожиданно он уехал, на это раз забрав и мать. Отец наклонился поцеловать дочь на прощание во второй раз, и Робин навсегда запомнила прикосновение к щекам колючих бакенбард. В ее представлении отец составлял чуть ли не одно целое с Богом, всемогущим и всегда правым, которому она слепо и безоговорочно поклонялась.
Годы спустя выяснилось, что площадки, выбранные под миссии, оказались гиблыми местами, что оставшиеся в живых миссионеры с трудом добрели до цивилизованного мира, а их друзья и супруги погибли от лихорадки и голода или были растерзаны дикими зверями и еще более дикими людьми, которых они приехали спасать… Звезда Фуллера Баллантайна закатилась. Экспедиция под его началом, посланная министерством иностранных дел на реку Замбези, потерпела крах, не сумев преодолеть бурных порогов и водопадов ущелья Кабора-Басса, через которое река прорывается с грохотом и ревом, низвергаясь с высоты в тысячу футов на протяжении двадцати миль. Все удивлялись, как миссионер, пройдя, по его словам, по Замбези от истока до моря, не заметил столь грозного препятствия. Сомнения стали вызывать и другие рассказы путешественника, а британское министерство иностранных дел, скупое донельзя, в раздражении от пустой траты денег на экспедицию лишило Баллантайна ранга консула. Миссионерское общество послало ему очередное пространное письмо, требуя в будущем ограничить свою деятельность обращением язычников и проповедью слова Божьего.
В ответ Фуллер Баллантайн направил прошение об отставке, тем самым сэкономив обществу пятьдесят фунтов стерлингов в год. Одновременно он послал сыну и дочери ободряющее письмо, призывая не терять силы духа и веры, и вручил издателю рукопись, где оправдывал свое руководство экспедицией. Забрав последние гинеи, оставшиеся от щедрых гонораров за предыдущие книги, Баллантайн исчез в глубинах Африки. С тех пор прошло восемь лет, и о путешественнике больше никто не слышал.
И вот дочь этого человека, успевшая снискать себе не менее скандальную славу, просила принять ее в Лондонское миссионерское общество на работу.
На помощь вновь пришел дядя Уильям, старый добрый ворчун в очках с толстыми стеклами и с копной непокорных седых волос. Представ вместе с Робин перед советом директоров, он напомнил им про ее деда, Роберта Моффата, одного из самых известных африканских миссионеров со списком новообращенных в несколько десятков тысяч. Старик все еще работал в Курумане и совсем недавно составил словарь языка сечуана. Робин набожна и предана делу, получила медицинское образование и хорошо владеет туземными языками, которым ее выучила покойная мать, дочь того самого Роберта Моффата. Почтение, с которым к упомянутому Роберту Моффату относился даже самый воинственный из африканских королей Мзиликази, правящий народом ндебеле, или, как его иногда называли, матабеле, несомненно, заставило бы туземцев охотно принять его внучку.
Лица директоров оставались непроницаемыми. Дядя Уильям продолжил речь, намекнув, что Оливер Уикс, главный редактор газеты «Стандард», защитивший девушку от попыток руководства больницы Сент-Мэтью лишить ее права на медицинскую практику, наверняка заинтересуется причинами, по которым ее не приняли в миссионеры. Только тогда директора зашевелились, переглянулись и, тихо посовещавшись, одобрили прошение. Робин откомандировали в другую миссионерскую организацию, которая, в свою очередь, отправила ее работать в промышленные трущобы северной Англии.
Как вернуться в Африку, придумал брат. Зуга прибыл из Индии в отпуск с отличными рекомендациями: майор индийской армии, он заслужил повышение на поле боя и приобрел репутацию хорошего солдата и талантливого командира с большим будущим.
Несмотря на все успехи, брат оставался столь же неудовлетворенным своей жизнью, как и Робин. Волки-одиночки по характеру, они, подобно отцу, не любили подчиняться авторитетам и уставам. Многообещающий старт военной карьеры не помешал Зуге нажить в Индии сильных врагов, что ставило под сомнение его будущее в тех краях. Подобно Робин, он все еще искал себя, и, встретившись после долгих лет разлуки, брат с сестрой приветствовали друг друга с теплотой, какую редко выказывали в детстве.
В «Золотом вепре», куда Зуга повел сестру ужинать, она, в восторге от такой перемены в ежедневной рутине, решилась на второй бокал кларета и заметно воспрянула духом.
– Черт возьми, сестренка, ты похорошела, – заметил брат, подмигнув.
Армейская развязность поначалу шокировала Робин, но она быстро привыкла. В нищих кварталах, где приходилось работать, звучало и не такое.
– Ты слишком хороша, чтобы проводить жизнь среди этих жутких старух.
Настроение беседы мгновенно изменилось, и Робин наконец доверилась брату, излив свои переживания. Он слушал сочувственно, взяв ее за руку, и она, тихо, но с отчаянной решимостью продолжала:
– Зуга, я должна вернуться в Африку. Я умру, если останусь здесь. Да-да, засохну и умру!
– Боже мой, почему именно в Африку?
– Я там родилась, там моя судьба… и потому, что там папа, где-то там.
– Я тоже там родился. – Улыбка смягчила резкие черты его лица. – Насчет судьбы – не уверен… Конечно, я не прочь бы отправиться туда поохотиться, но что касается отца… Тебе не кажется, что главной его заботой был всегда Фуллер Баллантайн? Не могу представить, что ты до сих пор питаешь к нему столь горячие родственные чувства.
– Он не такой, как другие, Зуга, его нельзя судить по обычным меркам.
– С тобой многие согласились бы, – хмыкнул брат, – в миссионерском обществе или министерстве иностранных дел… Но как отец он…
– Я люблю его! – с вызовом воскликнула Робин. – Сильнее – разве что Бога.
– Он погубил мать, ты ведь знаешь. – Губы брата сжались в привычную жесткую линию. – Взял на Замбези в сезон лихорадки и этим убил так же верно, как если бы приставил ей пистолет к виску.
Помолчав, Робин с грустью промолвила:
– Да, пожалуй, его нельзя назвать ни хорошим отцом, ни любящим мужем, зато как мечтатель, первооткрыватель, просветитель…
Зуга крепко сжал ее руку.
– Верно, сестренка!
– Я читала его книги, письма, все, что он писал маме или нам, и знаю точно, что мое место там, в Африке, с ним!
Зуга задумчиво погладил густые бакенбарды.
– Ты всегда умела меня вдохновить… – Неожиданно он сменил тему. – Слышала, что на Оранжевой реке нашли алмазы? – Зуга поднял бокал, внимательно разглядывая осадок на дне. – Ты и я, мы с тобой такие разные, и в то же время очень похожие.
Долив еще вина, он небрежно заметил:
– Я по уши в долгах, сестренка.
Робин похолодела, она с детства боялась этих слов.
– Сколько? – тихо спросила она наконец.
– Двести фунтов.
– Так много! – выдохнула Робин. – Зуга, неужели ты… играл? – Еще одно ужасное слово. – Играл, да?
– Ну, вообще-то играл, – усмехнулся он, – и слава Богу, что играл, а то был бы должен на тысячу больше.
– Ты хочешь сказать… что играешь и выигрываешь? – Первоначальный ужас девушки несколько улегся, сменяясь оживленным интересом.
– Не всегда, но большей частью.
Робин внимательно посмотрела на брата, словно увидев его впервые. Двадцатишестилетний, но его самоуверенность придавала солидности – он выглядел лет на десять старше. Суровый профессиональный солдат, закаленный в схватках на афганской границе, где провел в полку четыре года. Робин знала, как жестоки были бои со свирепыми горцами, и догадывалась, что Зуга в них отличился, иначе не продвинулся бы по службе так быстро.
– Как ты оказался в долгах?
– У большинства моих сослуживцев, даже младших по званию, есть личные состояния, а я майор и должен держать марку. – Он снова пожал плечами. – Охота, обеды и ужины для друзей, поло…
– Как же ты расплатишься?
– Можно выгодно жениться, – улыбнулся Зуга, – или найти алмазы. – Он отхлебнул вина и сгорбился в кресле, глядя в сторону. – Я как-то читал Корнуоллиса Харриса… Помнишь, каких мы видели зверей, когда жили в Колоберге?
Робин молча покачала головой.
– Ну да, ты же была еще маленькая, – кивнул Зуга. – А я вот помню. Газели, антилопы гну – целые стада на пути в Кейптаун. Однажды ночью видел даже льва в свете походного костра. Харрис в своей книге описывает охотничьи экспедиции до самой Лимпопо – так далеко еще никто не заходил… кроме отца, конечно. Черт возьми, это куда занятнее, чем бить черных антилоп или фазанов. Знаешь, сколько Харрис отхватил за свои рассказы? Почти пять тысяч!
Зуга отставил бокал, выпрямился и достал из серебряного футляра сигару. Закуривая, он задумчиво нахмурил брови.
– Ты вот хочешь ехать в Африку по высоким соображениям… Мне, наверное, тоже стоит туда отправиться, но по более серьезной причине – за кровью и золотом. У меня есть предложение. – Он лихо отсалютовал бокалом. – Экспедиция Баллантайнов!
Робин неуверенно рассмеялась, приняв это за шутку, однако послушно подняла бокал, все еще почти полный.
– За экспедицию! Но каким образом? Как мы туда доберемся, Зуга?
– Как зовут того типа из газеты? – поинтересовался брат, не ответив.
– Уикс, Оливер Уикс. Только с какой стати он станет нам помогать?
– Я придумаю вескую причину, – пообещал брат.
Робин припомнила, что даже в детстве Зуга обладал недюжинным красноречием и даром убеждения.
– Ты знаешь, пожалуй, я тебе верю, – улыбнулась она.
Они выпили вино, и, опустив бокал, Робин почувствовала, что счастлива как никогда.
Снова они увиделись лишь через полтора месяца. Робин выходила из вагона, а Зуга пробирался к ней сквозь сутолоку вокзала Лондон-Бридж, возвышаясь над толпой в цилиндре и широком пальто-накидке.
– Сестренка! – радостно воскликнул он, обнял сестру и приподнял. – Мы едем, на самом деле едем!
Нанятый кеб стоял наготове, и едва они сели, возница хлестнул лошадей.
– От Лондонского миссионерского общества не оказалось никакого проку, – начал Зуга, все еще придерживая Робин за плечи. Кеб покачивался, грохоча по неровным булыжникам. – Я внес общество в список на пятьсот монет, так их чуть удар не хватил. Пожалуй, они предпочли бы навсегда оставить отца в Черной Африке, да еще приплатили бы пять сотен, чтобы он никогда не возвращался.
– Так ты и к совету директоров ходил? – удивилась сестра.
– Оставил козыри напоследок, – улыбнулся Зуга. – Следующим номером был Уайтхолл – я встретился с первым секретарем. Он был очень любезен, пригласил меня на обед в «Травеллерс» и очень сокрушался, что не может оказать финансовое содействие. Они слишком хорошо помнят отцовское фиаско с Замбези… Однако я получил от него рекомендательные письма – не меньше дюжины, ко всем важным лицам – к губернатору колонии, адмиралу Кемпу в Кейптауне и прочим.
– На письмах далеко не уедешь, – вздохнула Робин.
– Потом я направился к твоему газетному приятелю, – продолжал брат. – Удивительный коротышка, подметки на ходу рвет! Едва я заикнулся, что мы собрались в Африку искать отца, как он подскочил и захлопал в ладоши, как мальчишка на кукольном представлении про Панча и Джуди. – Зуга крепче обнял сестру. – Признаюсь, твое имя я использовал вовсю, и это сработало. Малыш получит все права на издание наших путевых журналов и дневников и на обе книги в придачу…
– Обе книги? – Робин испуганно отшатнулась.
– Ну да, обе, – усмехнулся он, – твою и мою.
– Я должна написать книгу?
– А как же! Экспедиция глазами женщины. Я уже подписал договор от твоего имени.
Робин рассмеялась, с трудом переводя дух.
– Не слишком ли ты торопишься?
– Коротышка Уикс подписался на пять сотен, – деловито продолжал брат, – а следующим в списке было Общество борьбы с работорговлей, тут все пошло как по маслу. В патронах у них его королевское высочество, а он читал отцовские книги. Мы должны доложить о положении дел во внутренних районах к северу от тропика Козерога, и получаем за это еще пятьсот гиней.
– Зуга, ты просто волшебник!
– Ну и, наконец, Лондонская Богоугодная компания по торговле с Африкой, которая последние сто лет работает исключительно с западным побережьем. Я убедил их в срочной необходимости заняться и восточным, в результате чего был назначен агентом компании с заданием изучить местный рынок пальмового масла, копаловой смолы, меди и слоновой кости. Имеем с них последние пять сотен и винтовку Шарпса в подарок.
– Полторы тысячи гиней! – ахнула Робин.
Зуга кивнул.
– Вернемся домой с шиком.
– Когда?
– Отправимся на американском торговом клипере, что через шесть недель отплывает из Бристоля к мысу Доброй Надежды и далее в Мозамбик. Я возьму отпуск из армии на два года – тебе придется сделать то же самое в миссионерском обществе.
События мелькали одно за другим, как во сне. Совет директоров Лондонского миссионерского общества, возможно, от облегчения, что не придется платить за переезд и обустройство Робин в дебрях Черного континента, проявил неслыханную щедрость, решив сохранить за Робин ее жалованье на время отсутствия, и осторожно пообещал по возвращении пересмотреть условия работы. Если она проявит себя, то получит постоянное место в Африке. Это было даже больше, чем ожидала Робин, и она принялась рьяно помогать Зуге готовиться к отъезду.
Дел оказалось так много, что шести недель едва хватило, но вскоре гору экспедиционного оборудования погрузили в трюм изящного балтиморского клипера.
Ходовые качества «Гурона» вполне соответствовали его внешнему виду, оправдывая выбор Зуги. Под умелым управлением Мунго Сент-Джона корабль забирал к западу, чтобы пересечь экваториальную штилевую полосу в самом узком месте. Не потеряв из-за штиля ни одного дня, «Гурон» пересек экватор в 29° западной долготы, и капитан тут же взял влево навстречу юго-восточным пассатам. Корабль лавировал круто к ветру, сопровождаемый стайками летучих рыб, и лишь когда на горизонте показался остров Тринидад, хватка пассатов наконец ослабла. С ревом налетел норд-вест, и подхваченный им «Гурон» помчался вперед под сплошной низкой пеленой, через которую дни и ночи напролет не пробивались ни солнце, ни луна, ни звезды, и в результате едва не оказался выброшенным на берег в двухстах милях к северу от мыса Доброй Надежды, места своего назначения.
– Господин помощник! – раздался звучный голос Мунго Сент-Джона, когда корабль благополучно развернулся против ветра и стал удаляться от земли.
– Есть, капитан! – гаркнул стоявший у грота Типпу во всю мощь своей бычьей глотки.
– Кто там наверху?
Типпу резко, словно кулачный боец, пропуская удар, задрал круглую голову, похожую на пушечное ядро, и прищурил глаза, терявшиеся среди тяжелых мясистых складок кожи.
– Еще двадцать минут, и посадил бы нас на скалы, – продолжал Сент-Джон зловещим ледяным тоном. – На решетку мерзавца, сегодня же, – посмотрим, какого цвета у него хребет.
Типпу плотоядно облизнул губы, и у Робин, стоявшей неподалеку, подступил ком к горлу. Она знала, о чем идет речь, – за время плавания матросов пороли уже трижды. Типпу был наполовину араб, наполовину негр – меднокожий гигант с бритой головой, исполосованной бледными шрамами от бессчетных драк. Могучее тело скрывала свободная вышитая рубаха с высоким воротом, из широких рукавов торчали ручищи толще женского бедра.
Девушка быстро обернулась к подошедшему Зуге.
– Мы хорошо рассмотрели землю, сестренка, – довольно сказал он. – Первый раз удалось точно определиться после Тринидада. Если ветер не переменится, через пять дней будем в Столовой бухте…
– Зуга, поговори с капитаном! – горячо перебила Робин. Брат удивленно моргнул. – Он собирается выпороть того беднягу.
– И правильно, черт возьми, – хмыкнул Зуга. – Из-за него мы чуть не врезались в берег.
– Пусть он отменит приказ…
– Вмешиваться в управление кораблем? Даже не подумаю… и тебе не позволю.
– Неужто в тебе нет ни капли человечности? – холодно бросила она. На щеках вспыхнули алые пятна, глаза блеснули злыми зелеными огоньками. – А еще называешь себя христианином…
– Называю, но не кричу об этом, дорогая, – усмехнулся он, прекрасно зная, что такой ответ еще больше разозлит сестру. – Во всяком случае, не выставляю напоказ при каждом удобном случае.
Их споры всегда вспыхивали внезапно, как летние грозы в южноафриканском вельде, и были не менее эффектны.
Мунго Сент-Джон неторопливо подошел и облокотился о поручень, сжимая белоснежными зубами длинную гаванскую сигару из грубого черного табака. Насмешливый взгляд его искрящихся золотом глаз подстегнул гнев Робин. Отвернувшись от брата, она набросилась на капитана, сорвавшись почти на крик:
– На прошлой неделе вы уже одного искалечили! Вам мало?
– Доктор Баллантайн, – капитан поднял брови, – я прикажу Типпу снести вас вниз и запереть в каюте, пока вы не придете в себя и не вспомните о хороших манерах.
– Вы не посмеете! – вспыхнула она.
– Посмею, уверяю вас. И это, и еще многое другое.
– Совершенно верно, – тихо подтвердил Зуга. – Капитан корабля имеет право делать все, что ему угодно. – Он положил руку на плечо девушки. – Ну-ну, успокойся, сестренка. Парню повезло – подумаешь, сдерут пару лоскутков кожи! Не самое страшное наказание.
Робин молчала, задыхаясь от бессильной ярости.
– Если вы, доктор, настолько щепетильны, – продолжал насмехаться капитан, – я дозволяю вам не присутствовать на экзекуции. В конце концов, нельзя забывать, что вы женщина.
– Я никогда не просила с этим считаться, ни разу в жизни! – воскликнула она, стараясь обуздать гнев.
Робин стряхнула с плеча руку брата и развернулась, надменно выпрямив спину и развернув плечи, но палубу качало, а чертовы юбки путались в ногах, мешая сохранять достоинство. Осознав, что мысленно произнесла неподобающее слово, она решила, что помолится о прощении позже, но не сейчас, и повторила уже вслух:
– Черт бы вас побрал, капитан Мунго Сент-Джон, будьте вы прокляты!
Порывистый ветер на баке трепал волосы, выдергивая пряди из аккуратного пучка на затылке и бросая в лицо, – густые, темные и шелковистые, совсем как у матери, с каштановым оттенком. Бледный зеленоватый луч солнца пробился наконец сквозь тучи, высветив над изящной головкой девушки сияющий ореол.
Робин сердито смотрела прямо перед собой, едва замечая волнующую красоту пейзажа. Белесая пелена то разрывалась, обнажая холодные бирюзовые волны, то смыкалась перламутровой завесой. Туман тянулся следом за кораблем, повисая на парусах и реях, словно клубы дыма при пожаре. Местами поверхность океана темнела и словно вскипала – здешние воды, богатые планктоном, привлекали огромные косяки сардин, которые поднимались за пищей и становились, в свою очередь, добычей морских птиц. Стаи крикливых пернатых пикировали с высоты, поднимая белые облачка брызг, похожие на клочья ваты.
Мощный пласт тумана заключил судно в холодные влажные объятия, и Робин, оглянувшись, различила на юте лишь призрачные очертания фигур капитана и брата. Внезапно «Гурон» вышел на чистое пространство, залитое солнечным светом. Тучи, висевшие над головой последние недели, откатились на юг, а ветер набрал силу и повернул к востоку, взбивая гребешки волн изящными страусовыми перьями кудрявой пены.
В тот же миг Робин увидела другой корабль – так пугающе близко, что собралась было закричать, но ее опередила дюжина других голосов.
– Парус!
– Парус по левому борту!
Чужой корабль оказался почти рядом – видна была даже дымовая труба между гротом и бизанью. Корпус окрашен в черный цвет, под орудийной палубой – по пять пушек с каждого борта – проведена красная полоса. Грязно-серые паруса, закопченные клубами дыма, резко отличались от белоснежной оснастки «Гурона», усугубляя зловещий вид гостя.
Мунго Сент-Джон быстро навел подзорную трубу на незнакомое судно. Котлы погашены, даже воздух над трубой не дрожит от жара. Идет под малыми парусами.
– Типпу! – позвал он негромко. Великан-помощник вырос рядом, точно волшебный джинн из арабских сказок. – Встречал его раньше?
Типпу повернул голову и сплюнул через подветренный борт.
– Англичанин, – проворчал он. – Видел восемь лет назад в Столовой бухте. Называется «Черная шутка».
– Из Капской эскадры?
Типпу утвердительно буркнул, и в этот момент чужак резко лег под ветер, а на топе его мачты взвился флаг. Кричащие алые и белые тона бросали вызов всему миру, и мир давно уже научился относиться к ним с почтением. Однако оставалась еще одна держава, которая могла позволить своим кораблям не ложиться в дрейф при виде грозного сигнала. Подними «Гурон» свои «звезды и полосы», и назойливому представителю Королевского военно-морского флота Великобритании пришлось бы отступиться.
Капитан задумался, оценивая ситуацию. В мае 1860-го, за шесть дней до выхода «Гурона» из балтиморской гавани, Авраама Линкольна выдвинули кандидатом в президенты Соединенных Штатов. В случае избрания, что выглядит весьма вероятным, он вступит в должность в начале будущего года, а затем наверняка, не теряя времени, предоставит Великобритании права в соответствии с Брюссельским договором, включая право на досмотр американских судов в открытом море, которому прежние президенты упорно сопротивлялись. А значит, очень скоро, а может, и раньше, чем он ожидает, Мунго Сент-Джон всерьез столкнется с одним из таких патрульных кораблей, входящих в Капскую эскадру, и сейчас само небо посылает ему возможность помериться силами, оценить силы противника.
Капитан охватил быстрым взглядом море с барашками волн, погоняемых ветром, белую пирамиду парусов над головой и черный силуэт с подветренной стороны. Решение пришло само собой. Ветер донес пушечный грохот, и носовое орудие гостей выбросило длинный шлейф порохового дыма. Противник требовал немедленного повиновения.
– Вот наглый ублюдок! – усмехнулся Сент-Джон. – А ну посмотрим, каков он на ходу. – И тихо бросил рулевому: – Руль к ветру!
«Гурон» послушно лег под ветер, отворачивая в сторону от грозного гостя. Капитан повернулся к Типпу:
– Отдать все рифы, господин помощник. Поставить фок– и грот-марсель, поднять лиселя и трюмселя, грот-бом-брамсель так держать – да, и бом-кливер тоже. Клянусь Богом, мы покажем этому грязному англичанишке, этому угольщику, какие корабли строят в Балтиморе!
Даже в гневе Робин отдавала должное сноровке, с которой американец управлял кораблем. Матросы гурьбой лезли по реям к риф-штертам, гроты раздувались во всю ширь, ослепляя белизной в солнечных лучах, а где-то в самой вышине, где начиналась режущая глаз небесная синева, раскрывались, словно перезрелые коробочки хлопка, какие-то новые паруса незнакомой формы, и стройный изящный корпус послушно вздрагивал с каждым новым толчком.
– Ей-богу, летим как по волшебству! – с восторгом воскликнул Зуга, едва успевая утащить сестру с бака: на палубу «Гурона», взрезавшего, словно ножом, пенистые гребни атлантических валов, обрушилась зеленоватая стена воды.
Паруса распускались один за другим, и толстые стволы мачт выгибались, как натянутые луки, под невероятным напором тысяч квадратных футов раздутой парусины. Корабль, казалось, и в самом деле летел над водой, соскакивая с одного гребня и врезаясь в другой с оглушительным ударом, от которого сотрясался шпангоут и клацали зубы у команды.
– Бросьте лаг, господин помощник, – распорядился Мунго Сент-Джон и, услышав, как Типпу проревел в ответ: «Чуть больше шестнадцати узлов, кэп!» – радостно расхохотался и шагнул к кормовому борту.
Канонерская лодка исчезала вдали, будто стояла на месте, хотя искала ветер каждым дюймом грязных парусов. Дистанция между охотником и дичью почти достигла пушечного выстрела. Черный нос вновь окутался облаком порохового дыма, и на сей раз выстрел был уже не предупредительным – ядро пробило гребень волны всего в двух кабельтовых за кормой, скользнуло по пенистой зеленой поверхности и ушло под воду у самого борта «Гурона».
– Капитан, вы подвергаете опасности жизнь команды и пассажиров!
Сент-Джон обернулся, вопросительно приподняв густую черную бровь. Высокая девушка, стоявшая рядом, продолжала:
– Это британский военный корабль, сэр, а мы ведем себя как преступники. Они открыли огонь. От вас требуется всего-навсего лечь в дрейф или по крайней мере поднять флаг…
– Думаю, сестра права, капитан Сент-Джон. – Зуга встал рядом. – Мне непонятны ваши действия.
Палубу резко качнуло – «Гурон» взбирался на большую волну, понуждаемый громадой парусов. Не устояв на ногах, Робин упала капитану на грудь, но тут же отпрянула, залившись краской негодования.
– Это африканский берег, майор Баллантайн, – спокойно парировал Мунго Сент-Джон. – Здесь все не так, как кажется, и лишь глупец определит по флагу государственную принадлежность незнакомого вооруженного судна. А теперь, если вы и любезный доктор позволите, я вернусь к выполнению своих обязанностей.
Он окинул взглядом верхнюю палубу, оценивая настроение команды и неистовый бег корабля, отстегнул с пояса связку ключей и бросил ее Типпу:
– Сходите в оружейную и возьмите пару пистолетов для себя и второго помощника. Стреляйте в каждого, кто станет ловчить с парусами.
Матросов охватил страх, большинству ни разу не доводилось идти на такой бешеной скорости, и нельзя было исключать панических попыток замедлить ход.
«Гурон» сильно накренился, черпнул бортом, и ревущая стена воды прокатилась по палубе. Один из матросов на вантах замешкался, вода подхватила его, протащила по палубе и ударила о фальшборт, где он и остался лежать, скорчившись, словно клубок водорослей на морском берегу, выброшенный штормом. До него пытались добраться товарищи по команде, но следующая волна отшвырнула их, залив палубу по пояс, и скатилась за борт ревущим пенистым водопадом. Вместе с ней исчез и несчастный матрос. Палуба опустела.
– Смотрите за трюмселями, мистер Типпу, они не работают как надо.
Капитан повернулся к борту, не обращая внимания на исполненный ужаса укоряющий взгляд Робин Баллантайн.
Тем временем британский корабль почти скрылся из виду, и над горизонтом виднелись лишь верхушки его парусов, едва различимые на фоне седобородых атлантических валов. Мунго Сент-Джон поспешно выхватил подзорную трубу из гнезда под штурманским столиком и вгляделся. Над крошечным треугольником парусов, затерявшихся среди волн, возникла тонкая черная полоска, словно нарисованная тушью.
– Дым! – проворчал он, когда рядом снова возник Типпу с пистолетами за поясом. – Они все-таки развели пары.
– Один винт, – хмыкнул великан, покачав круглой бритой головой. – Не догнать.
– По ветру, да еще по такому, никак, – согласился капитан. – А если наоборот? Снова левый галс, господин помощник! Попробую обойти их круто к ветру и обогнать на пушечный выстрел.
Неожиданный маневр захватил командира противника врасплох, и он запоздал с переменой курса, не успев срезать угол, что позволило Сент-Джону уйти на наветренную сторону. «Гурон» пронесся мимо буквально по кромке ветра крутым бейдевиндом с туго выбранными шкотами, держась на грани досягаемости пушек. Выстрелив наугад по ныряющему силуэту противника, британское судно повернуло к ветру для преследования, тут же продемонстрировав все недостатки своей конструкции, которые подвели его в предыдущей гонке. Чтобы разместить тяжелый паровой котел и машины, вращавшие большой бронзовый винт под кормой, пришлось поступиться конструкцией мачт и парусной оснасткой.
Через пять минут стало ясно, что даже на всех парусах и с двигателем, изрыгающим густой жирный шлейф угольного дыма, «Черная шутка» не способна идти так круто к ветру, как высокий стройный парусник впереди. Ее медленно, но верно сносило в подветренную сторону, и хотя разница в скорости не была столь заметна, «Гурон» неуклонно увеличивал дистанцию. Британский капитан взял еще круче, отчаянно пытаясь следовать курсу на клипер, но паруса захлопали и бессильно обвисли. В ярости от своей неудачи он полностью оголил мачты и пошел на одних машинах прямо против ветра, чего, разумеется, не мог «Гурон», но едва гребной винт перестал получать помощь от парусов, скорость резко упала. Шторм завывал вовсю, и даже голые снасти тормозили ход, а белоснежный клипер отрывался все сильнее.
– Вот ведь дурацкая коптилка! – Мунго Сент-Джон пристально следил за мучениями англичанина, оценивая его маневры. – Я сделаю с ней все, что вздумается. С каплей ветра уйдем играючи.
Капитан противника оставил попытку обойтись паровым ходом и поставил паруса, натужно пыхтя в бурлящем фарватере «Гурона», – но вдруг, нежданно-негаданно, клипер выскочил в штилевое пятно. Линия шторма четко виднелась на поверхности моря. По одну сторону зияла темная пучина, исполосованная когтями ветра, по другую мирно перекатывались океанские валы, и их горбатые гладкие спины отливали бархатистым блеском.
Как только «Гурон» пересек границу, шум ветра, непрерывно стоявший в ушах многие недели, сменился неестественной жутковатой тишиной. Корабль, прежде полный жизни и рвавшийся вперед, подобно морскому чудовищу, теперь бесцельно болтался на волнах, как бревно. Паруса наверху полоскались и хлопали от завихрений воздуха, порожденных беспорядочной качкой, такелаж трещал и гремел – казалось, мачты вот-вот вывалятся из гнезд.
Противник за кормой упорно продвигался вперед, быстро уменьшая разделявшую корабли дистанцию. Черный столб угольного дыма поднимался отвесно в неподвижном воздухе, придавая преследователю торжествующе-грозный вид. Мунго Сент-Джон бросился к передним поручням юта и всмотрелся – всего в двух-трех милях по курсу свирепый ветер рвал в клочья темно-синие пенистые гребни, но перед носом корабля простиралась лишь маслянистая рябь.
Черный корабль неумолимо приближался, высоко выбрасывая дым в яркую синеву неба. Орудийные порты были открыты, демонстрируя толстые стволы 32-фунтовых пушек. Бурлящий след от винта за кормой искрился белизной в солнечном свете.
«Гурон» полностью потерял ход, и рулевой больше не мог держать курс. Судно бессильно дрейфовало, зарываясь носом в волны и медленно разворачиваясь бортом к преследователю.
На мостике у британцев уже можно было различить трех офицеров. Носовое орудие снова выстрелило – ядро взметнуло высокий столб воды так близко к борту «Гурона», что вода обрушилась на палубу и потекла в шпигаты.
Мунго Сент-Джон с отчаянием оглядел горизонт, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки возвращения ветра, и наконец сдался.
– Поднять флаг, – бросил он помощнику и приник к подзорной трубе – выяснить, какое замешательство это вызовет на мостике у преследователей. Яркое цветное полотнище взвилось на грот-рее, обвиснув в неподвижном воздухе.
Такой флаг англичане ожидали увидеть меньше всего. Они подошли настолько близко, что на лицах офицеров ясно читались разочарование и смущение.
– Не видать вам призовых денег – на сей раз уж точно, – с мрачным удовлетворением пробормотал Сент-Джон, щелчком складывая трубу.
Военный корабль подошел к «Гурону» на расстояние оклика и развернулся бортом, угрожающе выставив жерла 32-фунтовых пушек. Самый высокий офицер на мостике был, по-видимому, старше всех. Шагнув к ближнему борту, он поднес к губам рупор:
– Что за корабль?