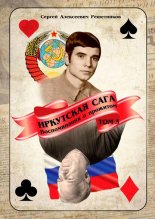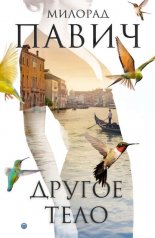Полет сокола Смит Уилбур
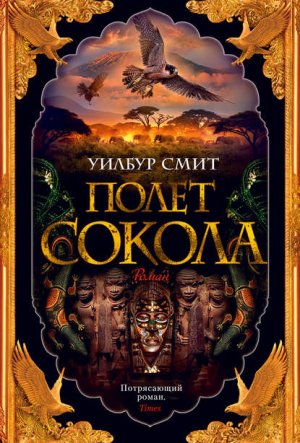
Молодые воины стояли колонной позади боевых рядов, держа на головах ящики и тюки.
Страх Робин тут же сменился гневом: матабеле возвращались по Дороге гиен с востока, и легко было догадаться, чем они расплатились за эти презренные товары.
– Работорговцы! – бросила она – Господь милосердный, это же те самые, которых мы ищем, они возвращаются, сделав свое грязное дело… Джуба, прячься скорее!
Зажав под мышкой «шарпс», Робин вышла через калитку в колючей изгороди. Ближайшие воины опустили щиты и с любопытством уставились на белую женщину. Похоже, Джуба была права: матабеле не собираются нападать.
– Где ваш индуна? – гневно спросила Робин.
Любопытство воинов сменилось изумлением.
Плотные ряды заколыхались, и вперед выступила впечатляющая фигура. Благородная осанка и надменный вид безошибочно указывали на высокое положение. Это был воин, закаленный в сражениях и увенчанный славой.
В полной тишине вождь спокойно заговорил.
– Где твой муж, белая женщина? – спросил он. – Или отец?
– Я говорю за себя и за свой народ.
– Ты женщина, – мягко возразил индуна.
– А ты работорговец! – тут же вспыхнула Робин. – Ты торгуешь женщинами и детьми.
На лице воина отразилось недоумение, потом он закинул голову и рассмеялся звонким мелодичным смехом.
– Ты не просто женщина, – проговорил он, – ты дерзкая женщина.
Индуна сдвинул щит на плечо и прошел мимо. Робин шагнула в сторону, глядя на него снизу вверх. Походка воина была упругой и уверенной, мускулистая спина блестела, словно покрытая черным шелком, высокие страусовые перья на голове покачивались, боевые трещотки на лодыжках шелестели в такт шагам. Он направился к пролому в колючей изгороди.
Повинуясь знаку Робин, капрал-готтентот взял штык «на караул».
Окинув лагерь быстрым взглядом, индуна снова рассмеялся.
– Ваши носильщики разбежались, – сказал он. – Шакалы машона чуют запах настоящего мужчины за день пути.
Робин прошла за ним в лагерь и спросила с непритворным гневом:
– По какому праву ты вторгся в мой крааль и напугал моих людей?
Воин обернулся.
– Я человек короля, – сказал он, – и иду с королевским поручением.
Он явно считал такое объяснение более чем достаточным.
Индуна по имени Ганданг был сыном Мзиликази, короля и верховного вождя матабеле и всех подчиненных им племен. В жилах матери Ганданга текла чистейшая кровь Занзи, пришедших с юга, но она была младшей женой, и поэтому ее сын не мог претендовать на королевский престол. Однако Мзиликази любил его и доверял больше, чем кому-либо из сотен сыновей и жен, – не только потому, что Ганданг был красив, умен и бесстрашен, но и потому, что сын жил в строгом согласии с законами и обычаями своего народа, не раз доказывая делом преданность своему отцу и королю.
За это и за прочие заслуги любимый сын был отмечен многими почестями, о чем свидетельствовали кисточки коровьих хвостов на руках и ногах. В двадцать четыре года он стал самым молодым индода, удостоенным венца индуны и места в высоком совете, где к его голосу прислушивались даже седые старцы. Когда перед племенем стояла трудная задача или угрожала война, стареющий король, искалеченный подагрой, все чаще и чаще обращался к своему проверенному помощнику. Узнав о предательстве одного из индун, командовавшего пограничной стражей на юго-восточном участке Выжженных земель, Мзиликази без колебаний призвал Ганданга.
– Бопа, сын Баквега, – предатель, – произнес он.
В знак высшего благоволения отец снизошел до того, чтобы объяснить свой приказ.
– Сначала он, согласно повелению, убивал тех, кто пересекал границу, но потом поддался жадности и стал захватывать людей, как скот, и гнать на восток к путукези (португальцам) и сулумани (арабам), а мне сообщал, что они мертвы. – Старый король, морщась от боли, размял распухшие ноющие суставы, взял понюшку табаку и продолжил: – Жадность Бопы росла, и жадность тех, с кем он торговал, тоже, поэтому он стал искать и другой скот. В тайне от меня он начал совершать набеги на племена за пределами Выжженных земель.
Стоя на коленях перед отцом, Ганданг раскрыл рот от изумления. Машона, жившие по ту сторону Выжженных земель, считались «королевским скотом», и совершать набеги на них дозволялось только по приказу верховного вождя. Присвоение законной королевской добычи – худший вид измены.
– Да, сын мой, – кивнул король, видя ужас Ганданга. – Жадность Бопы не знала границ. Он жаждал безделушек и тряпок, которые приносили ему сулумани, и поэтому, когда машона стало недоставать, обратился против собственного народа.
Король замолчал, склонив голову в глубокой печали. Суровый деспот, чья власть не знала границ, он судил хоть и жестоко, но собственных законов не нарушал.
– Бопа посылал ко мне гонцов с обвинениями против людей матабеле, и даже против некоторых Занзи. Одних он обвинял в предательстве, других – в колдовстве, третьих – в расхищении королевских стад, и мои гонцы мчались назад с приказами убить виновных. Однако Бопа их не убивал, а уводил по дороге на восток. Теперь тела этих людей не будут погребены в родной земле, и их дух будет вечно скитаться, не находя пристанища.
Король снова опустил голову, размышляя о столь ужасной участи, и со вздохом продолжил голосом тонким, как у женщины, – трудно было представить, что это говорил могучий завоеватель и бесстрашный воин.
– Обрати копье против предателя, сын мой, а когда убьешь его, возвращайся ко мне.
Ганданг хотел удалиться, но король, подняв палец, остановил его.
– Когда убьешь Бопу, твои амадода и ты сам можете войти к женщинам.
Этого разрешения Ганданг ждал много лет. Право войти к женщинам и взять жен было величайшей привилегией. Громко прославляя имя отца, сын, пятясь, выполз из королевских покоев.
Ганданг выполнил приказ. Он пронес копье возмездия через всю страну матабеле, через Выжженные земли и дальше, по Дороге гиен, пока не встретил предателя, который возвращался с востока, груженный вожделенной добычей.
Они встретились на перевале меж гранитных холмов, менее чем в дне пути от места, где теперь располагался лагерь Робин Баллантайн.
Шедшие под началом Ганданга воины иньяти – «буйволы» – в головных уборах из страусовых перьев и юбках из хвостов циветты, с пятнистыми черно-белыми щитами из бычьих шкур, окружили отряд охотников за рабами, отобранный из лучших инхламбене, «пловцов», воинов Бопы. Работорговцы в юбках из обезьяньих хвостов носили на головах перья белой цапли, их боевые щиты обтягивали бычьи шкуры красно-коричневого цвета.
Правда и закон были на стороне иньяти, и, совершив быстрый охватывающий маневр джикела, отряд Ганданга смял растерянных, сознающих свою вину инхламбене. Сражение длилось лишь несколько ужасных минут.
Молодой индуна сам вступил в бой с могучим седовласым Бопой. Противник, умелый и коварный воин, покрытый шрамами, пережил тысячи подобных стычек. Черно-белый и красно-коричневый щиты сталкивались с ужасающим грохотом – казалось, это дерутся между собой буйволы. Победила молодость: Ганданг, более сильный и ловкий, сумел зацепить край коричневого щита и отшвырнул его в сторону, обнажая бок противника.
– Нгидла – я его съел! – пропел молодой вождь, вонзая широкое копье между ребрами Бопы.
Он вытащил лезвие, плоть, сопротивляясь, чмокнула, как липкая грязь под ногами путника, идущего по болоту. Алая кровь брызнула из сердца предателя, окропив щит молодого воина и кисточки из коровьих хвостов на его руках и ногах.
Вот почему Ганданг рассмеялся, когда Робин назвала его работорговцем.
– Я человек короля, – повторил он. – А что ты здесь делаешь, белая женщина?
Он очень мало знал об этом странном народе. Когда импи Мзиликази сражались с белыми далеко на юге и были оттеснены на север, туда, где располагалась теперь страна матабеле, Ганданг был еще ребенком. Несколько раз большой крааль его отца в Табас-Индунас посещали путешественники, торговцы и миссионеры, которым король «даровал путь», пропуская через строго охраняемую границу.
Индуна подозрительно относился к белым людям с их нелепыми пестрыми товарами, подозрительной привычкой отбивать куски от скал вдоль дороги и глупой болтовней о великом белом человеке, жившем на небе. Нкулу-кулу, великий бог матабеле, ни за что не потерпел бы такого соперника.
Если бы сын Мзиликази встретил эту странную женщину с ее желтыми спутниками в Выжженных землях, он бы без колебаний исполнил приказ и убил их всех. Однако они встретились в десяти днях пути от границы, и его интерес к чужестранцам ограничивался простым любопытством. Молодому воину не терпелось скорее вернуться к отцу и доложить об успехе карательной экспедиции.
– Какое у тебя дело, женщина? – надменно спросил он.
– Я пришла сказать вам, что великая королева больше не позволяет продавать людей, как скот, за горстку пестрых бус. Я пришла положить конец этой грязной торговле!
– Это дело для мужчин, – усмехнулся индуна, – и оно уже сделано.
Белая женщина его забавляла. Будь у него время, он с удовольствием поболтал бы с ней.
Ганданг уже собирался выйти за ограду, как вдруг под тростниковой крышей одного из навесов что-то мелькнуло. С быстротой, невероятной для такого рослого человека, воин нырнул в хижину и вытащил оттуда перепуганную Джубу.
– Ты из нашего народа, ты матабеле, – уверенно сказал он, всмотревшись в ее лицо.
Девушка опустила голову, ее лицо посерело от ужаса. Казалось, она сейчас лишится чувств.
– Говори, – грозно велел индуна. – Ты матабеле?
Джуба подняла глаза и шепнула едва слышно:
– Матабеле… из рода Занзи.
Чернокожий воин и девушка внимательно разглядывали друг друга. Джуба немного приободрилась, сероватая бледность исчезла с ее лица.
– Кто твой отец? – наконец спросил Ганданг.
– Я Джуба, дочь Тембу Тепе.
– Он мертв, как и все его дети, – нахмурился индуна, – убит по приказу короля.
Джуба скорбно опустила голову:
– Мой отец мертв, но его жены и дети угнаны в страну сулумани далеко за морем. Я спаслась одна.
– Бопа! – Ганданг произнес это имя как ругательство. Он задумался. – Бопа мог послать королю ложный донос…
Джуба молчала, но Робин заметила, что в девушке произошла едва уловимая перемена. Она чуть-чуть приподняла голову и слегка повернулась, соблазнительно выставив бедро. Глаза расширились, взгляд стал мягче, губы слегка раздвинулись, показывая розовый кончик языка.
– Кто для тебя эта белая женщина? – спросил Ганданг чуть хрипло.
Он держал девушку за руку, и она не пыталась высвободиться.
– Она мне как мать, – ответила Джуба.
Индуна перевел взгляд с лица на прелестное юное тело, и страусовые перья на его голове тихо качнулись. Джуба слегка повела плечами, открывая его взгляду упругие груди.
– Ты с ней по доброй воле? – настаивал Ганданг, и Джуба кивнула. – Хорошо, пусть будет так.
С трудом оторвав взгляд от девушки, он выпустил ее руку и повернулся к Робин:
– Белая женщина, работорговцы, которых ты ищешь, совсем рядом. – Его улыбка снова стала насмешливой. – Ты найдешь их на следующем перевале.
Он исчез так же тихо и быстро, как появился; воины плотной черной колонной ушли следом и через несколько минут исчезли за поворотом извилистой тропы.
Первым из слуг вернулся старый Каранга. Он смущенно выглянул из-за колючей изгороди, виновато переминаясь на тонких ногах, словно журавль.
– Почему ты сбежал, когда был мне нужен? – спросила Робин.
– Номуса, я боялся не сдержать гнев при виде этих псов матабеле, – дрожащим голосом проскрипел старик, отводя глаза.
Из кустарника робко выползали носильщики. Через час все были в сборе и горели рвением, стремясь поскорее двинуться в путь – в направлении, противоположном тому, куда скрылись воины иньяти.
Робин нашла работорговцев там, где и говорил Ганданг. Трупы валялись на перевале кучами, словно листья, наметенные осенним ветром. Почти у всех были смертельные раны в горле или груди – признак того, что под конец они сражались, как и подобает матабеле. Победители вспороли убитым животы, выпуская на волю их дух. Эту последнюю почесть оказывают тем, кто сражается доблестно.
Грифы не упустили своего: они хлопали крыльями и с хриплыми криками перелетали с трупа на труп, ссорились между собой, терзая мертвую плоть так, что тела дергались, как живые. Вверх поднимались пыль и вырванные в драке перья, шум стоял невероятный. Вокруг на деревьях и окружающих утесах сонно сгорбились уже насытившиеся птицы. Нахохлившись и вобрав в плечи лысые чешуйчатые головы, они переваривали содержимое набитых зобов, чтобы вновь вернуться к пиршеству.
Слушая хриплый хор стервятников, люди молча переступали через истерзанные пыльные останки, напоминавшие о том, что все смертны. Миновав перевал, они стали торопливо спускаться по дальнему склону, бросая назад испуганные взгляды.
У подножия холма журчал ручеек. Ниточка чистой воды вытекала из родника посреди склона и вилась от одного тенистого водоема к другому. Робин велела разбить лагерь на берегу и сразу ушла, взяв с собой Джубу. Казалось, в ущелье обитала сама смерть, и нужно было скорее смыть ее гнойное прикосновение. Робин вошла в воду, подставила голову под тонкую прозрачную струйку, падавшую в небольшой пруд, и зажмурилась, стараясь выбросить из головы ужасную картину. Джуба, повидавшая на своем коротком веку много смертей, в том числе и более ужасных, как ни в чем не бывало плескалась и резвилась в зеленоватой воде.
Робин выбралась на берег и натянула рубашку и брюки прямо на мокрое тело – в такую жару одежда высыхала за несколько минут. Закручивая волосы жгутом на макушке, она окликнула Джубу, но девушка не обратила на нее внимания и, тихо напевая, продолжала плести венок из цветов ползучей лианы, нависшей над прудом. Робин оставила ее в покое, вскарабкалась по склону и скрылась за поворотом тропы.
Джуба посмотрела вслед и вдруг заволновалась. Она не понимала, почему вдруг не послушалась доктора, и немного боялась оставаться одна. Настроение было непривычным – странное смутное волнение, словно она ждала, сама не зная чего. Она встряхнула головой, снова запела и вернулась к своей забаве.
На берегу, полускрытый ползучей листвой, к стволу дикой смоковницы прислонился высокий воин. Косые лучи солнца, падающие сквозь лесную листву, делали его похожим на пятнистого леопарда. Он стоял так уже давно, невидимый и неподвижный, привлеченный к водоему плеском воды и веселым пением. Воин наблюдал за двумя женщинами, невольно сравнивая бескровную белизну с лоснящейся темной кожей, тощую угловатую фигуру – с обильной нежной плотью, маленькие острые груди и соски цвета сырого мяса – с идеально круглыми пышными полушариями, темными и блестящими, как мокрый уголь. Узкие мальчишеские бедра смотрелись жалко рядом с великолепным широким тазом, способным вынашивать славных сыновей, а маленькие тощие ягодицы не выдерживали сравнения с истинно женственными – полными и лоснящимися.
Ганданг понимал, что впервые в жизни пренебрегает своим долгом. Ему следовало быть на расстоянии многих часов пути отсюда, вести отряд воинов на запад, но в крови взыграло безумие, и он не устоял – остановил отряд и в одиночку вернулся по Дороге гиен.
– Я краду время короля так же, как Бопа крал его скот, – говорил он себе. – Но это лишь небольшой отрезок одного дня, и после стольких лет, которые я посвятил отцу, он не будет сердиться.
Молодой индуна знал, что это не так. Сын или не сын, любимый или нет – для непокорных у короля Мзиликази было лишь одно наказание.
Чтобы вновь увидеть девушку, Ганданг рисковал жизнью. Несколько лишних слов с незнакомкой, дочерью человека, умершего смертью предателя, грозили ему той же позорной смертью.
«Сколько мужчин вырыли себе могилу своим собственным умтондо!» – вздохнул он, дожидаясь, пока белая женщина покинет водоем.
Наконец она прикрыла тощее мальчишеское тело тесными уродливыми одеждами и позвала за собой прелестное дитя. Индуна напряг всю свою волю, пытаясь внушить Джубе остаться. Белая женщина, рассердившись, исчезла за деревьями, и воин немного расслабился, с наслаждением наблюдая за купающейся девушкой. Бледно-желтые цветы сияли на темной коже, на груди и плечах блестели капли воды, как звезды на полуночном небе. Джуба напевала детскую песенку, которую Ганданг хорошо знал, и он невольно стал беззвучно подпевать.
Девушка поднялась на берег и, стоя на белом, как сахар, песке, принялась отряхивать воду. Не переставая напевать, она наклонилась, длинные тонкие пальцы с розовыми подушечками обхватили ногу и медленно спустились от бедра к лодыжке, стряхивая влагу…
Ганданг, стоя у нее за спиной, громко ахнул. Джуба мгновенно выпрямилась и повернулась к нему. Она дрожала, как вспугнутая лань, глаза расширились и потемнели от страха.
– Я вижу тебя, Джуба, дочь Тембу Тепе, – произнес он обычное приветствие.
Голос воина звучал хрипло, дыхание перехватывало.
Страх исчез из глаз девушки, в них загорелись золотистые огоньки, как солнечные лучи в чаше с медом.
– Я посланник короля и требую права дороги, – промолвил Ганданг и коснулся ее плеча. Джуба вздрогнула, по коже поползли мурашки.
«Право дороги» – обычай, пришедший с южного побережья, с древней родины матабеле. Такого права Сензангахона потребовал от Нанди – «Сладостной», но Сензангахона не чтил закона и проник под запретный покров. Вследствие этого проступка у него родился незаконный сын Чака, «Червь в животе», будущий король зулусов и бич этой страны, тот самый Чака, от тирании которого увел свое племя на север вождь Мзиликази.
– Я верная служанка короля, – робко ответила Джуба, – и не могу отказаться утешить того, кто следует по дороге с королевским поручением.
Она улыбнулась ему – улыбкой не бесстыдной, не вызывающей, а ласковой, доверчивой и полной восхищения. Сердце молодого воина сжалось.
Воин был с ней ласков, очень ласков, так спокоен и терпелив, что девушке самой не терпелось оказать ему услугу, о которой он просил. Она желала этого так же сильно, как и он. Ганданг показал ей, как сделать гнездо для него между скрещенными бедрами, и Джуба легко откликнулась на его прикосновения, но отчего-то у нее перехватило дыхание, и она не смогла ответить ему.
Он был в ее гнезде, и она чувствовала, как сердце и все тело переполняет странное незнакомое беспокойство. Девушка пыталась пошевелиться, высвободить плотно сжатые бедра и раскрыть их для него, пыталась впустить его в себя. Она не могла больше выносить это сухое, дразнящее трение его тела о внутреннюю поверхность бедер. Ей хотелось ощутить, как мужчина погружается в теплую зовущую влагу, которую она дарит ему, ощутить, как он скользнет глубоко внутрь ее тела. Но уважение к обычаям и законам было в нем столь же сильно, как его мускулистое тело. Ганданг держал ее, не выпуская, и вдруг Джуба почувствовала, что его объятия ослабли – на белый песок мощной струей брызнуло семя. В этот миг девушку охватила такая горечь, что она едва не расплакалась.
Индуна не выпускал девушку из объятий, его грудь вздымалась, по темной гладкой спине и жилистой шее блестящими ручейками стекал пот. Джуба приникла к нему и крепко обняла обеими руками, положив голову на плечо. Никто из них не произнес ни слова.
– Ты нежная и прекрасная, как первая ночь новой луны, – после долгого молчания прошептал Ганданг.
– А ты черный и сильный, как бык на празднике чавала.
Джуба воспользовалась сравнением, наиболее почетным для матабеле. Бык был символом богатства и мужественности, а для праздника чавала избирался лучший бык из королевских стад.
– Ты будешь одной из многих жен! – ужаснулась Робин.
– Да, – согласилась Джуба. – Самой первой – другие будут почитать меня.
– Я заберу тебя с собой, научу очень многому и покажу великие чудеса.
– Я уже видела величайшее из чудес.
– Ты всю жизнь будешь только вынашивать детей.
Джуба кивнула со счастливым видом.
– Если повезет, я принесу ему сотню сыновей.
– Мне будет не хватать тебя.
– Ты моя мать, Номуса, и я бы ни за что на свете не покинула тебя ни ради кого – кроме одного человека.
– Он хочет подарить мне коров.
– Моя семья погибла, ты теперь моя мать, – пояснила Джуба. – Это плата за невесту.
– Я не могу принять плату, ты не рабыня!
– Тогда ты унизишь меня. Я из рода Занзи, и Ганданг говорит, что я самая красивая женщина в стране матабеле. Ты должна назначить лобола в сто голов скота.
Робин велела позвать индуну.
– Плата за свадьбу – сто голов скота, – сурово произнесла она.
– Ты продешевила, – надменно ответил Ганданг. – Джуба стоит во много раз больше.
– Держи скот в своем краале до моего возвращения, – продолжала Робин. – Хорошо ухаживай за ним и следи, чтобы стадо приумножалось.
– Все будет, как ты скажешь, амекази.
На сей раз Робин не могла не улыбнуться в ответ – в улыбке индуны больше не сквозило насмешки, его зубы сверкали белизной, и он был, как и сказала Джуба, по-настоящему красив.
– Береги ее, Ганданг.
Робин обняла и расцеловала подругу – их слезы смешались. Не оглядываясь, Джуба поспешила за высокой стройной фигурой молодого индуны. На голове девушки возвышался узел с пожитками, ее ягодицы под короткой бисерной юбочкой весело подскакивали.
Жених и невеста поднялись на холм и скрылись за перевалом.
Дорога гиен уходила в горы, в туманные безлюдные долины, поросшие вереском и усеянные серыми камнями причудливых очертаний. Она шла мимо частоколов и бараков для невольников, о которых рассказывала Джуба, мимо рынков, где белые и черные вели отвратительный торг человеческими жизнями, где невольники меняли деревянное ярмо на кандалы и цепи. Однако сейчас бараки пустовали, тростниковые крыши просели и обвисли неопрятными лохмотьями, над прогнившими частоколами витал тошнотворный дух неволи. Робин велела поджечь бараки – ничем другим она помочь не могла.
Миновав покрытые туманом горы, дорога спустилась в темные ущелья и наконец вывела на болотистую прибрежную низменность. Тяжелое пасмурное небо давило удушливой жарой, уродливые баобабы вздымали вверх скрученные артритом ветви, как увечные паломники перед исцеляющей святыней.
Здесь путешественников и застали дожди. На переправе через реку поток унес троих; еще четверо, включая одного из готтентотов, умерли от лихорадки, первый приступ болезни свалил и саму Робин. Трясясь от озноба, в лихорадочном бреду она скользила и спотыкалась в грязи, сквозь которую прорастала трава. Зловонные миазмы поднимались из затопленных до краев болот и серебристыми призраками зависали над ядовито-зелеными полянами меж зарослей чахлых «малярийных» деревьев.
Лихорадка и тяготы последних переходов ослабили людей, которым оставался самое большее день пути от португальского побережья, где можно было рассчитывать на покровительство христианского короля и правительства цивилизованной страны. В последнюю ночь готтентотские часовые задремали возле тлеющего сторожевого костра, сложенного из сырых дров. Там их и настигла смерть: острые ножи перерезали глотки от уха до уха, не дав даже вскрикнуть.
Робин проснулась от того, что ей грубо заломили руки – в поясницу уперлось твердое колено, на запястьях холодно лязгнули стальные наручники. Ее рывком поставили на ноги и выволокли из дырявой промокшей хижины, наспех сооруженной у обочины Дороги гиен.
Накануне вечером, истерзанная лихорадкой, Робин смертельно устала и уснула не раздеваясь и сейчас была в мятой фланелевой рубашке и заляпанных грязью молескиновых брюках. Она даже не сняла матерчатую шапочку, прикрывавшую волосы, и в темноте нападавшие не поняли, что перед ними женщина. Робин приковали к общей цепи вместе с носильщиками и готтентотами. Цепь не оставляла сомнений в том, кто взял их в плен. В сумрачном утреннем свете оказалось, что работорговцы, в основном полукровки и черные, одеты в обноски европейской одежды и вооружены современным оружием.
Чтобы встретить этих людей, Робин пересекла половину континента, но теперь дрожала от страха, возлагая все надежды на свои грязные лохмотья. Она содрогалась при мысли о том, что ее ждет, если маскарад раскроется, и проклинала свою наивную веру в то, что цвет кожи и национальность сами по себе послужат ей защитой от этих хищников в человеческом обличье. Человеческая плоть, любого цвета и состояния, была их привычной добычей. Англичанка или нет, она была для них лишь скотиной, предназначенной на убой, посаженным на цепь существом, цена которому – несколько мелких монет. Робин понимала, что этим зверям ничего не стоит поразвлечься с ней или же бросить у дороги с пулей в виске в случае малейшего сопротивления, поэтому молчала и беспрекословно повиновалась любому приказу или жесту. Увязая в грязи, караван медленно продвигался на восток. Невольников заставили нести собственные припасы и снаряжение, также ставшие добычей работорговцев.
До моря оказалось ближе, чем рассчитывала Робин. Издалека веял соленый ветерок, а ближе к ночи запахло древесным дымом и в нос ударило хорошо знакомое зловоние запертых в неволе людей. Впереди мерцал огонек костра, тускло освещая наводящие ужас очертания бараков.
Дорога снова шла вдоль темных, обмазанных глиной частоколов. С той стороны доносилось душераздирающее горестное пение: потерявшие надежду пленники пели о земле, которой никогда больше не увидят.
Впереди показалось небольшое открытое пространство, окруженное бараками. На утоптанной глинистой земле возвышался помост из грубо оструганных досок. Его назначение стало ясно, когда одного из носильщиков втащили по ступенькам и выставили в центре, а в костры по сторонам площадки подбросили сухих дров. Помост служил аукционной площадкой, и похоже было, что торги состоятся немедленно.
Главным здесь был чистокровный португалец, маленький человечек, похожий на злобного гнома, с морщинистым загорелым лицом, добродушной улыбкой и немигающими змеиными глазами. Его изящно скроенные куртку и брюки дополняли щегольские сапоги и пояс из тисненой иберийской кожи с массивной серебряной пряжкой. За поясом была заткнута пара дорогих пистолетов, на маленькой голове, как у истинного португальского идальго, красовалась широкополая шляпа с плоской тульей.
Перед тем как взобраться на помост, он небрежным тычком в спину отослал одного из слуг к деревянному резному барабану, стоявшему на краю площади. Слуга неистово замолотил палочками, призывая покупателей на торг. Его голый торс, озаренный пламенем костров, блестел от пота и дождя.
Откликаясь на тревожный ускоряющийся ритм, из тени деревьев и жилых хижин, стоявших позади бараков, стали выходить люди. Некоторые, оторванные от застолья, шли рука об руку, размахивая бутылками рома и распевая пьяными голосами, другие шли молча, поодиночке. Люди окружили помост.
В толпе были представлены все оттенки кожи, какие только можно себе представить: иссиня-черный, коричневый, желтый, совершенно белый, как брюхо дохлой акулы. Черты лица попадались африканские и арабские, азиатские и европейские. Даже одежда являла собой величайшее разнообразие – от спадающих складками аравийских бурнусов до поблекшей роскоши вышитых курток и высоких сапог. Общим было лишь одно: ястребиная цепкость свирепых глаз и безжалостные расчетливые лица.
Невольников из каравана втаскивали на помост и срывали с них последние лохмотья, чтобы продемонстрировать телосложение. Время от времени кто-нибудь из покупателей, словно цыган на ярмарке лошадей, подходил пощупать мышцы пленника или заставлял его открыть рот и показать зубы. Дав покупателям как следует ознакомиться с товаром, маленький португалец выступал на край помоста и начинал торг.
Люди вокруг называли его Афонсу и разговаривали с ним грубовато и шутливо, сохраняя при этом настороженную почтительность, что яснее ясного говорило о его здешней репутации.
Под началом Афонсу торговля шла быстро. Готтентоты, маленькие и тощие, с масляно-желтой кожей и курносыми плоскими лицами, вызывали у покупателей мало интереса и продавались всего по несколько серебряных рупий за голову. Черные носильщики, рослые, мускулистые, окрепшие за несколько месяцев тяжелых переходов с грузом, удостаивались большего внимания. Наконец очередь дошла до старого Каранги. Дряхлый и беззубый, он с трудом забрался на помост, качаясь на журавлиных ногах и едва не падая под тяжестью цепей.
Раздался общий хохот, маленький португалец напрасно упрашивал хоть кого-нибудь назначить цену, а затем пренебрежительно махнул рукой. Старика стащили с помоста и поволокли в темноту. Робин поняла, что сейчас произойдет, и, позабыв всякую осторожность, выкрикнула:
– Нет! Отпустите его!
Никто даже не взглянул в ее сторону, а человек, державший цепь, влепил Робин тяжелую пощечину. Она на миг ослепла, упав на колени в грязь, и сквозь звон в ушах услышала пистолетный выстрел.
Горько плачущую, ее подняли на ноги, выволокли в круг света и за цепь втащили на помост.
– Молодой и тощий, – сказал португалец, – но довольно светлый. Если отрезать яйца, сгодится в мальчики для оманских гаремов. Кто даст десять рупий?
– Дай-ка поглядеть, – раздался голос из круга.
Афонсу повернулся к Робин, зацепил верхнюю пуговицу и разорвал фланелевую рубашку до пояса. Робин сжалась, согнулась пополам, пытаясь прикрыться, но человек, стоявший сзади, дернул за цепь и заставил ее выпрямиться – из разорванной рубашки выглянули острые груди. Толпа взволнованно загудела; зрители зашевелились, хищно переглядываясь.
Афонсу многозначительно тронул рукоятку одного из заткнутых за пояс пистолетов, и гул мгновенно стих. Толпа подалась назад.
– Десять рупий? – повторил он.
Из круга шагнул высокий стройный человек. Робин тотчас же узнала его. На голове покупателя красовалась лихо заломленная шляпа, под ее широкими полями курчавились густые черные волосы. Он улыбнулся, в свете пламени сверкнули белоснежные зубы. Лицо раскраснелось от возбуждения.
– Золото! – хрипло выкрикнул он. – Даю золотой мухур Ост-Индской компании, и чума разрази того, кто побьет мою цену.
– Золотой мухур! – возвестил аукционист. – Мой брат Камачо Перейра ставит золотой мухур, и я желаю ему удачи. – Он хихикнул. – Ну же, кто помешает моему братцу Камачо позабавиться с этой девкой?
Один из покупателей хлопнул Камачо по спине:
– Боже мой, и горяч же ты! За такие деньги я бы на нее не полез.
Камачо хищно расхохотался и подошел к краю помоста. Приподняв шляпу, он прошептал:
– Долго же мне пришлось ждать…
Трясясь от ненависти, Робин отпрянула назад, насколько позволяла цепь.
– Ну, – взывал аукционист, – кто даст больше золотого мухура за сладкую…
– Она моя! – отрезал Камачо. – Кончай торг.
Афонсу Перейра поднял руку с молотком, когда из толпы вдруг раздалось:
– Даю двойного орла, сэр! Двадцать американских долларов золотом.
Негромкий голос был отчетливо слышен каждому из собравшихся на площади. Впрочем, такой голос донесся бы с юта до верхушки грот-мачты при восьмибалльном шторме. Робин вздрогнула, не веря своим ушам, и резко повернулась, качнув цепями. Этот ленивый протяжный говор запомнился ей на всю жизнь. Человек ступил в освещенный круг, и все головы повернулись к нему.
Улыбка застыла на лице Афонсу.
– Объявляй цену! – потребовал новый покупатель, на голову возвышаясь над толпой. Рядом с ним окружающие казались низкорослыми бродягами.
Афонсу замялся и кивнул.
– Двадцать долларов золотом, – мрачно произнес он. – Капитан Мунго Сент-Джон с клипера «Гурон» дает двойного орла.
От потрясения у Робин подкосились ноги, но стоявший сзади надсмотрщик снова дернул цепь и заставил ее стоять прямо. Камачо Перейра резко развернулся, окидывая американца свирепым взглядом. Мунго Сент-Джон ответил вежливой снисходительной улыбкой. Никогда прежде он не казался Робин таким красивым и грозным. Отблески костра играли на темных волнистых волосах, глаза с желтыми искорками уверенно, не дрогнув, смотрели в искаженное яростью лицо Камачо.
– Тысяча рупий, Камачо, – небрежно произнес он. – Можешь дать больше?
Португалец, скрипнув зубами, повернулся к брату.
– Одолжишь?
– Я никогда не даю в долг, – с усмешкой известил его Афонсу.
– Даже брату? – не отставал Камачо.
– Брату тем более, – ответил Афонсу – Отступись от девки, получишь дюжину получше ее по полсотни рупий за голову.
– Мне нужна она. – Камачо снова обернулся к Мунго Сент-Джону: – Отдай мне ее! Это дело чести, понимаешь?
Он снял шляпу и отшвырнул прочь, в толпу, пригладил густые черные кудри и вытянул руки в стороны, разминая пальцы, словно фокусник в цирке.
– Моя новая ставка, – зловеще произнес он, – золотой мухур плюс десять дюймов толедской стали! – Нож в руке португальца, казалось, возник из воздуха, нацелившись в живот Мунго Сент-Джона. – Проваливай, янки, пока мне не досталась и женщина, и твой золотой орел!
Толпа кровожадно взвыла и быстро расступилась, окружив соперников. Покупатели расталкивали друг друга, пробираясь в первые ряды, и шумно переговаривались.
– Ставлю сто рупий, что Мачито выпустит ему кишки!
– Идет!
С лица Мунго Сент-Джона не сходила улыбка. Глядя на португальца, он вытянул правую руку. Из публики вынырнула огромная, похожая на жабу фигура с круглой и лысой, как пушечное ядро, головой. Проворно, как змея, Типпу протиснулся вперед и вложил нож в руку капитану, потом развязал свой вышитый кушак и вручил ему. С застывшей улыбкой Мунго обмотал кушак вокруг левой руки.
Робин не могла отвести глаз от его лица, но капитан ни разу не взглянул в ее сторону.
В этот миг в нем было что-то божественное. Суровые классические черты, широкие плечи под белоснежной рубашкой, тонкая талия, перетянутая широким кожаным ремнем, сильные стройные ноги в темных брюках – казалось, он сошел прямо с Олимпа. Робин готова была молиться на этого человека.
Камачо стянул куртку, обмотал левую руку и сделал пробный выпад – серебристая сталь со свистом мелькнула в воздухе, как крылья стрекозы. При каждом ударе португалец слегка сгибал и разгибал колени, разминая мышцы перед схваткой. Легко ступая по глинистой площадке, он шагнул вперед, стараясь отвлечь и напугать противника обманными движениями ножа.
Лицо Мунго Сент-Джона стало суровым и внимательным, как у математика, размышляющего над сложной задачей. Нож он держал низко, за левой рукой, обмотанной кушаком, и проворно разворачивался, не давая противнику зайти сзади. Робин невольно вспомнила ночь, когда он танцевал на балу в адмиралтействе: такой же высокий и изящный, экономный в движениях, в совершенстве владеющий своим телом.
Зрители притихли и вытянули шеи, ожидая первой крови. Камачо сделал новый выпад, и толпа взревела, как публика на корриде, когда на арену врывается бык. Мунго Сент-Джон, едва заметно шевельнув бедрами, ушел от удара и снова развернулся лицом к португальцу.
Камачо продолжал атаковать. Американец дважды без видимых усилий уклонялся от ударов, но каждый раз немного отступал и в конце концов оказался вплотную прижатым к первому ряду зрителей, словно боксер, загнанный в угол ринга. Пользуясь преимуществом, Камачо шагнул вперед, и в тот же миг, как по заказу, из толпы высунулась нога в грубом сапоге.
Люди стояли слишком тесно, и никто не понял, кто это был, но подсечка сзади едва не сбила американца с ног. Чтобы не растянуться в грязи, Мунго неловко изогнулся, однако не успел он восстановить равновесие, как Камачо ударил его длинным блестящим клинком.
Робин вскрикнула. Хотя Мунго проворно отскочил, по белой рубашке расползлось алое пятно, словно роскошное бургундское вино по обеденной скатерти. Рука капитана дрогнула, нож упал в грязь.
Под яростный рев толпы португалец азартно рванулся вперед, как хорошо натасканный пес за подбитым фазаном. Сент-Джон снова отскочил, зажимая рану и увертываясь от ножа противника. Новый удар Камачо пришелся по обмотанной кушаком левой руке. Лезвие рассекло вышитую ткань почти до самой кожи.
Перейра умело гнал американца к аукционному помосту. Почувствовав за спиной твердое дерево, Мунго вздрогнул, понимая, что попал в ловушку. Камачо ринулся на противника, целясь в живот, его губы хищно раздвинулись, показывая великолепные белые зубы. Капитан Сент-Джон снова отразил нож защищенной рукой, а правой схватил нападавшего за запястье. Мужчины стояли вплотную, напирая друг на друга и покачиваясь взад-вперед, их руки переплелись, как побеги лиан. От усилия из раны хлынула кровь, однако Мунго сумел постепенно развернуть руку португальца, так что острие ножа смотрело уже не в живот, а в ночное небо.
Американец твердо уперся ногами в землю и весь подобрался – его лицо потемнело, челюсти сжались, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Рука Камачо медленно поддавалась, на лице отразился страх: теперь нож смотрел прямо на него. Оба противника не сводили глаз со сверкающего лезвия, напрягая все силы.
Острие ножа царапнуло грудь португальца, на коже показалась капелька крови.
Афонсу Перейра, стоявший на помосте рядом с Робин, украдкой потянул из-за пояса пистолет, но не успела она вскрикнуть, как сзади мелькнула тень, и Афонсу уронил руку – над ним возвышалась огромная безволосая фигура, прижимая к виску португальца большой гладкоствольный пистолет. Покосившись снизу вверх на великана, Перейра судорожно вернул оружие за пояс. Робин по-прежнему завороженно следила за схваткой, продолжавшейся у ее ног.
Лицо Сент-Джона налилось кровью и потемнело, мышцы под тонкой рубашкой вздулись буграми. Упершись левой ногой в бревна помоста, он всей своей тяжестью налег на руку противника, сжимавшую нож, как матадор налегает на шпагу, вонзая ее в загривок быка. Камачо сопротивлялся еще миг, потом лезвие снова двинулось вперед и медленно, как питон, заглатывающий газель, вошло в тело. Рот португальца раскрылся в последнем отчаянном вопле, пальцы бессильно разжались, и клинок на всю длину погрузился ему в грудь с такой силой, что перекрестие рукояти с резким стуком ударилось о ребра.