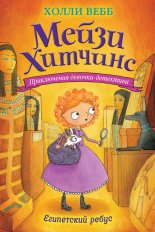Другое тело Павич Милорад
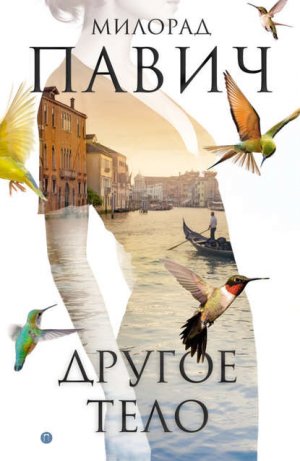
© Савельева Л. А., перевод на русский, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Первая часть
1. Три мудрых воды из Эфеса
В красивом желтом автобусе (подарок японского правительства), который кружил по белградским улицам, раздался сигнал мобильного телефона. Моцарт. Женщина среднего возраста в черной каракулевой папахе, завитки которой было невозможно отличить от завитков ее волос цвета воронова крыла, принялась торопливо рыться в своей сумочке и карманах. Мобильника нигде не было. Тут телефон зазвонил снова. Снова Моцарт. Звук доносился из кармана парня, который стоял рядом с ней.
– Это мой мобильник, в вашем кармане, – проговорила Лиза Свифт, а это была именно она, с легким иностранным акцентом.
– Да что вы говорите! – откликнулся парень, нисколько не смутившись, и в тот же момент из его кармана снова зазвучал Моцарт.
– Почему же тогда господин не отвечает на звонок, если это его телефон? – все с тем же странным акцентом иронически спросила Лиза у парня.
Тот немного помедлил, словно выжидая. Автобус замедлил ход перед остановкой на Теразие. Когда он остановился, парень достал из кармана дамский мобильный телефон Nokia и поднес его к уху:
– Алло! Слушаю!
И тут же выпрыгнул на тротуар, протянув телефон Лизе со словами:
– Это вас. Вас ищет муж!
Лиза вскрикнула на каком-то иностранном языке, в последний момент выскочила из автобуса, выхватила у парня мобильник и крикнула в него обезумевшим голосом: «Алло!» Но связь уже прервалась.
Разумеется, я, ее муж, звонить не мог, потому что я уже сорок дней покоился на белградском кладбище, по адресу: улица Рузвельта, 50.
По прошествии первых недель траура Элизабет Свифт, моя жена, точнее вдова, заказала заупокойную службу и после нее уехала в село Бабе у подножия Космая, где находился мой родовой дом. Нужно было уладить кое-какие юридические формальности, связанные с моей тамошней собственностью. Она сидела за завтраком в застекленном разноцветными стеклами портике. В ее воспоминаниях всплывали события нашей совместной жизни, и прежде всего те необычные обстоятельства, при которых мы познакомились и поженились.
Дело было так.
Прежде всего следует сказать, что я тогда вступил в тот возраст, когда начинаешь понимать, что каждый год имеет свои плохие дни. В моем случае они роились вокруг дня рождения. Тогда я снова превращался в ребенка, то есть мог на лету хватать свои мысли, как мух. В один из таких дней я открыл электронную почту и обнаружил письмо из тех, какие обычно посылают женщины, предлагающие эротическую связь. Под стандартным текстом стояла подпись некой Элизабет Свифт, о которой я до тех пор никогда не слышал. Был указан и ее электронный адрес. Госпожа Свифт писала:
Hi!
I think we had correspondence a long time ago, if it was not you, I am sorry. If it was, I could not answer you because my Mozilla mail manager was down for a long time and I could not fix it only with my friends help, so I got the emails address out for me…
I hope it was whom we were corresponded with you are still interested, as I am, though I realize much time has passed since then.
I really don’t know where to start.
Maybe you could tell me a little about yourself since I lost our early letters, your appearance, age, hobbies and are you still in the search?
If it was you, I wrote to and you are interested to get to know me better I have a profile at: http://ermo.org.
Don’t really know what else to say for now I hope this is the right address. Let me know if you are interested. And I hope you won’t run when you see my picture.
Au revoir
your devoted reader Elizabeth Imola Swift.
В переводе ее письмо выглядело так:
Привет!
Мне кажется, что довольно давно мы состояли в переписке, а если это был не ты, мне очень жаль. А если это все-таки был ты, имей в виду, что в последний раз я не смогла тебе ответить, потому что мой интернет-браузер сдох и никто из моих друзей не смог вернуть его к жизни. Поэтому у меня больше не было твоего адреса.
Итак, я надеюсь, что ты, тот, с кем я переписывалась, все еще заинтересован в контакте со мной, хотя с тех пор прошло много времени.
Просто не знаю, с чего начать.
Может быть, ты мог бы рассказать мне немного о себе, что с тобой произошло с того момента, как я осталась без твоего адреса, как ты сейчас выглядишь, сколько тебе лет, какое у тебя хобби и нашел ли ты то, что искал, или все еще в поиске?
Если ты – это именно тот, кому я писала, и если тебе интересно познакомиться со мной ближе, моя фотография есть на сайте: http://ermo.org.
Не знаю, что еще написать сейчас, надеюсь, что это твой настоящий адрес. Сообщи мне, если заинтересовался. И надеюсь, ты не сбежишь, увидев мою фотографию.
Au revoir,
Твоя преданная читательница, Элизабет Имола Свифт.
Письмо я прочел и забыл с улыбкой, которая всегда имеется в арсенале писателя для читательниц. Но Лиза Имола Свифт повела себя не так, как все. Вскоре она появилась в моей жизни лично.
Если вы писатель, то не исключено, что читательница, которой понравилась любовь, описанная в какой-нибудь из ваших историй, или читатель, которому вы всего за несколько сотен динаров позволили на месяц поселиться в вашем романе, надумают прислать вам небольшой подарок. Такие подарки, как правило, отличаются незначительной номинальной стоимостью, но при этом обладают определенным виртуальным значением. Именно поэтому с течением лет в моей собственности оказались самые разные вещи: русский домашний божок из цветного камня, греческие четки, стеклянная сабля, наполненная грузинским коньяком, складная иконка, трубка одного читателя из Франции (которой я никогда не пользовался, потому что чужие трубки не курят), прекрасная коробка гаванских сигар, которые я выкурил с наслаждением, хотя знал, что темнокожие латиноамериканки скручивают их из табачных листьев, катая по своим широченным бедрам.
Через полгода после того, как я прочитал и забыл упомянутое письмо, госпожа Свифт снова дала о себе знать просьбой встретиться, так как у нее есть для меня небольшой подарок. Она как раз была в центре города. Мы сошлись с ней в кофейне «Que passa?» на улице Короля Петра. Лиза Имола Свифт оказалась моложе, чем я ожидал, она была весьма деловита, преуспевала в своей профессии и принадлежала к одной процветающей семье. Ее настоящую фамилию было не так-то просто выговорить: Амава Арзуага Эулохия Ихар-Свифт. Имола было ее прозвище, а имя – Элизабет. Ее мать происходила из аристократического арагонского рода Ихар, от нее Лиза унаследовала привычку засыпать по вечерам с книгой в руках, а прадед по линии отца был из Англии, где однажды в момент озарения купил в каком-то театре ложу рядом с королевской и заработал потом целое состояние, сдавая ее в аренду каждому, кто хотел, чтобы на спектаклях его видели рядом с венценосными особами. От предков-мужчин Лиза научилась тому, что свою жизнь, свои поступки и взаимоотношения с другими людьми человек может возделывать как вертоград: она насаждала и поливала их, как фруктовый сад, по плану. И прививала…
Узнав все это, я сначала было подумал, что ее интересует моя работа историка. Но нет, она вывалила на стол груду моих романов и потребовала подписать их. За этим она и пришла.
Из Турции, где Лиза время от времени работала на раскопках древних городов, она привезла мне в подарок флакончик. Я в первый момент решил, что он содержит какое-нибудь ароматическое масло. Я открыл его и понюхал. Ничем не пахло. Моя читательница улыбнулась.
– Там вода, – сказала она, – ты должен ее выпить.
Во флаконе действительно была вода, я выпил ее и тут же услышал историю, которая к ней прилагалась и которая стоила того, чтобы ее выслушать.
Эфес, древний античный город на малоазийском побережье Эгейского моря, начала рассказ Элизабет, с давних пор известен как порт, куда грузы веками доставлялись караванами из Азии, чтобы дальше отправить их морскими дорогами. Но этот город издавна знаменит и как культовое место «великих матерей». Сначала здесь находился храм Кибелы, фригийской матери богов и природы. После того как он был разрушен, из его камней воздвигли храм греческой богини Артемиды, которая была вечной девой, защитницей природы и детей. Тут, в Эфесе, завершился и земной путь Богородицы. В Евангелии от Иоанна (19:25–27) написано: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе».
Так оно и было. После смерти Христа и Его воскресения Его Мать, Дева Мария, и святой апостол Иоанн, который и свидетельствует обо всем этом, направились вместе в Эфес и здесь поселились. И здесь же завершили свою земную жизнь. Позже в Эфесе над фундаментом храма Артемиды и из его развалин была воздвигнута церковь, а затем и базилика, остатки которых сохранились до нашего времени. Потом на этом месте сельджуки построили мечеть, одну из немногих в мире мечетей без минарета. Так что и она стала сакральным сооружением с чисто «женскими» признаками: ведь минарет символизирует мужскую энергию, стремящуюся в небо, а купол – женскую грудь, предлагающую себя звездам и месяцу. Так «великие матери-девы» передавали одна другой свой камень через столетия и тысячелетия.
Однако на этом Лизин рассказ не закончился. Однажды, уже в XIX веке, монахиня из Германии по имени Анна Катарина Эмерих увидела во сне Эфес, город, где она никогда не бывала, и точное место, где под слоем земли находится дом, в котором Богородица провела последние годы земной жизни. Монахиня описала этот сон, и ее рассказ был опубликован, после чего в 1891 году священники-лазаристы на указанном ею месте раскопали здание, которое считается жилищем, где пребывала и преставилась Матерь Божия. В Ее доме есть кухня, а за ней спальня. Из дома бьет ключ с целебной водой. Его называют Богородичный источник. Вообще-то это не один, а три ключа, каждый в своей отдельной нише, красиво облицованной камнем. И каждый с собственной тайной. Дело в том, что один ключ дарит тому, кто из него напьется, здоровье, второй счастье, а третий любовь. Легенда не открывает, какой из ключей приносит счастье; какой дает здоровье, а какой одаряет любовью. При этом попытка попробовать воды понемногу из каждого будет безрезультатной, потому что целебна только та, первая, которая утолит вашу жажду…
Лиза пила из среднего ключа, а из левого взяла немного воды, чтобы подарить мне. Но и на этом ее история не кончалась. Набирая воду, моя читательница заметила записку, засунутую в щель между двумя камнями. В надежде что-то узнать о тайнах источника она взяла ее и прочитала. Бумажка содержала нечто вроде шифрованной записи и несколько цифр:
Sorriso di Kibela: 1266
Несколько разочарованная, Лиза завернула флакон в эту бумажку и продолжила свое путешествие.
Дела привели ее в Мюнхен, где она на несколько дней остановилась в отеле «Кемпински. Четыре времени года». Здесь она решила немного передохнуть и расслабиться. Позавтракала шампанским и клубникой, пообедала в заполненном русскими дамами и любовными парами кафе, где надпись у входа гласила: «Завтрак подаем до 16 часов».
После обеда она отправилась в пинакотеку посмотреть на самые первые счетные машины и собрание стульев, купила в магазине «Долмайер» чайную смесь «Снежный вальс» и поужинала устрицами. Потом сделала еще одну покупку – две чайные чашки для своего будущего замужества. Они были огромные, из какого-то легкого материала и прозрачные. В отель она вернулась усталой, но счастливой, несколько раз проплыла дорожку бассейна на крыше «Кемпински» и спустилась в свой номер. На столе нашла визитную карточку отеля с прогнозом погоды на завтра, на оборотной стороне стояло пожелание приятного сна и предложение: полдюжины видов подушек – ни больше ни меньше, которые гость мог заказать и получить в тот же вечер. Здесь имелись обычные подушки из шерсти, а также антиаллергенные шедевры XXI века, кроме того, были подушки, набитые конским волосом, дополнительные перьевые подушечки, декоративные валики, а также экземпляры, наполненные щетиной кабана. Оказывается, в отеле «Четыре времени года» каждый гость мог для «спокойной ночи» выбрать подушку вместе с содержащимися в ней снами. Можно было получить французский, русский, английский, арабский или греческий сон. Моя будущая знакомая выбрала одну из подушек, набитых щетиной, она любила спать на жестком. То ли из-за подушки, то ли благодаря воспоминаниям о только что завершившемся пребывании в Эфесе приснилось ей Эгейское море, полное какого-то вчерашнего холодного дождя, потом ей снилось, что она пьет воду из Богородичного источника в Эфесе, ту, которая вытекает с правой стороны. Проснувшись, она подумала, что, может быть, попробовав во сне воду из всех трех ключей, узнает, какая из них приносит счастье, какая любовь, а какая здоровье. Надеясь, что ей снова приснятся эфесские ключи, она на следующий вечер заказала новую подушку, на этот раз набитую волосом из конской гривы. Но ожидаемого не произошло. Источник в Эфесе ей больше не снился ни в ту, ни в следующую ночь, хотя она в третий раз поменяла подушки. Таким образом, ее паломничество в Германию закончилось на тяжелом шерстяном изголовье.
Прежде чем отправиться дальше, Лиза решила заехать в Белград и передать мне подарок – флакончик воды из Эфеса. Она вручила его мне с напоминанием, что ключи чудодейственного Богородичного источника несут не только добро, но и послание.
Великая мать Природа через воду открывает нам одну из своих тайн. Вода вечна и мудра, закончила Лиза свой рассказ, она предлагает нам истину, которую мы принимаем с трудом, как и всякую мудрость: «Наше счастье не обязательно связано с нашим здоровьем или с любовью».
Вот так все началось. Мы посмеялись над письмом, которое она заслала мне через интернет, и не прошло и полгода, как мы счастливо обвенчались. Хотя мне иногда казалось, что она больше влюблена не в меня, а в мои книги.
В наш первый совместный вечер она напела мне свою любимую песню: «Let’s Go Straight То Number One…»[1], поцеловала меня в шею и спросила:
– Ты умеешь читать поцелуи? Поцелуи похожи на любовные письма. Их можно прочесть, а можно выбросить непрочитанными. Поцелуй может означать – «здравствуй»! Или «спокойной ночи», или «прощай», или «доброе утро»! Он может означать «до свидания», может нести предательство и смерть или болезнь, сказать «добро пожаловать», «вспоминай меня» или «счастливого пути»! Поцелуй – это залог счастья, воспоминание, ложь, обещание или долг под проценты. Он вестник радости или беды. Через поцелуй одно наше тело переходит в наше другое тело…
Тогда я ответил, что прочитал ее письмо на моей шее, хотя оно написано по-английски, и отвел ее в постель…
2. Перстень из живого камня
В Париже есть площадь, которая считается местом самых знаменитых ювелирных магазинов Европы. В центре Вандомской площади стоит памятник, история которого столь запутана, что ее почти невозможно запомнить. На ее изломах я насчитал не менее двух десятков различных дат, которые меняли и внешний вид, и судьбу памятника. Вокруг него ожерельем располагаются известные на весь мир магазины, торгующие драгоценностями. Их миниатюрные витрины напоминают бархатные футляры для украшений, в которых днем и вечером сверкают самые дорогие на континенте предметы роскоши, по ночам исчезающие за стальными ставнями и надежными замками.
Если пересечь площадь, двигаясь со стороны Сены, слева от угла увидишь магазин, принадлежащий торговому дому Cartier. Сначала нужно позвонить в дверь, потом подождать после чего появится безукоризненно одетый молодой человек, который спросит, что именно вас интересует. Однажды в июньский день в магазин зашла пара туристов. Дама на своем англо-французском языке в дверях сообщила молодому человеку, что хотела бы видеть перстни. Хотя на первом этаже было несколько небольших витрин с ожерельями, браслетами и кольцами, молодой человек не дал покупателям возможности рассмотреть украшения. Он еще у входа окинул их молниеносным взглядом, оценил и провел дальше, на второй этаж, чтобы передать в руки специалистов более высокого ранга. Дама была в черной шелковой шляпе, легчайшей шубке Alberta Feretti и туфлях Salvatore Ferragamo. На этом фоне великолепно смотрелись ее ногти, покрытые ярко-красным лаком оттенка Ferrari, и губы того же цвета. На шее у нее мерцали жемчужные бусы в четыре ряда. Сопровождавший ее господин был с непокрытой головой, в пальто от Fendi. Под подбородком у него вместо галстука или шейного платка виднелась булавка, которую молодому человеку, несмотря на глубокие знания в этой области, оценить не удалось. Он не смог определить ни ее стоимость, ни происхождение. Пока все трое поднимались по винтовой лестнице, молодой человек незаметно дал понять тем, кто находился наверху, что идет с посетителями, и этим его функции были исчерпаны.
Так мы, моя супруга Лиза Свифт и я, отправились на поиски каменного перстня, который позже стал знаком не только нашей дальнейшей жизни, но и смерти.
Верхнее помещение оказалось весьма просторным, с закругленными наверху окнами в глядящих на площадь нишах. В каждой нише располагались столик и два кресла для покупателей, поставленные так, чтобы перед ними открывался вид на Вандомскую площадь. Нам предложили сесть и немного подождать. Мадемуазель Анат Асис, эксперт ювелирного магазина Cartier, вот-вот освободится и полностью посвятит себя нам. Мы уселись в кресла и, вместо того чтобы рассматривать выставленные в зале драгоценности, принялись глазеть на площадь. Похоже, любопытство здесь было не принято. В соседней нише находились двое мужчин. Они тихо разговаривали через стол. Старший из них все время подергивал под столом ногой, словно что-то записывая. Видимо, под его внешним спокойствием скрывалось невероятное напряжение.
Тут Лиза решительно пошла в атаку. Без малейших колебаний она заявила, что здесь и сейчас состоится не мужской, а женский разговор. Это означало, что я доверю ей объяснять причину нашего визита на ее «frananglais», хотя мой французский был безукоризненным. В сущности, в Париже я чаще всего служил Лизе ходячим словарем французского языка.
– У тебя вечный избыток слов. Ты говоришь фразами. Сегодня фразы никому не нужны. Достаточно нескольких слов с паузами между ними для заполнения смыслом. Как эсэмэс. На дворе двадцать первый век, нужно идти напрямую, и у меня это получается лучше, чем у тебя. Кроме того, как мы слышали, по другую сторону стола будет сидеть тоже женщина, и я легче, чем ты, найду с ней общий язык.
В этот момент появилась мадемуазель, полная дама зрелого среднего возраста, темноволосая, с выразительными бровями и глазами, которые чаще, чем наши, видели пирамиды. У нее было полное тело вилендорфской Венеры и дивная голова другой Венеры, Милосской. Она села на стул напротив нас и сложила руки, украшенные двумя неброскими браслетами.
– Чем я могу вам помочь? – спросила она и улыбнулась в первый и последний раз за все время нашего разговора. Ее улыбка была по крайней мере лет на десять младше, чем она сама, и казалась взятой напрокат. Судя по всему, улыбки здесь стоили столь же дорого, как и драгоценности.
– Перстень! – выпалила Лиза и кивнула в мою сторону.
– Простите, – шепнула Лизе мадемуазель Анат. – Месье снимает перстень, когда вы занимаетесь любовью?
– Да.
– Тогда это несложно. – Мадемуазель Анат сделала широкое движение рукой и добавила: – Выберите ему любой! Дома каждый из них покажется вам в десять раз красивее и дороже, чем здесь!
– Но я уже выбрала!
– ?
– Я видела такой у одной нашей знакомой. Она сказала, что он куплен у Cartier, поэтому мы пришли узнать, можно ли у вас купить такой же. Он сделан из камня, а по краям узкий золотой ободок.
– Вы говорите, куплен у нас? Опишите, пожалуйста, поподробнее.
– Это биоактивный перстень. Такие перстни называются «биоринг», и говорят, что они сделаны из «живого камня», уж не знаю, что под этим подразумевается.
– Биоактивный? Не могли бы вы повторить это по-английски?
Тут дамы перешли на английский, на котором мадемуазель Анат говорила так же хорошо, как и на французском, и с такой же необычной отстраненностью, как бы держа его на некотором расстоянии от себя, словно горячую сковороду.
– Это означает, что перстень может менять свой цвет, – сказала Лиза. – Вы можете нам предложить что-то такое?
– Говорите, может менять свой цвет? А за счет чего?
– Очень просто. В зависимости от биоэнергии, которую излучает человеческий организм, перстень показывает состояние вашего тела и ваше настроение.
– Думаю, вы имеете в виду перстни, которые были в продаже в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году, они называются «mood» и сделаны из жидкого хрусталя.
– Нет. Это кольцо из камня, которое отражает действие ультракоротких волн, излучаемых нашим организмом.
– И это действительно функционирует?
– В совершенстве. Мы его испытали. Хотя он часто преподносит сюрпризы. Если перстень на вашей руке покраснеет, это означает, что вы счастливы. Если посинеет – влюблены. А когда позеленеет – здоровы.
– То есть – эти три цвета?
– Нет. Есть и четвертый. Если перстень становится черным, это значит, что он не показывает ничего. Выключился, не принимает сигналов. Так было с моим мужем. Сколько бы раз он ни надевал его на руку, перстень тут же чернел и ничего не показывал. Точно так же, как и с духами. На теле моего мужа они теряют запах.
– Простите? – переспросила мадемуазель Анат, не уверенная в том, что правильно поняла последнее замечание моей жены, и добавила: – Не понимаю. Вы сказали, что хотите купить такой перстень своему мужу, но при этом утверждаете, что перстень не реагирует на его организм.
– Что же тут удивительного, дорогая мадемуазель? Мы пытаемся найти точно такой же перстень, который будет реагировать.
– Весьма, весьма любопытно, мадам… К сожалению, мне кажется, что у нас такого предмета нет, однако я попросила бы вас подождать совсем немного, пока я схожу кое-что уточнить.
Тут мадемуазель Анат встала и удалилась.
– Невероятно, – прошептала Лиза, пока мы сидели одни. – Судя по всему, мы пришли сюда напрасно. Кто-то ошибся, когда сказал нам, что их делает Cartier.
Мадемуазель Анат вернулась с новыми вопросами.
– Я могу вам дать окончательный ответ – мы не делаем и никогда не делали подобных перстней. Но, мадам, прошу вас, не могли бы вы уточнить, где именно ваша знакомая купила такой перстень? Я была бы вам весьма признательна. Не могли бы вы ей позвонить? Можете свободно воспользоваться нашими средствами связи, мы к вашим услугам!
Лиза достала из сумочки свой мобильник Nokia и набрала сообщение. Несколько минут спустя послышался сигнал, Лиза прочитала ответ и пересказала его нам:
– Моей знакомой его привезли в подарок из Германии.
Этой фразой и закончилась наша встреча. Мадемуазель Анат проводила нас до дверей, повторив, что будет нам чрезвычайно благодарна за дополнительные сведения о «каменном перстне», и мы отправились в находившийся неподалеку отель «Ритц», где на открытой террасе можно заказать кофе из зерен пяти разных сортов. Лиза потребовала себе кофе, выращенный в Индии, я выбрал тот, что привезен из Южной Америки, и остаток дня мы провели, фотографируя мобильным телефоном сад одного из самых знаменитых в мире отелей.
Запивая кофе водой «Перье», Лиза еще здесь, на террасе отеля, продемонстрировала, что неудачи не способны ее остановить. Она снова связалась с той знакомой, чей перстень мы видели, и потребовала адрес того, кто ей его подарил.
Месяц спустя на моем пальце появился каменный перстень. Лиза связалась с лицом из Германии, чей дрес она все-таки получила. Оказалось, что это женщина, что она действительно однажды приобрела тот перстень и что в свое время в университете слушала мои лекции. Теперь она прислала нам с Лизой в подарок второй перстень, такой же, какой мы уже видели и безуспешно пытались разыскать в Париже. Он прибыл к нам в крохотном белом мешочке из рисового полотна. К перстню было приложено и руководство с информацией о том, что какой цвет означает. Все то же самое, что мы уже знали и опробовали. Лиза с большим волнением сама надела перстень на мой палец, но результатом было полнейшее разочарование. И этот перстень остался на моем пальце черным. Он не менял цвет и ничего не показывал.
Вот что было написано в руководстве о пользовании каменным перстнем на случай, если он почернеет: «Черный цвет – ничего…»
3. Заклинание
Я хорошо помню тот сентябрь на одеяле в перелеске.
Стоит осень, и у лесов месячные. Невидимые мысли летят глубоко во мне подобно облакам, несущимся над водой через непрозрачную ночь. Я сижу на своей тени, как Робинзон на пустом острове. Сижу я на одеяле посреди луга неподалеку от села Бабе у подножия горы Космай. У меня за спиной, на склоне, находится старый, 1943 года, немецкий бункер. Он оброс кустами и невысокими сосенками. Рядом со мной сидят моя жена Лиза Свифт и мой школьный товарищ Теодор Илич Чешляр. Смешно, но его действительно зовут так же, как одного художника XVIII века. Теодор смотрит на Лизу тем мужским взглядом, который ей так хорошо знаком и который она однажды очень точно мне описала. Это что-то среднее между взглядом на пациентку врача-гинеколога и специалиста, оценивающего породистую кобылу.
Когда я в школе познакомился с Теодором, его отцу принадлежала кузница в селе Бабе. Сын кузнеца, Теодор и сам был крепок, как наковальня, и в зависимости от способа, каким заработаны деньги, делил их на «женские» (от продажи птицы, молока, сыра, яиц, овощей) и «мужские» (полученные за счет лошадей, зерна, винограда, свиней и рыбы). Сам он жил ни на те, ни на другие. Говорили, что, пережив несчастную любовь, он уехал к своей тетке в Италию, потом дал знать о себе из Парижа и, наконец, вернулся домой, в село Бабе, где некоторое время занимался кузнечным делом, унаследованным от отца и деда. Мы не виделись с ним целых десять лет и вот сейчас сидели рядом. Я только что познакомил его со своей женой. Из-за того, что у нас так долго не было возможности поговорить друг с другом, ее присутствие нас совершенно не смущало. Ход нашего разговора постоянно приводил ее в недоумение. К тому же она с трудом понимала горячий диалог на языке, который только недавно начала учить.
Сначала я спросил Теодора, как он зарабатывает себе на жизнь, ведь его кузница давно закрыта. Он ответил, что занимается торговлей.
– Чем торгуешь?
– Продаю стихи.
– Ты поэт?
– Да ты что!
– А, значит, издаешь поэтов?
– Опять не угадал. Я торгую устной поэзией.
– Что ты имеешь в виду? Ты поешь стихи под гусли?
– Что значит – петь под гусли? – изумилась Лиза.
– Это трудно объяснить, – ответил я.
Что же касается Теодора, то он нам объяснение дал:
– Одна моя дальняя родственница из Италии оставила мне в наследство несколько стихов, которые сама получила по наследству бог знает от кого.
– Неужели на несколько стихов можно жить?
– Можно, потому что каждый из них на вес золота. В итальянских семьях отцы на смертном одре каждому из сыновей оставляли в наследство по кусочку такого стиха (словно это Библия), а дочерям давали в приданое целый стих.
– Что же это за стихи, которые на вес золота? – включилась в дискуссию и Лиза. – Неопубликованные белые стихи Шекспира?
– Вовсе нет. Эти стихи намного, намного старее. Их передают из уст в уста как народную поэзию.
– А на каком они языке? – спросил я.
– Этого я не знаю. Кроме того, должен признаться, я их вообще не понимаю. Язык всегда старше стихов.
– Подождите, подождите, – перебила нас Лиза. – Я ничего не понимаю из того, что вы рассказываете. Говорите помедленнее.
Хотя мы перешли на английский, я тоже ничего не понимал и спросил:
– Какой прок в стихах, которых не понимаешь?
– Но я и по-английски не понимаю, о чем вы говорите, – снова вмешалась Лиза. – Значит ли это, Теодор, что потенциальный покупатель, допустим я, тоже не понял бы их?
– И зачем покупать стихи, которые не понимаешь? – добавил и я, обращаясь к Теодору.
– Понимать и не надо. Важно, чтобы поняла жена купившего. Например, присутствующая здесь Лиза. Стихи, о которых я говорю, обладают вполне конкретной прикладной ценностью. И между прочим, ночью их ценность гораздо выше, чем днем. Если заплатишь, могу и тебе уступить какой-нибудь из них.
– На что он мне?
– Такое любому мужчине нужно. Да и женщине может пригодиться.
– Для чего же это? – заинтересовалась Лиза.
– Пока произносишь этот стих, язык делает такие движения, что при оральном сношении с женщиной вызывает у нее оргазм.
– Постой, постой, – разволновалась Лиза. – Что это он говорит?
– А может ли и женщина удовлетворить мужчину таким способом? – Я наконец-то вник в суть дела.
– Может, это я уже говорил, но сам не пробовал.
– Но женщины у тебя этот стих покупали? – спросила Лиза.
– Покупали, но реже, чем мужчины.
– И сколько ты с них берешь? – спросил я.
– Немного дешевле, как и в случае с тобой, если захочешь.
– Несмотря на то, что я не женщина?
– Не женщина, но зато мой школьный товарищ. И у тебя есть жена.
При этих словах Лиза обняла меня и шепнула мне в ухо:
– Купи мне, ну пожалуйста, купи мне!
– И во что бы мне это обошлось, если со скидкой?
– Обошлось бы в пару тысяч евриков.
– Две тысячи евро за один стих?
– Это вообще недорого, с учетом их действия. И имей в виду, это, как я сказал, специальная цена, только для тебя. Другим – дороже. Ну, по рукам?
– Спасибо, нет. Ты как мой школьный товарищ мог бы мне это чудо уступить и бесплатно. Шепни на ухо – и готово!
– Не может быть и речи, даже не мечтай.
– Признавайся, это розыгрыш.
– Разумеется, розыгрыш. На самом деле все гораздо эффективнее. Если женщина шепнет тебе это заклинание в момент поцелуя, это значит, что она хочет иметь от тебя ребенка и что она его обязательно зачнет. Это заклинание называется «Улыбка Кибелы», а ты – хочешь верь, хочешь не верь.
– Купи! Купи мне «Улыбку Кибелы»! – опять ворвалась в наш разговор Лиза Свифт, но я отвечал на ее мольбы молчанием.
Тут Теодор резко сменил тему.
– А чем ты сейчас занимаешься? По-прежнему пишешь романы? – спросил он меня.
– Разумеется, пишу романы, и ты это прекрасно знаешь.
– Я должен тебе кое-что сказать. Раньше твои книги были лучше.
– Пусть это тебя не волнует. Нечто подобное говорили и Байрону.
– Что говорили Байрону? – пожелала узнать Лиза.
– Венецианцы уже столетиями говорят о своем городе, что раньше он был лучше. В начале девятнадцатого века кто-то из них сказал это Байрону. А он ответил: пусть вас это не волнует, сейчас Венеция прекрасна по-новому.
– В твоих книгах я ничего не понимаю.
– А зачем там что-то понимать? Мои книги как шведский стол. Берешь что хочешь и сколько хочешь, с какой стороны стола ни начнешь. Я предложил тебе свободу выбора, а ты растерялся и от изобилия, и от свободы, как буриданов осел, который издох между двумя охапками сена, оттого что не мог решить, с какой начать.
– Я имею в виду не только тебя. Я говорю о профессии писателя вообще. Сегодня ты и такие, как ты, не нужны. Ты динозавр. Максимум, чего ты в настоящий момент можешь достичь в литературе, это написать роман, который будет похож на пересказ эпизодов реалити-шоу. То, что в восемнадцатом и девятнадцатом веке было любовным романом, сейчас превратилось в передачи на порноканалах, где можно узнать, что находится внизу, под одеждой, когда из всей одежды на мужчине только женщина. Зачем мучиться над книгой, если всё предлагают увидеть живьем? Кроме того, сейчас в моде бездари. И писатели больше не используют свой литературный дар, когда пишут, поэтому нельзя установить, есть он или нет. Это вам, несомненно, удобно, но читателям не нравится, поэтому они вас и бросают. И тебя, и всю вашу писательскую братию…
– Что касается меня, то я люблю книгу, которую можно взять с собой в кровать или на отдых, люблю получить в романе полупансион продолжительностью в пятнадцать дней по умеренной цене, – включилась в обсуждение литературы Лиза Свифт.
Тут я встал, решив, что пора собираться, тем более что от сидения на пледе под деревом у меня разболелись ноги. Прощаясь, я еще раз обратился к Теодору:
– Что касается твоих заклинаний, то должен сказать тебе, что они гроша ломаного не стоят, если их не скомбинировать кое с чем еще.
– С чем? – спросила Лиза, в то время как Теодор загадочно молчал.
– В Турции считается, что такие заклинания нужно сочетать с мудрой водой, только тогда можно добиться полноты действия.
– Той самой водой, которую я привезла тебе в подарок? – удивилась Лиза.
– Вот именно. Но это еще не все. История о мудрой воде и твоем волшебном стихе, дорогой мой Теодор, начинается много веков назад…
При этих словах Теодор резко встал, чрезвычайно учтиво распрощался с нами и удалился, унося свою тайну и свое одеяло…
Когда мы остались вдвоем, Лиза отвела меня в ближайшую корчму, усадила за столик на террасе, взяла за обе руки и, заказав кофе, решительно потребовала:
– Выкладывай. Немедленно выкладывай все, что знаешь и о чем умолчал.
– О чем это я умолчал?
– Ты мне ничего не рассказал, а знаешь все. Ты знаешь даже, после скольких шагов человек остается один… Почему перстень не реагирует на тебя? Только на тебя?
– Не знаю. Но у меня есть два предположения.
– Put the case! – отрезала Лиза. – Предполагай!
– Как-то раз, когда я был в Африке, нас повезли на экскурсию в селение к берберам, и там всем нам гадала колдунья с живой змеей на шее. Когда пришел мой черед, она посмотрела на мою ладонь, заглянула в ухо и бросилась в бегство.
– Что это значит?
– Видимо, моя и ее энергии взаимно уничтожаются. Не знаю…
– Ты хочешь сказать, что твоя энергия и энергия перстня тоже взаимно уничтожаются?
– Может быть.
– Неужели ты считаешь, что перстень боится тебя, так же как и та колдунья из Африки? Смешно.
– Дело не в перстне, а во мне. Это я мешаю энергии перелиться из меня в перстень.
– Зачем же ты это делаешь?
– Я это делаю ненамеренно, бессознательно. Просто таково положение вещей. Мне мешает то обстоятельство, что я слишком много знаю о перстне. Когда я работал в архиве венецианской «Марчианы», библиотеки Святого Марка, и в отделе рукописей Румянцевской библиотеки в Москве, я обнаружил данные, из которых следует, что в прошлом существовало гадание с помощью каменного перстня.
– И ты только сейчас говоришь мне об этом? Покажешь, что ты написал о перстне?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я ничего не написал и не собираюсь писать.
– Как так? Разве это не относится к области твоих исследований?
– И да, и нет. Это скорее относится к тому, что древние авторы называли «царской тайной». Уточняя при этом, что царскую тайну следует хранить крепко.
– Но собственной жене ты эту тайну откроешь, правда?
– Открою, но вовсе не потому, что ты моя жена.
Лиза обиделась, тревожно посмотрела на меня и спросила:
– А почему же?
– Потому что ты и сама с помощью перстня и той воды из Богородичного источника идешь по следу этой тайны. Так что дальше мы вместе попытаемся открыть ее в той мере, в какой это будет в наших силах и насколько нам это будет позволено.
– Рассказывай!
– Для начала я мог бы напомнить тебе о том, к чему вы, в Англии, особо чувствительны. Речь идет о тайне, частью которой является Святой Грааль. Тебе, разумеется, известна история о Святом Граале. Достаточно одного взгляда на Царьградский покров, который сейчас находится в Италии и называется Туринской плащаницей, чтобы заметить, что на этой ткани виден как бы отпечаток тела Христа, с лица и со спины. И ты наверняка знаешь, что в давние времена некоторые очевидцы ужасались, когда им показывали этот покров, или Святой Грааль, потому что отпечаток имел четыре руки, две головы и четыре ноги. Независимо от подлинности покрова история о Граале может быть истолкована и по-другому, а именно как то, что он символизирует удвоенность тела Христа. То есть историю о том, что у Христа было и другое тело. Кстати, все это прекрасно описано в Библии. Просто надо уметь читать.
– А что такое ты разыскал в архивах?
– То, что в прошлом были лица, занимавшиеся поисками ответа на вопрос, имеем ли и мы два тела, подобно тому как их имел Христос. В частности, прояснить это пытались одна женщина в Венеции приблизительно в тысяча семьсот семидесятом году и один монах из Сентандреи, в Венгрии, предположительно в тысяча семьсот сорок девятом году. По-видимому, можно считать, что в этих местах в то время случались и другие попытки такого рода. Например, есть свидетельства того, что в Венеции некий чембалист, который сочинял музыку для часов и шарманок, примерно тогда же, правда безуспешно, пытался ворожить этим же способом, то есть с помощью перстня, святой воды и заклинаний. Он стремился установить, есть ли у человека другое тело или его нет. Все эти люди действовали крайне наивно, но, по-моему, их попытки заслуживают уважения хотя бы как храбрые шаги по тернистому пути.
– Ну а они смогли хоть что-нибудь установить с помощью этого колдовства?