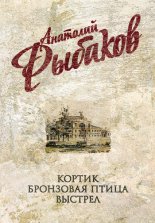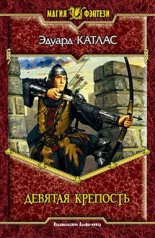Шеломянь Аксеничев Олег

– О встрече с тобой попросил мой гость. Помнишь ли его, Хозяин?
– А то! Здорово, болезный! Как, на пользу ли пошло лечение?!
– Твоими молитвами, – ответил княжич Владимир. – Все благополучно.
– Я не молюсь, – поправил домовой. – Мне – это да, молятся, хоть и реже, чем встарь. Да и ладно, кормят изрядно, и то хорошо. Но разговор не об этом; говори, с чем пришел, просил же!
– Мне нужен ответ на один вопрос, – сказал княжич, пристально глядя на маленького мужичка, усевшегося, по-восточному поджав ноги под себя, на щербатую наковальню. – И никто, кроме тебя, не знает правды.
– Я умный, – скромно согласился Храпуня.
– У меня ощущение, – медленно и тщательно выговаривая слова, произнес Владимир, – что вокруг города стягивается зло. Я понимаю, что присутствие нежити неизбежно, но не столько же! Ты домовой, порождение иного мира, тебе должно быть понятно, что происходит… И происходит ли? Иногда мне кажется, что проклятие, наложенное на меня, продолжает действовать, и я просто схожу с ума…
– Здоров ты, касатик, – ответил за Храпуню другой голос, тонкий и несколько плаксивый. – Пованиваешь только, уж прости за прямоту, да что другого ждать от самца.
– Молчи, женщина, – рассердился домовой. – Тут люди говорят! Но знаешь, гость нежданный, кикимора-то права. Ты здоров. И даже больше. Когда снимали порчу, то нельзя было просто убрать гнездившееся в тебе зло. Душа должна быть цельной, а у тебя там… ну, скажем, дырка получилась… Вот кикиморушка и заткнула ее, чем смогла.
– Что значит – чем смогла? Лучшее выбирала! Ведь такую дрянь могла насовать, что стервятник с голодухи жрать не станет! Чем могла… Неблагодарные вы, мужики. Неблагодарные и дурные!
– Вот баба, – в голосе домового слышались восхищение и нежность. – Как скажет, так заслушаешься!
Кузнец Кий на всякий случай поддакнул, а княжич Владимир спросил:
– Что же у меня теперь в душе вместо этой… дырки?..
– То, что ты хотел больше всего, – вкрадчиво ответила кикимора, – способность к колдовству, сладкий ты наш. Хотя, по мне, так лучше бы ты не заклинания изучал, а мылся почаще.
– Женщина!
Хотя Храпуня и старался говорить осуждающе, но все равно на его сморщенной мордочке писалось откровенное преклонение перед своей подругой.
– И зло над городом – это не морок?
– Да нет.
– Что же тогда?
– Веришь – не знаю!
И за разухабистым выкликом домового Владимир услышал такое недоумение, что поверил. И испугался.
Испугался, потому что оправдывались его ночные страхи, потому что лучше безумие, чем потусторонняя угроза, ожидание которой способно проложить широкую дорогу к полному сумасшествию. Испугался потому, что даже домовой, порождение нечеловеческого мира, не понимал происходящего. Испугался потому, что домовой тоже боялся, хотя и пытался скрыть это.
– Как мне найти того, кто знает? – спросил Владимир, чувствуя высасывающую душу тоску. Все равно он ничего не узнает более, и этот ранний визит к кузнецу – ошибка и глупость. И захотелось княжичу, чтобы это утро началось иначе, чтобы не было жалостливой улыбки Любавы и неизбежной ухмылки Кия при расставании.
Отец Владимира, Ярослав Осмомысл, был гордец, и гонор свой передал сыну. Княжич не желал быть посмешищем.
Не желал, но стал.
– Нечего искать, красавчик, – снова влезла в разговор кикимора. – Чего искать, когда все рядом!
– Не понял, – признался княжич. – Что – рядом? Человек, который мне поможет?..
– Человек, который во всем разберется и, возможно, поможет, – весомо и важно произнес Храпуня.
– И кто же это? Может, кузнец? – И Владимир с недоверием и надеждой повернулся к Кию.
– Нет, красавчик, не кузнец… Ты сам!
– Смеешься, нечисть?
Копившаяся в душе Владимира обида прорвалась наружу, словно рвота изо рта пьяного. Грубое слово обдало кикимору, и ее носик сморщился, будто почувствовал зловоние.
– Я не сказала ничего, что могло подтолкнуть тебя к грубости, княжич. – Голос кикиморы зазвучал иначе, стал тихим и мелодичным, совершенно не похожим на ее привычный спешащий говорок. – И не я обратилась за помощью…
– Прости, – Владимиру было сложно сказать такое, тем более не человеку, а настоящей нежити. Но сказать это было необходимо, проситель обязан задушить гордыню. – Прости, я забылся…
– Пустое, – пророкотал Храпуня. – Бабья обида – что комариный помет, кому это интересно! Посмотри лучше, княжич, что мы тебе привезли!
– Мы… – с новой обидой заметила кикимора. – Тащила-то все я одна!
– Тащила, – не стал спорить домовой, – но тайник-то я нашел!
Кузнец и княжич с недоумением глядели на выяснение семейных отношений. Да и куда смотреть-то? У домового с кикиморой были пустые руки, да и за их спинами не видать котомок или узелков.
Княжичу было интересно, что же решил передать ему Храпуня, поскольку дары домового были редкостью даже в народных легендах. Когда о них все же рассказывалось, то подарок обычно расписывался в самых восторженных словах, а везунчик, получивший его, мог изменить свою жизнь к лучшему.
– Цыть, жаба болотная! – разошелся между тем домовой.
Кикимора ойкнула и сжалась, словно в ожидании удара.
– То-то, – удовлетворенно заметил Храпуня. – А то все я да я – а я? То-то!
Домовой расправил густые усы и гордо распрямился, как воин после долгого и победного сражения. Заблестевшими от удовольствия глазками он обвел княжича и кузнеца, безмолвно призывая их в свидетели своего триумфа.
И не стоит скептически ухмыляться, дорогие мои. Да, это триумф! Речь шла о том, кто в доме хозяин, кикимора или?.. Оказалось, что – или. Да и правда, что же тут уточнять. В доме хозяин один. Домовой.
– Тайничок я нашел, – сообщил Храпуня значительно. – Интересный такой тайничок. Дело так было. Прошлым летом, на Купалу, ребята меня позвали на речку… э-э-э… вечерять. Да… В общем, там я и уснул, у кувшинчика. Да… А время-то шло к полуночи. И вот, просыпаюсь я от холода и неудобства, а уж во рту… такой вот кисель прокисший или что-то вроде… Да. Сую я под себя руку; надо же узнать, что в бок тычется! И тут – мать моя, была ли ты на свете! Спал-то я на папоротнике, он, родимец, и зацвел, подо мной прямо! У меня весь кисель из рота прямо в подпузье и ухнул! Да…
– Папоротник не цветет, – заметил княжич. – Сказки…
– Ага, сказки, – обиделся домовой. – Я сам – сказка!.. Говорю ведь, зацвел, родимец, и пестиком так и тычется в меня, будто хочет чего. Я его сразу в кулачок и тянуть! А он упирается, словно там, в земле, у него не тоненькие корешки, а руки с когтями. Но я-то сильнее, мужчина как-никак!
– Славный ты мой, – ласково пропела кикимора.
– Словом, вытащил я его и думаю, ну а дальше-то что? Говаривали, что тому, у кого такой цветок есть, любой клад откроется. Но видеть сокрытое он будет лишь до того часа, когда заберет один из кладов, а после дар уйдет. И вижу я – как светильники зажигаются в ночи, и много их так… как вшей на нищем, скажем. И чую – это все клады, и поди попробуй узнай, какой из них богатый, а где просто собачка кость закопала на черный день и забыла про это. Тоже ведь – клад…
Рассказывая, домовой гримасничал, пытаясь показать все эмоции, обуревавшие его в то время. Он то замирал на месте, то начинал прыгать по наковальне, изображая свои действия. Владимиру это напоминало скоморошьи представления, и воспринимать происходящее серьезно не получалось.
– Терпел я, в общем, два дня и три ночи. Дивно, сколько же всего спрятано в земле-матушке. У городских ворот есть места, где ночами я видел целые поляны, светившиеся на местах зарытых в землю сокровищ. Наверно, купцы при въезде в Путивль приберегали часть выручки, но с городом ведь как – войти просто, а вот выйти целым или хоть живым… Я уж веточки ставил, где пятен было особенно много. Только потом все забыл, где и чего ставил…
– Все потому, что скрывал, тайну все хранил, – это опять влезла кикимора. – Нет, чтобы близкому существу все рассказать, все бы запомнили, все бы выкопали!
– Молчи уж лучше, – отмахнулся домовой. – Короче, на третью ночь я решился. У рва, который опоясывает монастырь, заметил я большое пятно. А чернецы, известное дело, на богатство жаднее, чем Ярило на женщин. И решил я, что игумен припас собирает на черный день. Был я раз в их соборе, на вино позарился, говорили, что сладкое оно, а оно – дрянь!.. Игумен проповедь говорил, что, мол, Богу надо дать свое, а людям – свое. Я и порешил, что домовому тоже бы надо своего не упустить, открылся вот ей, чтобы порадовалась моей удаче…
– Скажи лучше, чтобы носильщика не искать!
Лисья мордочка кикиморы растянулась в ехидной улыбке, остренький красный язычок скользнул по тонким губам.
– Чего ж его искать, – степенно заметил Храпуня. – Он же долю потребует. Короче, к полуночи мы и пошли. Заступ взяли, чтобы сподручней было землю рыхлить…
– Какой заступ? – с подозрением спросил Кий.
– Чего уж тут, – затараторил домовой. – Жалко стало, что ли? Все равно он у тебя ржавел.
– И ручка гнилая была, – пожаловалась кикимора.
– А ножичек сапожный вам не был нужен? – с интересом спросил Кий.
– Ножичек? Какой? Этот?.. Уже нет, не нужен, благодарствуем!..
– А может…
– Ладно вам, – прервал княжич этот разговор, грозивший затянуться до вечера. – Что было дальше, Хозяин? Признаться, меня заинтересовала твоя история.
– Среди немногих свойств, которые примиряют меня с человечеством, на одно из первых мест ставлю интерес к истории, – неожиданно философски заметил домовой. – А еще – страсть к хмельному, без чего о многом слушать невозможно, ибо противно… А история моя подходит к самому интересному. Копали мы, значит, полночи, так что я, признаться, подумал, что папоротник меня морочит. Но клад был на месте, но только пользы от него нам было на курий чих.
– Домовому не нужно золото? – не поверил кузнец.
– Знамо дело, нужно. Только вот с кладом промашка вышла, увы.
– Промашка – мало сказано, – заметила кикимора. – Дурость вышла, сладкий ты мой.
– Молчи, женщина, – нежно ответил Храпуня. – Поленом пришибу!.. Да… А раскопали мы в ту ночь могилу. Никак не пойму только, отчего так схоронили человека; никогда не слышал о подобном погребальном обычае. Сами представьте, просмоленный сруб, чтоб влага, значит, не взяла, и в нем скелет да книги со свитками. И все это брошено как попало, словно при похоронах торопились, как на пожаре. И еще одна странность. Да… Переплеты нескольких книг были погрызены крысами, и откусанные куски кожи валялись там же, неподалеку. А нет ни крысиных костей, ни следов норы. Вот ведь как.
– Все как попало брошено, говоришь? – переспросил княжич. – А погребальный сруб в полном порядке?..
– Ну да.
– Возможно, я знаю, чем это объяснить. Нужно только одно допущение. Представьте, что погребенный оказался в срубе еще живым!
Кикимора шумно сплюнула, и кузнец заметил, что ее слюна зашипела на холодном полу, словно соприкоснувшись с раскаленной поверхностью.
– Какая гадость, – сказала она. – Я так и знала, что дело нечисто.
– Знала она… Знал зад, что на ежа сел. Но там действительно было плохо. Сам-то я не пугливый, а все-таки чувствовал, словно смотрит кто в спину, хоть и некому было…
– Душа заживо погребенного не может покинуть место захоронения, ее ты и чувствовал.
– Души нет, – ответственно заверил Храпуня. – Сказки все.
– Домовые – тоже сказки, – заметил кузнец. – Для самых маленьких.
– Но-но! Банника-то видел хоть раз? Вот он маленький, а я – просто невысокий!.. А души нет, есть другое, но вам, людям, все равно не понять. Вы думаете мозгами, а надо как раз ей… душой, как вы называете… Да. И взгляд там, в могиле, точно был, ничего я не путаю. Короче, книжки мы, конечно, забрали, дорогого это стоит, говорят, хотя кому мы их продавать понесем – не в монастырь же?
Владимир и кузнец расхохотались, представив появление домового с кикиморой в келье игумена. Храпуня понял их иначе.
– Почто смеетесь? Или считаете, что продать бы не смог? Да я с базаром познакомился, когда еще ваших прадедов на свете не было!
– Не сердись, Хозяин, – отсмеялся княжич. – Отца Леонтия представили, как он вас встречает! Преизрядное бы зрелище вышло!
Храпуня мигнул и расхохотался следом.
– И правда, – сказал он, подавив смех. – Знавал я одного чернеца в Чернигове. Он меня из княжеского терема изгнать пытался, подобно какому-то бесу. Вот умора-то была, я всю дорогу на Путивль хохотал!.. – Храпуня посерьезнел. – Но продавать книжки я не решился. Там многое для меня непонятно, но некоторые названия разобрать получилось.
– Не забудь, у кого получилось-то! – заворчала кикимора.
– Вот баба, – с восхищением вздохнул домовой. – У нее-то и получилось, правду говоря. Верно, схоронили в той могилке знатного колдуна и вместе с ним его имущество. Плохие там были названия, и не стоит их даже произносить лишний раз, а уж читать-то сами книги!..
– Не их ли принес мне? – решил уточнить княжич Владимир.
– Их, конечно! Что домовому плохо, человеку не навредит. Одно чувствую. Прочтешь их – поймешь, что происходит. Заодно и нам расскажешь при случае. Или кузнец передаст, если дела помешают самому в гости зайти.
– Я готов. Несите эти рукописи, попробую разобраться.
– Как же нести, красавчик? Нам даже прикоснуться к ним вредно, так много зла хранится на их листах. Сам иди, во дворе они, на повозке.
Владимир переглянулся с кузнецом и вышел из кузницы.
День уже отодвигал утро, солнце катилось вверх по хрустальной небесной сфере, сбрасывая по пути жаркие одежды, падавшие на землю и согревавшие ее нежным весенним теплом. Небольшая степная лошадка, привязанная к кусту у забора, прикрыла глаза веками от яркого света и тянулась губами к первым листикам, покрывшим куст зеленым пухом.
Лошадка была впряжена в волокушу, где под грубой серой рогожкой угадывались очертания книжных кодексов и футляров со свитками. Даже на первый взгляд там лежало не меньше полусотни предметов, что в XII веке было настоящим богатством. Не обмануло народное предание, подарок домового оказался воистину щедрым.
Княжич откинул ткань и провел ладонью по рассохшимся кожаным переплетам, на которых еще были видны следы узоров, нанесенных давно умершим оформителем. Потускневшие серебряные застежки продолжали удерживать книжные блоки от попыток самостоятельно раскрыться, бесстыдно обнажив сокровенное. Прогревшаяся на солнце кожа переплетов ласкала ладонь княжича, напоминая прикосновение к живому прирученному зверю.
– Подарок, достойный басилевса, – внезапно охрипшим голосом сказал Владимир Ярославич. – Золото можно оценить. Это – нет. Это дар, которому нет цены.
– Цена есть всему, – ответил домовой, продолжавший прятаться в кузнице. Он говорил через небольшую щелку, оставленную едва приоткрытой дверью, поэтому его голос звучал не в пример глуше, чем в самой кузнице. – От книг идет зло, и тебе придется перебороть его, если, конечно, решишься разобрать наследство древнего колдуна.
– Он решится, мой хороший, – ответила за княжича кикимора. – Не забывай: там, в душе, не до конца заделанная дырка! Вот он и заткнет ее тем, что возьмет из книг…
– И помни, – продолжал домовой, – взять-то можно разное. Так вот, идешь по полю, наклонился, цветочек, скажем, сорвать, а в руке – шмель там или, чего уж, кусок свежей коровьей лепешки… Тебе и решать, княжич, что лучше – цветы или навоз.
– Без навоза и цветам не бывать, – как истинный диалектик заметила кикимора. – Только книжечки переложи, мил человек, к себе… Повозочка-то нам самим потребуется.
Кузнец вышел на помощь, и вдвоем с княжичем они быстро и аккуратно перетащили книги и футляры в большие мешки, закрепленные по обе стороны седла на коне княжича.
За это время домовой со своей подругой тихо и незаметно исчезли, позабыв, по обыкновению, проститься. Владимир искренно расстроился, посчитав, что плохо отблагодарил домового за чрезмерно щедрый дар.
Вышла Любава и с низким поклоном пригласила мужчин отобедать.
– Обожди, дочка, – ответил кузнец. – Надо княжеского коня от солнца в конюшню отвести, да и лошадку Хозяина под навес загнать стоит.
– Какую лошадку? – не поняла Любава.
– Вон ту, у кустарника, – пояснил княжич Владимир, взмахнув рукой.
И опешил.
Там, откуда он с кузнецом только что носил книги, ничего не было. Лошадка с волокушей словно растворилась в воздухе, поскольку свести ее со двора тихо не получилось бы даже у лучшего конокрада. На влажной, еще не поросшей травой земле не видно ни вмятин от копыт, ни полос от жердей, составлявших раму волокуши.
Кузнец же заметил, как изменились очертания куста. Он в одночасье стал гуще, явно разросшись в сторону забора. Одна из веток, которую кузнец раньше не замечал, была надломлена и опускалась к земле.
Точно под тем же углом, как была привязана к степной лошадке волокуша.
Княжич Владимир был скуп в расходах на себя, не желая злоупотреблять гостеприимством сестры и ее пасынка. Единственное, на что он не жалел расходовать гривны и меха, так это восковые свечи, мягкий золотистый свет которых не утомлял глаза во время ночного чтения. Отсветы пламени гармонировали с теплой желтизной пергамена книжных страниц, оттеняя и делая выпуклыми крупные квадратные буквы русского письма-устава или прихотливую вязь арабских свитков, обтекая с безмолвной брезгливостью торопливые крючки изуродованной германцами и франками латиницы.
Вечером княжич сложил несколько подаренных домовым книг на скамью, придвинутую вплотную к изящной кафедре с наклоненной столешницей, удобно подкладывавшейся и под тисненые переплеты тяжелых кодексов, и под непослушные, рвущиеся из-под рук неровные листы пергаменных свитков.
Нет для книжника счастья большего, чем открыть незнакомый до этого фолиант. И княжич Владимир испытал настоящее чувственное наслаждение, укладывая поудобнее первый из дареных кодексов на кафедру. Музыкой небес звучал скрежет позеленевшей меди переплетного замка, давшего, после долгого заточения, свободу книжным страницам.
Княжич взял книгу наобум, выбрав самую большую и объемную.
И первая книга преподнесла первый же сюрприз.
Киноварью крупными буквами на титульном листе было выведено ее название: «Толковая Палея». На ромейском Палеей называли Ветхий Завет. Владимир Ярославич не раз встречал списки этой книги в монастырских библиотеках, но никак не ожидал увидеть ее в наследии древнего колдуна.
Авторы Палеи пытались разъяснить непонятные или излишне краткие места Ветхого Завета, хотя, по мнению княжича Владимира, во многих случаях еще больше путали читателя. Начиналась Палея подробным рассказам о Шестодневе, времени, когда Господь сотворил мир и человека.
С некоторым разочарованием – помните «Летучую мышь», оперетту, в которой муж принял за роковую соблазнительницу собственную жену? Представьте себя на его месте, тогда поймете это чувство – Владимир раскрыл книгу. Богатые книги часто украшались интересными миниатюрами, хотя бы ради них стоило пролистать кодекс.
Иллюстрации были. И они поражали.
Изредка художники пытались изобразить землю до потопа. Владимир видел такие миниатюры, и они вызывали достаточно сильное раздражение, поскольку фантазии иллюстратора хватало только на увеличение уже существовавших зверей либо комбинирование их из нескольких элементов, когда на тело насекомого ставилась птичья голова, и все это завершалось рыбьим хвостом. Владимир считал подобные картинки ненамеренным святотатством, обвинением Бога в полном отсутствии разума, раз он способен создавать такое.
В «Палее», лежавшей перед княжичем, земля до потопа была показана так, словно художник видел все воочию и только недавно вернулся из того зловещего мира. На миниатюрах видны были твари, которым нет подобия в современном мире, и самый их облик бросал вызов Божьему промыслу и человеческому разуму.
По картинке было и слово.
Княжич с ужасом и отвращением вчитывался в оскверненный неведомым переписчиком текст «Палеи»: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и духи божьи носились над водою». Духи? Их много? Что за ересь? «И вошел дух в Ктулху, и возник Р’лаи. И изрыгнул воду, и сказал: „Да будет свет. И стал свет». И названа была вода Ктулху, а огонь Ктугху. И отделилась твердь от неба, стало небо Итаквой. И вошла душа в землю, и стал Шуб-Ниггурат».
Владимир потянулся рукой к шее, где висел оберег-змеевик, на одной стороне которого виднелся лик Иисуса Христа, а с обратной стороны свернулся прихотливыми узорами змей Велес, отчего так и назывался амулет. То, что читал княжич, противоречило всему, что для него свято. В душе Владимира не было безоговорочной веры в христианское учение, но так и не искорененное язычество приучило с почтением относиться к чуждой религии и не осквернять. Не нравится вера – отойди, но не пачкай.
Тот, кто осмелился надругаться над признанной христианской церковью книгой, хотел растоптать основу мировосприятия нормального человека того времени. Но княжичу Владимиру, чем больше он, через отвращение, разбирался в нечетком письме книги, казалось, что кощунство не было главной целью автора. Писатель и художник – скорее всего, этот был один и тот же человек; казалось невозможным, что такой ад мог раскрыться сразу в двух душах или, вернее, на том месте, где она когда-то была, – просто описывал события, каким он был свидетелем. Или те, о которых ему рассказал кто-то, кому автор верил безоговорочно и истово.
Книга описывала творение без Творца, мир, возникший сам по себе из ничего, и воспринять это мозг Владимира отказывался. Был взрыв в пустоте, и от него произошло все: время и пространство, материя и дух. Получалось, что бездушное ничто породило душу, а бессмертная пустота стала матерью смерти.
При взрыве – Владимир, ничего не знавший о действии пороха, представлял его как одновременную вспышку множества молний – зародились существа, неподвластные законам, обязательным для всего сущего. Их обошли своим вниманием время и смерть, им подвластны были пространство и материя.
И они стали богами. Первыми богами нашего мира.
Забавляясь своим могуществом, они зажигали и гасили звезды, создавали и уничтожали планеты. В воображении княжича возникло зрелище гигантских рук, ломающих, словно засохший блин, плоский квадрат Земли, так ярко описанный в читанной недавно книге Козьмы Индикоплова. Для забавы же Старые Боги создали на некоторых мирах жизнь, чем внесли в свое существование элемент неожиданности. Так пастырь, изучивший каждую овцу в своем стаде, никогда не сможет точно предугадать, куда в следующий миг направится каждая из них.
Люди появились на Земле случайно. Вдыхая жизнь в очередное из своих чудовищных порождений, один из Старых перестарался, и жизненная энергия оплодотворила жалкую обезьяну, созданную воплощением зла, чешуйчатым духом Азатотом, ради тех гримас, что появлялись на ее морде во время смертных мук. Азатота смешило, как она кривляется, силясь в последнем смертном усилии вырваться из безжалостных зубов хищника.
Для Бога, как известно, вечность – что миг. Очень быстро человечество расплодилось по земле. Оказалось, что еще одним нежданным даром стала для людей возможность творить. Рисуя на стенах пещеры или пытаясь вылепить неумелыми руками из глины изображение богов, человек тем самым творил их во плоти, и Новые Боги обладали таким могуществом, каким его наделили люди в своем воображении.
И как бы чудовищны Новые Боги ни были внешне, по своему поведению они походили на создателей-людей. Когда Старые почувствовали угрозу, было поздно.
В той битве сталкивались светила и гибли бессмертные, горела вода и резал на куски твердый как сталь воздух. В той битве Старые проиграли, хотя и Новым пришлось заплатить полной мерой. Склонилась, рыдая, над разорванным телом своего мужа Осириса утратившая в один миг свою воистину небесную красоту Исида. Рядом скулило над разбитым о звезды телом своего господина Аида то, что осталось от его знаменитой собачьей своры: три лучших пса, сросшихся злой волей в чудовищное единое тело. Катался по земле от невыносимой боли Янус, но даже крикнуть не мог; расколотое пополам лицо раскрылось книгой, так что с одной стороны можно было видеть сразу два его профиля, зато с другой сочился розоватой жидкостью рассеченный мозг.
Старых заточили, и подробности об этом отсутствовали в «Палее». И не зря. Много хитрости и изобретательности пришлось использовать Новым, чтобы, к примеру, лишить свободы Йог-Сотота, Одного-Во-Всем, кто сам был пространством и временем.
Зато много говорилось в книге о скромном божке Яхве и о маленьком кочевом племени хабиру. Их необыкновенная вера сделала божка одним из самых могущественных хозяев, когда бы то ни было придуманных людьми. Много говорилось и о том, как Яхве перессорил Новых Богов и породил междоусобную войну. Для победы он не пожалел даже собственного сына, казненного, чтобы неверующие уверовали. Наивные хабиру, отрицавшие кровавую жертву, не захотели почитать Распятого, и новообращенные варвары рассеяли по всему миру народ, считавший себя богоизбранным.
Вспомним, боги созданы нами, людьми. И вот бог предал создавший его народ. Что ж, очень по-человечески, не правда ли?!
Княжич Владимир, не закрывая «Палеи», положил сверху еще одну громоздкую и тяжелую книгу. Раскрыв ее, он недовольно поморщился. Латынь. Та самая ненавистная «кухонная» латынь, которой в Западной Европе давно заменили звучный язык Овидия и Горация. Похожие на раздавленных пауков буквы были не всегда понятны, но с третьей попытки княжич все-таки смог прочесть заглавие: «Liber Ivoris». «Книга из слоновой кости», если, конечно, не подвели те долгие часы зубрежки, которые были постоянным и неотвратимым ужасом его детских лет, проведенных в Галиче.
Слоновой кости на переплете обнаружено не было. Более того, страницы тоже оказались не костяные, а из вполне привычного пергамена, кстати, совсем неважного качества. Некоторые были попарно сшиты, так что узнать их содержимое можно было только после того, как читатель разрежет скреплявшие их шнурки из тонкой кожи. Были и уже разрезанные пары листов. На первом из них кто-то торопливо и небрежно писал слова, не имевшие видимой связи с заметками, помещенными ранее или в конце книги. Второй лист, тот самый, что скрывался за кожаными шнурами, всегда был девственно чист. Владимир долго разглядывал одну из таких страниц, рассчитывая увидеть следы смытого или соскобленного текста, но казалось, что чернила или тушь никогда не оскверняли желтоватой поверхности пергамена.
Ничего не могли подсказать и заметки на первых листах, не без труда прочитанные Владимиром. «Вечная поляна земляники», «Лестница в небо», даже какая-то неведомая «Растафари». Оставалось только гадать, что это. Название неведомого города, обрывки заклятий или, возможно, имя таинственной принцессы с Востока. Непременно с Востока, у западных варваров не хватило бы таланта для создания такого прекрасного имени.
Владимир Ярославич достал небольшой кинжал, который постоянно носил с собой. В Галиче, сотрясаемом постоянными заговорами и попытками переворотов, часты были расправы над проигравшими в этой борьбе, и победители вымещали свою злость и скопившийся страх привычными, но от этого не менее жестокими пытками. Княжич не желал стать главным номером скоморошьего представления под названием «торжество победителей» и готов был предпочесть тихую смерть от собственной руки. Церковь, конечно, осуждала самоубийство, но большим грехом, с точки зрения гордого сына Ярослава Осмомысла, было бы стать посмешищем на глазах гогочущей черни.
Тонкое острие заботливо отточенного лезвия потянулось к ремешкам, стягивавшим сразу несколько листов книги. На первой странице неведомый автор не только оставил очередную маловразумительную надпись, но и решился проиллюстрировать написанное. Эта картинка и привлекла внимание княжича, решившего заглянуть внутрь сшитых листов.
Неровные линии выдавали неопытную руку рисовальщика, и картинка получилась нелепой, как ученическая зарисовка на полях школьного диктанта. Но хотелось верить, что ребенку не придет в голову рисовать подобное. На картинке закутанная в широкое одеяние молодая женщина сжимала в объятиях отвратительный скелет, бессмысленно скалившийся со страницы книги и, казалось, глядевший прямо на Владимира.
Не сразу, но княжич разглядел, что изображено не объятие. Скорее всего, дама на картинке пыталась голыми руками разорвать скелет на отдельные фрагменты. И это у нее получалось. Темное пятно снизу рисунка, принятое Владимиром сначала за небольшую кляксу или случайный росчерк пера, оказалось старательно прорисованной берцовой костью, на которой еще держались наколенник и поножи.
Познаний в латыни хватило княжичу, чтобы перевести пояснительную надпись. «Прекрасная Дама, не знающая пощады», – гласила она, и Владимир мысленно согласился с определением. Сложно представить более мстительную особу, чем эта, не устающая бороться даже с мертвецом.
И как-то само собой всплыло значение этой красивой и, казалось, бессмысленной фразы. Западные трубадуры, нищие рыцари, у которых не хватало смелости даже на разбой, рыцари, сменившие копье и меч на лютню, не раз в тоске и печали звали ее, Даму, способную избавить от позора и презрения, окружавших их жизнь.
Дама, не знающая жалости.
Ее Величество Смерть.
Кончик кинжала отдернулся от книги. Негоже живому тревожить имущество мертвых, не стоит и торопить Смерть.
Нет на свете никого справедливей этой Прекрасной Дамы. Ее визит неизбежен, и никто не может отказаться от незваной гостьи.
Смерть что правосудие, она для всех.
Но правосудие слепо, а смерть видит все.
Видела она и тот самый кинжальчик, который осторожно отодвинулся от немного неровной странички пергамена. Видела, потому что притаилась внутри, за тонкими, но такими прочными кожаными шнурами.
И была чрезвычайно недовольна тем, что ее не выпустили на свободу.
Весна остановилась у стен тмутараканского святилища.
Бог, живший теперь в центре святилища, не любил тепло. Глазами обледеневшего каменного изваяния бог недовольно смотрел на зазеленевшие грязевые болота и освободившееся ото льда Меотийское озеро. Не в его власти было отменить весну, но задержать ее было возможно.
Весной у людишек просыпалась надежда, а она питала врагов тмутараканского идола. Все эти Перуны и Иисусы упивались искренними жертвами и молитвами, набираясь сил и могущества.
Растрескавшийся у губ статуи камень создавал у молящихся впечатление, что бог улыбается. От этой улыбки стыла кровь в жилах, а весеннее солнце старалось скорее спрятаться за тучу, чтобы не оскверниться.
Почему бы и нет? Бог мог себе позволить не просто улыбаться – хохотать.
Это была последняя весна на земле. С наступлением осени бог должен набраться сил, чтобы восстать против тех, кто многие тысячелетия назад заключил его в этот камень.
Так будет же камнем вся эта планета, и развеется в прах живой мир!
Бог не был живым.
Ему нас не жалко.
8. Дорога на Донец – город Корачев.
Конец апреля 1185 года
– Народ – что эта дубрава, – заметил болгарин, левой рукой указав Ольстину Олексичу на темную полосу леса в двух полетах стрелы от боевого охранения черниговских ковуев. – Издали, на первый взгляд, мы тоже кажемся монолитом. Но приглядись поближе, и от единства не останется и следа. Все порознь, все стараются найти место на просторе, где сильный сосед не сможет отобрать больше солнца. От милости светила зависит и положение в обществе. Чем лучше место, тем толще ствол.
– Ствол дуба в любом случае толще прута орешника, – проговорил черниговский боярин, не забывая настороженно оглядывать окрестности.
– Верно. Но и у людей не все определяет только удача. Есть порода, происхождение, и княжий отпрыск по рождению своему поставлен в положение лучшее, чем сын рабыни.
– По-твоему, это справедливо? Христос ратовал за равенство. Как там – «нет эллина и иудея»?.. Нет различия даже между народами, а не только внутри них! Или я не прав?
– Все сложнее… И не стоит, мне кажется, вырывать слово Божье из Святого Благовествования. Человека определяет душа, а она – от Бога. Холопа может поднять до боярина внутреннее благородство, а княжеского наследника его отсутствие сделает изгоем.
– Погоди-ка! Выходит, что все предопределено, и не стоит даже пытаться изменить свою судьбу. Уподобимся Валтасару, с покорностью читавшему на стене огненные буквы: «мене, текел, фарес»?!
– И опять-таки – все сложнее! Господь ведь не зря дал нам разум. Человек каждым своим действием совершает выбор, решая, каким путем идти дальше. Как бы пояснить… Скажем, боярин, ты стоишь на распутье и не знаешь, какую из двух дорог избрать. Одна явно короче и лучше, но пройти по ней ты сможешь только ценой смерти другого человека. Другая дорога запутанней и тяжелей, ты потеряешь время, зато не запятнаешь себя грехом убийства… Прародитель Адам не выдержал испытания искусом, и нам приходится каждодневно доказывать Господу, что он не зря помиловал человечество во время потопа и Сын Божий распят не напрасно. В нас перемешано добро и зло. Как знать, чего больше?
– И все же, Богумил, как быть с неравенством? Бедность и унижение не делают нас добрее и терпимее.
– Так же точно, как богатство и боярская шапка…
Ольстин Олексич хмыкнул, но возражать не стал.
– Золото и знатность, – продолжал болгарин, – испытания сложнейшие, и расплата за то, что ты оказался недостоин даров Божественных, страшней прочего. Человек сотворен из грязи, и только душа в нем – от Бога. У нас рассказывают, что Адама вылепил тот, кого мы иносказательно называем Светящимся, Люцифером…
Ольстин Олексич махнул рукой, словно отводя от себя зло. Болгарин сделал вид, что не заметил этого, и говорил дальше:
– Светящийся не смог даровать созданному им человеку жизнь, она по природе своей противна злу и не подчиняется его воле. Здесь и пришел на помощь Господь и вдохнул в первого человека душу. Люцифер же наделил нас разумом, и потомки Адама вынуждены метаться между бездушным знанием и бездумным состраданием.
– Наличие души отрицает разум?
– Отнюдь! Все дело в пропорции. Это как вода с вином. Когда, смешивая, мы добавляем в чашу с водой вино, то проясняем ум, если же, наоборот, в кратер с вином мы скупо отмерим несколько водных капель, то хмель отберет последние остатки человеческого, что еще оставались у пирующего. Разум, как и вино, дает своему обладателю ощущение превосходства над остальными, тем самым доказывая, что в его основе заложено зло. Но это сладкое, очень сладкое ощущение, не сравнимое ни с чем, даже со слиянием с женщиной! И многим людям этого оказывается достаточно, чтобы променять бессмертную душу на преходящее знание, ничтожное, поскольку рассыпается в прах подобно мертвому телу, от которого отлетела душа. Говорил Иисус: «Блаженны нищие духом». Как понимать это? Может быть, так: нищий дух – это душа, лишенная всего, следовательно, свободная от тюрьмы, в которую ее может загнать сильный разум. Только тот, чей дух воспарил над знанием, достоин Царствия Небесного!
– Следовательно, знания не нужны?
Черниговскому боярину Ольстину Олексичу разговор помогал скрасить скуку долгого пути. Болгарский паломник горячился, пытаясь доказать свою правоту, и каждый вопрос собеседника воспринимал подобно витязю, получившему вызов на ристалище.
– Не надо упрощать! Никогда не надо упрощать, ибо простого в человеке нет и быть не может! У нас есть душа, дарованная Богом, и она так же неисчерпаема и бесконечно изменчива, как и сам Господь. А на вопрос твой отвечу так, как давно сказал Проповедующий в храме. Во многия знания многия печали! Многие печали, ты только вдумайся, боярин! Это, по моему разумению, один из главных искусов, которые должен преодолеть в своей жизни человек. Господь всеведущ, и Он, конечно, знал, какой дар Люцифер преподнесет людям. И Проповедующий справился с искусом, заявив: «Суета сует и всяческая суета»! Воистину, и в разуме есть зерно Божье, и, познавая, человек обязан осознать суетность приобретенных знаний и обратиться к совершенствованию души.
– Намудрил, болгарин… Слышал я в Чернигове, как переписчики книг говорили, что ромейский слог прихотлив и причудлив, но болгарские писания в сравнении с ними – что филигрань рядом с полированным зеркалом. Ты презираешь знание, но с явным удовольствием пользуешься им для плетения словесных сетей. Как понять это?..
– Мне кажется, – сказал болгарин, и Ольстин Олексич заметил, как дернулась щека паломника, который, наверное, занервничал, – что здесь опять заблуждение или ошибка. Рассуждая, я опираюсь на Святое Писание либо на собственные наблюдения. Следовательно, весь разговор основан на словах, идущих из души, а не от разума. Надеюсь, ты, боярин, согласишься со мной в том, что Писание продиктовано Духом Божьим, а значит, и отразиться должно в нашей душе.
– Сдаюсь, – со смехом сказал черниговский ковуй.
Ольстин Олексич был бы рад еще подразнить болгарина, но иное отвлекло внимание боярина, так что богословский спор стал неуместен.
Со стороны передового охранения, добравшегося до кромки дубравы и скрывшегося за темной стеной леса, показалось несколько всадников, галопом мчавшихся в сторону основной части дружины. Одетый в доспехи воин был тяжким грузом для боевого коня, и решиться погонять животное, от которого во многом зависела безопасность дружинника в сече, было возможно только при чрезвычайных обстоятельствах.
В лесу что-то случилось, а ничего хорошего в приграничье ждать не приходилось.
Ольстин Олексич поднял руку и почувствовал, как вздрогнула за ним земля, по которой одновременно ударили десятки копыт остановившихся боевых коней. Черниговский боярин знал, что ковуи привычно перестраиваются из походного порядка в боевой, вытягиваясь широкой лентой на просторной равнине по обе стороны от дороги. Легковооруженные воины подтягивались в начало, готовые принять на себя первый удар неведомого пока противника, остальные дружинники, чьи доспехи были слишком тяжелы для постоянного ношения, оставались на месте, дожидаясь отставший обоз. Передовые отряды должны были сковать вражеское войско на время, достаточное для того, чтобы оруженосцы облачили своих хозяев в тяжелые пластинчатые доспехи. Затем легкие кони умчат застрельщиков прочь от ярости раззадоренного стычкой противника, а защищенные могучей броней дружинники нанесут удар по врагу, сминая и без того уже расстроенные боевые порядки чужаков.
Всадники меж тем приблизились настолько, что стали видны укрепленные на наконечниках копий боевые вымпелы. Ольстин Олексич нахмурился сильнее, заметив, что их цвета не черниговские, а северские. Сам князь Игорь Святославич приказал отправить в передовые дозоры черниговских ковуев, и северским дружинникам было нечего там делать.
Вскоре стали видны лица приблизившихся всадников, и Ольстин Олексич с облегчением заметил довольные улыбки. Так не ведут себя при встрече с противником.
Всадники безошибочно определили по позолоченному шлему главного в черниговском боярине и направили коней прямо к нему. Болгарин дипломатично отъехал в сторону, хотя и держался достаточно близко, чтобы расслышать разговор.
– Здрав будь, боярин, – поклонился первый из подъехавших всадников, молодой темноволосый ковуй, один из тех, кого Ольстин Олексич отправил в передовое охранение. – Не прогневайся, что вернулся! Со мной, взгляни, гости добрые, да и вести не хуже!
– Вижу, благополучно доехал, Беловод, – ответил боярин. – Да и гостей довез, не растряс!
– Конь не трясет, а баюкает, – заметил один из северцев, и его товарищи щедро оскалились в улыбке.
– Почто тогда не сонные? – сурово насупил брови Ольстин Олексич и продолжил иным тоном, деловым, явно подчеркивая, что время словесной потехи закончилось: – Выкладывайте, с чем приехали и отчего забыли о приказе мои воины и северская сторожа?!
– Не гневайся, боярин, – заявил с поклоном северский острослов, – но для княжеских ушей вести, ему первое слово.
Беловод, тем временем подъехав вплотную к черниговскому боярину и наклонившись в седле, зашептал что-то на ухо Ольстину Олексичу, недоверчиво поглядывая в сторону болгарина, старательно делавшего вид, что происходящее к нему не относится.
– Сам провожу вас до князя, – решил черниговец. – Мне тоже пристало коня погонять, а то застоялся. А ты, Беловод, забирай своих воинов и гони назад, к стороже. Не то радость горем обернется. Не забывай – здесь граница!
Беловод присвистнул, и его конь, послушный приказу, распластался в галопе над равниной. За ним потянулись еще три ковуя, сопровождавшие северских пограничников к небольшому отряду их князя и господина.
– Поговорим позже, Богумил, – сказал Ольстин Олексич, разворачивая жеребца. – Долг выше забавы! Кстати, этому меня научили, или же Господь в душу вложил?.. Вернусь – обсудим, если не возражаешь!
– А если и возражаю? – спокойно спросил болгарин, глядя в спины удаляющихся всадников и не ожидая не только ответа, но и того, что его вопрос услышат.