Золотой человек Йокаи Мор
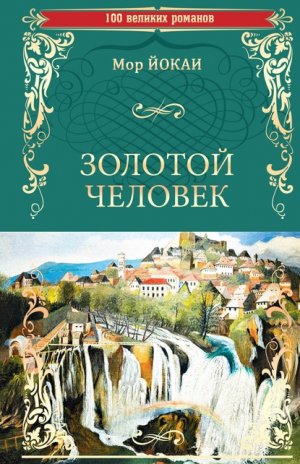
По лицу Михая пробежала тень.
– Вот завещание покойного, писанное его собственной рукою. Он пишет, что оставляет тысячу золотых наличными, остальное вложено в судовой груз, то бишь в десять тысяч мер чистой пшеницы.
– Ах так? Ну это другое дело! Десять тысяч мер чистой пшеницы по двенадцать форинтов тридцать крейцеров за меру это будет сто двадцать пять тысяч форинтов. Иди сюда, дочка, садись ко мне на колени; небось умаялась с дороги? Наказывал мне еще что-нибудь мой дражайший, незабвенный друг?
– Он поручил мне передать вам, чтобы вы самолично присутствовали, когда станут опорожнять мешки: боялся, как бы не подменили зерно.
– Как же, как же, прослежу самолично! А где судно с зерном?
– Неподалеку от Алмаша, на дне Дуная.
– Как это – на дне? Что за чепуху ты несешь, Михай?
– Судно наскочило на топляк и затонуло.
Господин Бразович оттолкнул Тимею и в сердцах вскочил с места.
– Мое замечательное судно, доверху груженное отборным зерном, затонуло? Ах разбойники, ах душегубы! Небось все пьяные были в стельку? Ну, вы мне за это дорого поплатитесь! Рулевого велю заковать в железа, а остальные от меня и гроша ломаного не дождутся. С тебя же, Михай, взыщу залог – плакали твои десять тысяч форинтов. Судись – не судись, назад не получишь!
– Цена вашему судну всего шесть тысяч, и оно со всем снаряжением застраховано в триестской страховой компании, – невозмутимо ответил Тимар. – Так что вы никакого ущерба не потерпели.
– Не твое собачье дело! Я с тебя потребую компенсации за lucrum cessans[8]. Знаешь, что это такое? Ну коли знаешь, так сообразишь, что все твои десять тысяч до последнего крайцара уйдут на покрытие моих убытков.
– Ну это уж моя забота, – спокойно возразил Тимар. – Об этом мы в другой раз потолкуем, дело терпит. Зато надобно спешно решать, как быть с затонувшим грузом. Ведь чем дольше зерно под водой останется, тем больше убыток будет.
– Плевать я хотел на это зерно!
– Стало быть, не желаете его принять. Не желаете самолично присутствовать, когда мешки будут опорожнять?
– На черта мне это нужно! Какого дьявола я стану делать с этакой горой подмоченного зерна? Не переводить же десять тысяч мер пшеницы на крахмал или солод? К черту ее!
– Черту она тоже не нужна, но пшеницу, во всяком случае, следует предложить к распродаже. Окрестные мельники, владельцы фабрик, откормщики скота купят, да и крестьяне хоть по какой-нибудь цене возьмут на посевное зерно. Судно ведь и так разгружать придется. Хотя бы какую-то часть денег вернем.
– Ах денег!.. (Заветное словцо вопреки ватным затычкам достигло-таки купеческого слуха.) Ну хорошо. Выдам я тебе завтра утром письменное поручение объявить к распродаже пшеницу, всю чохом.
– Желательно сегодня, чего же до завтрашнего дня добру портиться!
– Да сам Господь Бог не заставит меня вечером бумаги составлять.
– Я загодя обо всем позаботился. Вот готовое поручение, вам только нужно подписать. Перо и чернила у меня тоже при себе.
Последняя фраза заставила госпожу Зофию вмешаться.
– Не вздумайте в моей комнате чернилами пачкать! – взвизгнула она. – Здесь ковер на полу постелен. Ступай, муженек, к себе в комнату и брызгай чернилами, сколько угодно! И не смей здесь с челядью ссориться, я этих холуйских перебранок у себя не потерплю. Это моя комната!
– А дом этот – мой! – возопил всемилостивейший господин.
– А комната – моя!
– Здесь я хозяин!
– А я – хозяйка!
Эти крики и визги принесли Тимару известную пользу: господин Бразович сгоряча, дабы показать, что он истинный хозяин в доме, схватил чернильницу и подписал поручение на распродажу.
Но после того как Тимар получил бумагу, супруги дружно на него накинулись и – один басом, другая – визгливым голосом – вылили на него такой ушат хулы и грязи, что впору было снова нырять в Дунай отмываться.
Правда, госпожа Зофия прохаживалась насчет Тимара обиняками: бранила вроде бы мужа, как-де, мол, тот не боится доверять этакому грязному оборванцу, нищему пропойце. Отчего не послать на распродажу кого-нибудь другого из своих судовых комиссаров? Ведь этот прихватит денежки, да и был таков, пропьет или и в карты спустит, разве можно положиться на такого ненадежного человека?
А Тимар под этим яростным шквалом обвинений держался с тем же спокойствием, с каким у Железных Ворот противостоял жестокому ветру и грозным молниям.
Но вдруг заговорил и он:
– Желаете принять наличные деньги, что принадлежат сироте, или мне передать их городской попечительской управе? (Слова эти явно напугали господина Бразовича.) Если желаете, пройдемте в ваш кабинет и уладим все дела там; я ведь тоже не люблю холуйских перебранок.
От такой неслыханной грубости и хозяин дома, и хозяйка вмиг онемели. Обычно это средство успешно действует на всех горлопанов: заставь их принять изрядную порцию грубости, и они вмиг излечатся. Оба супруга тотчас угомонились. Бразович, взяв подсвечник, сказал Тимару: «Ну, ладно, бери деньги, и пойдем». А госпожа Зофия сделала вид, будто бы ее застали в преотличнейшем расположении духа, и любезно обратилась к Тимару: «Ах, Михай, не выпьете ли прежде стаканчик вина?»
Тимея в изумлении наблюдала эту сцену; речи она не понимала, а сопровождающие ее жесты и смену выражений лица истолковать была бессильна.
Приемный отец целует-обнимает ее, сироту, а в следующую минуту отстраняет от себя, вновь заключает в свои объятия и снова отталкивает. А как кричат наперебой эти двое на человека, который с таким спокойствием выстоял против смертельной опасности и бури, и стоило ему произнести всего лишь несколько слов, да и те ровным, бесстрастным тоном, как оба враз стихают, пасуя перед ним, как пасовали омуты, острые скалы и вооруженные солдаты.
И из всего, что тут говорят, она, Тимея, ни слова не понимает. А человек, кто последние месяцы был ей верным хранителем, кто ради нее трижды измерил водные глубины, единственный, кто говорит с ней на ее родном языке, сейчас уйдет насовсем, и она больше даже голоса его не услышит.
Но ей довелось еще раз его услышать.
Прежде чем переступить порог комнаты, Тимар обернулся и сказал Тимее по-гречески:
– Барышня Тимея, вот еще ваша собственность.
С этими словами он вытащил из кармана плаща коробку сладостей.
Тимея подбежала к нему и, взяв коробку, поспешила к Атали, с приветливой улыбкой протягивая ей гостинец, привезенный для нее из далекой страны.
Атали открыла коробку и презрительно фыркнула:
– Фи, как противно пахнет розовой водой! Точь-в-точь как от служанок, когда они по воскресеньям в церковь собираются.
Слов Тимея не поняла, зато брезгливую гримасу уразумела и очень расстроилась. Она попыталась было угостить турецким лакомством госпожу Зофию, но та сослалась на больные зубы: ей, мол, нельзя есть сладости. Тогда, вконец расстроенная, она угостила лейтенанта. Тот пришел в восторг, один за другим отправил в рот три засахаренных ломтика, и Тимея, глядя ему в глаза, улыбалась благодарной улыбкой.
Тимар же стоял в дверях и смотрел, как улыбается Тимея.
Затем Тимея сообразила, что надо бы и Тимара угостить турецкими сладостями. Но Тимар уже ушел.
Вскоре старший лейтенант тоже откланялся.
Будучи человеком воспитанным и учтивым, он поклонился и Тимее, что было ей очень приятно.
Вскорости воротился господин Бразович, и в комнате теперь были все свои.
Между господином Бразовичем и госпожой Зофией закипела свара; обменивались любезностями они вроде бы по-гречески, и Тимее иногда удавалось разобрать отдельные слова, но в целом речь их казалась ей более чуждой и непонятной, чем те языки, в которых она не понимала ни слова.
А разговор меж супругами шел о том, как поступить с этой свалившейся на их голову девчонкой. Все ее наследство – двенадцать тысяч форинтов золотом, ну и та малость, что удастся выручить за намокшее зерно. Этой суммы недостаточно для того, чтобы воспитать из нее такую барышню, как Атали. Госпожа Зофия полагала, что следует ее приучить к работе по дому: к кухне, к уборке, стирке-глажке – такое умение ей в жизни пригодится. Все одно при таком убогом приданом ей не составить лучшей партии, чем какой-нибудь писарь или судовой комиссар, а для него куда лучше, если жена воспитана как служанка. Однако господин Бразович на эти уговоры не поддавался: что скажут люди? Наконец они избрали золотую середину: в глазах света выставлять Тимею не прислугой, а приемной дочерью. Есть она будет вместе с ними, но и прислуживать за столом тоже станет. К корыту ее не поставишь, зато стирать свои платья и тонкое белое белье Атали ей вполне по силам. И шить пусть учится, только не в людской будет сидеть, а на господской половине. И Атали она сможет помогать при туалете, это ей будет вроде забавы. Ночевать она станет не с прислугой, а в одной комнате с Атали. Дочке все равно нужна своя горничная. А в награду за это наряды, которые Атали уже надоели, перейдут Тимее. Девица с двенадцатью тысячами приданого должна возносить хвалу небесам за такую участь.
И Тимея была довольна своей участью.
После огромной, непостижимой ее уму катастрофы, выбросившей ее на чужую землю, она, подобно покинутому на произвол судьбы ребенку, льнула к каждому, с кем оказывалась рядом. Тимея была доверчива и услужлива, как и подобает юной турчанке.
Она была очень довольна, что за ужином ей разрешили сесть подле Атали, и ей не пришлось внушать ее обязанности: она сама вскакивала с места, чтобы поменять тарелки и столовые приборы, и делала это с охотою, с ласковой предупредительностью. Старалась не обидеть приютившую ее семью своим печальным видом, а между тем у нее было достаточно причин печалиться. В особенности же ей хотелось угодить Атали. Каждый взгляд ее выдавал искреннее восхищение, с каким обычно девочка-подросток взирает на расцветшую женскую красоту. Как любовалась она розовым лицом Атали, ее сверкающими глазами!
Девочки-подростки воображают, будто бы кто красив, тот непременно и добр.
Слов Атали она не понимала – та не говорила даже на таком греческом наречии, как ее родители, – но по жестам, по глазам пыталась угадать ее желания.
После ужина, за которым Тимея не ела почти ничего, кроме хлеба и фруктов – к жирной пище она не была приучена, – семейство перешло в гостиную, и Атали села к роялю музицировать. Тимея пристроилась подле нее на скамеечке для ног и благоговейно взирала снизу на проворные пальцы названой сестрицы.
Затем Атали показала ей портрет работы молодого офицера. Тимея пришла в такое восхищение, что даже всплеснула руками.
– Ты что, сроду такого не видела?
Вместо нее ответил господин Бразович.
– Где ей было видеть? Турецкая вера запрещает изображать чей бы то ни было облик. Ведь все нынешние смуты и волнения в Турции как раз и начались из-за того, что султан дозволил написать свой портрет и вывесить его в диване. По этой причине и бедняга Али Чорбаджи оказался замешанным в бунт, вот и пришлось ему уносить ноги. Да, наделал же ты глупостей, непутевый Али Чорбаджи!
Тимея при имени отца припала в благодарственном поцелуе к руке господина Бразовича, решив, что тот помянул усопшего добрым словом.
Затем Атали отправилась на покой, а Тимея со свечой шла впереди, освещая ей путь.
Атали присела у туалетного столика и, глядясь в зеркало, тяжко вздохнула; лицо ее помрачнело, устало расслабив члены, красавица откинулась в кресле. Ах, как хотелось Тимее знать, отчего омрачилось грустью это прекрасное лицо.
Она вынула гребень из волос Атали, ловкими пальцами распустила волосы, уложенные короной, и с наслаждением заплела на ночь густые каштановые пряди в косу. Заботливо вынула из ушей серьги, при этом ее лицо оказалось так близко от лица Атали, что та не могла не увидеть в зеркале эти два столь разных отражения: одно лицо розовое, блистательно неотразимое, другой лик – бледный, кроткий. И все же Атали досадливо вскочила с места, оттолкнув зеркало прочь: «Пора ложиться!» – это белое лицо бросило тень на ее собственное отражение. Тимея аккуратно подобрала разбросанные Атали одежды и с врожденным изяществом аккуратно сложила.
Затем опустилась перед барышней Бразович на колени, чтобы стянуть с нее чулки.
Атали позволила ей это сделать.
А Тимея, сняв тончайшие шелковые чулки и держа на коленях беломраморные ноги, способные сделать честь самой прекрасной скульптуре, склонила голову и прижалась губами к этим дивным ногам.
Атали позволила ей сделать и это.
Добрый совет
Господин Качука, проходя через кафе, увидел там Тимара за чашкой кофе и дружески поспешил к нему.
– Я промок, продрог, а мне сегодня предстоит еще долгий путь, – сказал Тимар, обменявшись рукопожатием с офицером.
– Так заходи ко мне на стаканчик пунша.
– Спасибо, да только недосуг. Я должен незамедлительно снестись со страховой компанией, чтобы прислали подмогу вытащить судовой груз, ведь чем больше судно пробудет под водой, тем больший будет для компании ущерб. После этого надо бежать к уездному начальнику, просить, чтобы рано утром отправил кого-нибудь в Алмаш провести распродажу, а уж потом обегу торговцев свиньями да возчиков, чтобы сходились на распродажу, и еще ночью надо поспеть в Тату, к владельцу крахмального завода – уж ему-то подмокшее зерно больше всех придется ко двору. Хоть какие-нибудь крохи денег сохранить для этой несчастной девушки. Тебе же я должен передать письмецо – мне вручили его в Оршове.
Господин Качука прочел письмо и сказал Тимару:
– Ладно, приятель, улаживай свои дела в городе, а когда все закончишь, загляни ко мне на полчасика. Я живу рядом с «Англией», в доме, где большой двуглавый орел на воротах. Пока возница будет готовить лошадей в дорогу, мы выпьем с тобой по стаканчику пунша и обмозгуем одно дельце. Только непременно приходи!
Тимар заверил его, что придет, и поспешил по делам.
Было, должно быть, часов одиннадцать, когда он подошел к воротам, украшенным двуглавым орлом; дом находился рядом с городским парком, который в Комароме прозывался «Англией».
Господин Качука поджидал гостя, денщик сразу провел его в комнату.
– Я думал, что ты за время моего отсутствия давно уж женился на барышне Атали! – начал Тимар без обиняков.
– Леший его разберет, отчего-то никак у нас не сладится! То я перенесу срок, то она отсрочки попросит. Похоже, у кого-то из нас душа не лежит к этому союзу.
– О, барышня Атали тут ни при чем, можешь быть уверен!
– Ни в чем на свете нельзя быть уверенным, приятель, а менее всего в чувствах женщины. Я-то считаю, что вредно долгое время со свадьбой тянуть, ведь обрученные не только не сближаются, а, напротив, больше отдаляются взаимно. Люди успевают узнать даже мельчайшие недостатки друг друга – после свадьбы обычно на такие пустяки машут рукой, мол, «бог с ним, все равно теперь ничего не поделаешь!» Мой тебе совет, братец, ежели надумаешь жениться, упаси тебя бог долго ходить вокруг да около. Только начни считать да прикидывать – одними дробями кончишь.
– Но тут ведь, мне кажется, только считай да прикидывай, в накладе не останешься. Девица-то богатая.
– Богатство, приятель, – понятие весьма условное. Поверь мне, любая женщина ухитряется растратить с лихвою все, что принесет в приданое. Кроме того, с богатством господина Бразовича дело и вовсе не ясное. Он постоянно поддерживает такие предприятия, в которых ничего не смыслит, а поэтому и проследить за ними не может. Через его руки проходит тьма денег, однако он не способен даже на то, чтобы в конце года подвести обычный коммерческий баланс и выяснить, выиграл он или проиграл в результате всех своих операций.
– По-моему, дела его идут весьма хорошо. И Атали – дама очень красивая и образованная.
– Пусть так, но тебе-то какой резон расхваливать мне Атали, словно лошадь на ярмарке? Потолкуем-ка лучше о твоих делах.
Если бы господин Качука мог заглянуть Тимару в душу, он бы понял, что разговор об Атали имеет прямое отношение к его делам. Ведь Тимар завел этот разговор потому, что позавидовал той улыбке, что досталась от Тимеи молодому офицеру. Не хочу, чтобы Тимея улыбалась тебе! У тебя есть твоя Атали, вот и женись на ней!
– Итак, поговорим на более важные темы! Мой приятель из Оршовы пишет, чтобы я взял тебя под свое покровительство. Что ж, попробую. Ты сейчас находишься в крайне щекотливом положении. Доверенное тебе судно затонуло, это не твоя вина, зато твоя беда, ведь теперь тебе побоятся доверить свою собственность. Господин Бразович присвоит себе твой залог, и бог знает, удастся ли тебе отсудить его обратно. Да и этой несчастной девушке ты хотел бы помочь. Я ведь по глазам вижу, больше всего у тебя болит душа оттого, что сироте такой урон нанесен. Как бы разом помочь всем этим бедам?
– Ума не приложу.
– Тогда я тебе свой одолжу. Слушай меня внимательно. С будущей недели начинаются обычные ежегодные армейские сборы под Комаромом. Маневры продлятся три недели, и соберется на них тысяч двадцать человек. Объявлен конкурс цен на поставку хлеба. Дело пахнет крупными деньгами, а человеку с умом ничего не стоит и нажиться на этом. Все письменные предложения проходят через мои руки, и я заранее могу сказать, кто именно получит заказ: ведь это зависит не от того, что написано на бумаге, а как раз от того, что там не значится. До сих пор наиболее выгодным было предложение Бразовича. Он берется выполнить поставки за сто сорок тысяч форинтов, а двадцать тысяч сулит за посредничество.






