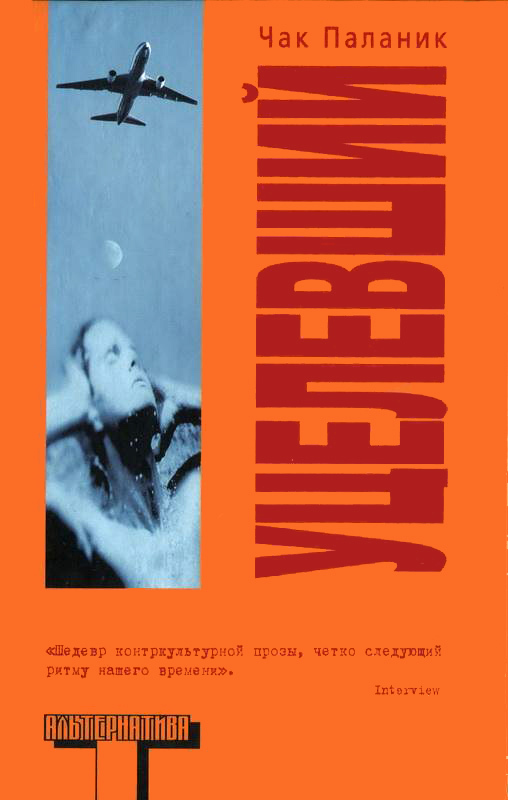Подкидыш ада Прашкевич Геннадий

– Идут сюда?
– У них мушкеты и даже пушки, – подтвердил Джон Гоут, чуть отставляя деревянную ногу. – Скоро придут, – подтвердил он, не уточняя срок.
Оборванцы переглянулись.
Конечно, они не поверили одноногому.
Можно пройти сквозь джунгли в сезон ливней даже на деревянной ноге… Может быть, может быть… Вот Джон Гоут прошел… Но пушки… Но мушкеты…
Старший старатель выругался.
Это было длинное ругательство, составленное из невообразимой смеси грубых английских, испанских и индейских слов. Так говорят на Тортуге, поэтому одноногий еще больше насторожился.
– Вы пришли за золотом?
Джон Гоут осторожно кивнул.
– И за камнями, которые блестят?
– Ну да. Говорят, здесь много таких, да?
– И за всякими серебряными безделками?
– Ну да. Это верное понимание.
– А что вы дадите взамен?
– У нас ничего нет.
– А твой нож?
Водянистые глаза Джона Гоута стали совсем бесцветными, как алмаз в воде.
– Нож я не могу отдать. Он мой.
– Как вы сюда добрались?
– Пересекли лес.
– Через перевал?
– Мы прошли его.
– На такой вот ноге?
Джон Гоут кивнул. Он не хотел спорить.
– Мы ничего вам не дадим, – решил старший старатель. – Ни алмазов, ни золота.
Все были здорово истощены, но их было четверо и все вооружены зазубренными мачете.
– Но ведь камней и золота здесь много.
– Так много, что вам не унести и малой их части, – подтвердил старший. – Но как ты на одной ноге пришел к городу? – упрекнул он Джона Гоута. И покачал головой: – Я не знаю, как ты шел через лес, но отсюда ты не уйдешь. Ты никогда больше не увидишь реку. – Он действительно не понимал, как это можно в ужасный сезон ливней пересечь джунгли на одной ноге. – Тебе, наверное, помогает дьявол, – догадался он. – Но отсюда ты не вернешься.
– Чего вы хотите?
– Нож и негритенка.
– Зачем вам негритенок?
– Он понесет груз. Он много может нести?
– Много.
– Ну вот, клянусь дьяволом, мы договорились, – лениво сплюнул старший.
Как молчаливые индейцы на стене, он тоже обо всем знал заранее. Четыре тяжелых зазубренных мачете подсказывали ему правильную правду.
– У тебя только одна нога, – сказал он Джону Гоуту. – Зачем тебе богатства? Отдай нож и негритенка, и мы сразу уйдем. У нас все готово для того, чтобы уйти отсюда. Мы давно ждали кого-то, кто бы помог нам. Если хочешь, мы убьем тебя и твоего приятеля, – дружески кивнул старший старатель. – В мертвом городе жить нельзя. Даже дрова золотые. Мы отламывали золотые яблоки и ветки, но сад большой, можете сами проверить. Если договоритесь… – Он кивнул на стоящих высоко на стене индейцев. – Они, наверное, вас пропустят…
И метнул мачете.
Зазубренный нож: попал Нилу за ухо.
Еще два мачете полетели в одноногого. Он, конечно, был бы убит на месте, но произошло чудо, о котором мечтали покойные чиклеро. Руки ефиопа стремительно и страшно вытянулись, как мягкие ленты только что сгустившегося латекса, и на лету перехватили ножи.
Старатели попятились.
– Клянусь дьяволом, мы не будем брать этого негритенка!
– У вас есть продукты? – спросил одноногий, ища пульс у навзничь опрокинувшегося ирландца.
– Совсем немного.
– Отдадите нам все продукты, – угрюмо сказал одноногий, отпуская тяжелую, уже холодеющую руку Нила. Он старался не смотреть на оборванных старателей, потому что страстно хотел убить их. – И понесете наш багаж к реке.
В конце концов, решил он, проще будет убить старателей на реке.
– Абеа?
Джон Гоут обернулся.
Ефиоп глянул в его водянистые глаза.
Как всегда, он ничего не сказал, но по странному, как бы ввинчивающемуся в сознание взгляду одноногий понял, что чудо произошло. Это так. И будет много золота и алмазов. А старатели послушно понесут груз. Если Джон Гоут не сможет идти сам, они понесут его на плечах или на носилках.
Так он подумал.
А ефиоп сошел с ума.
Бросив пойманные мачете, он упал в раздавшуюся жидкую грязь.
Он вскрикивал и бился, как в конвульсиях. Он всхлипывал, он так стонал, что один из старателей заплакал. Он катался, расплескивая грязь, и, весь вывозившись, со стоном бросился в озеро, распугав массу ядовитых змей и взмутив чистую воду. Фонтаны донного ила стремительно поднялись над поверхностью. Ефиоп всплывал и вновь уходил под воду, смертельно пугая старателей.
Только молчаливые индейцы на стене ничему не дивились.
Всех сковало дыхание сущности – тен.
Холодная часть ада
К зиме немец загнал Семейку в самые низы реки Большой Собачьей.
Спускаться ниже было опасно – люди замерзнут. Там ни дров, ни еды, ни зверя, даже лихого. Морозы стеклили мелкую воду у берега, стреляли рвущейся голой землей, на перекатах звенели льдинки. На тяжелом округлом коче – судне, всяко приспособленном для плаваний даже среди льдов, – Семейка добрался до уединенной протоки, хитро закрытой с одной стороны скалами, с другой имевшей выход на сендуху – темное, уже высветленное снежком пространство тундры. Ждали, что немец до настоящих морозов спустится к крепостце, всяко укрепили подход, выставили в сторону реки пушку. Но вместо судов со стрельцами до ледостава течением принесло плот. На нем виселица. На веревке истлелый мертвец, умело расклеванный стервятниками. А у ног мертвеца – заледенелый от страха и холода обыкновенный казенный дьяк, крепко скрученный, но почему-то не повешенный. Вороны пытались клевать и дьяка, но он махался свободной рукой, тем и остался жив.
Дьяка притащили к Семейке.
Семейка, рябой, волосатый, совсем лев, немного только попорченный оспой, в плотном камзоле, недавно отнятом у приказчика в остроге, насупил брови:
– Воровал?
– А как без этого?
Ноги дьяка не держали, пришлось его откармливать. Как рождественскому гусю, проталкивали в горло жеваное мясо. Скоро задышал, приноровился к белому винцу. Глаза ожили, стали смотреть живей, приглядываться.
Назвался Якунькой.
Снова приволоченный к Семейке, охотно рассказал об ужасном военном немце, о наглых приготовлениях стрельцов, о скорой погоне, о многих пушках, якобы доставленных морем аж из самого Якуцка.
На такие слова казаки, помогавшие разговору, осердились.
Хотели убить Якуньку, но тот слезно попросил винца и, выдув махом чуть не большую кружку, заговорил совсем иначе. Никого пушками не пугал, не указывал на особенные таланты военного немца, не повторял, что немец приглашен и отправлен в Сибирь специально принять командование над разбойниками и ворами в пользу России. Под видом некоего комплимента стал даже называть Семейкиных людей товарищами. Чтобы подтвердить, что с немцем не в дружбе, показал украденный нож. У самого немца украл! А когда вязать стали, объяснил, что ножа под кафтаном не заметили. «Это и хорошо, – радовался, – а то висел бы». Правда, плот неудобный, от двух висунов мог перевернуться. «Привяжите его покрепче, – якобы приказал немец, – пусть скажет ворам, что приду скоро».
– Думает поймать нас? – заинтересовался Семейка.
– Не знаю, – обреченно покачал головой дьяк.
Волнистая шеффилдская сталь ножа, литая медная рукоятка, удобно обернутая полосками кожи, понравилась Семейке. Дьяку, выдувшему еще одну кружку белого, нож не вернул.
Но как бы восхитился:
– Ну, ты монстр!
Со слов дьяка выяснилось следующее.
Три года назад он, казенный дьяк Сибирского приказа Якунька Петелин, проделал с военным немцем весь долгий путь от Варшавы до Москвы.
Немец дьяка принял поначалу холодно – как царского соглядатая. Но потом привык, не чинился, сажал за стол. Страшный, жилистый, в зеленом немецком камзоле, в парике, а глаза глубокие, водянистые, как течение на глубоком месте. Устроится на скамье, вытянет перед собой негнущуюся деревянную ногу, обтянутую немецким чулком, и смотрит грозно. Опасаясь пронизывающего взгляда, Якунька напивался до такой степени, что причинял людям неприятности. А немцу про все в России рассказывал с ужасными преувеличениями. Люди – богатыри. Ломают руками подкову, зубами перекусывают пятак. Москва такая большая, что иностранцы в ней могут заблудиться. Тогда живут по подворьям у разных людей, пока свои не узнают. Считал: раз молодой государь пригласил, то надо немцу знать, что Москва такая большая. А что навозные кучи в каждом переулке, что все помои вылиты в лужи перед домами – это ничего. Звон малиновый над Москвой – для истинных христиан. А если дальше идти… Если идти по России… И не смей думать, какая большая!.. Одна река за другой, одна гора за другой, и Бабиновская дорога. На ней каторжные в железах. Наладились в Сибирь.
Есть такие реки, где пройти невозможно, только зимой.
А зимой морозы лютые, воздух от них тверд, как масло. Не запалишь костерка – задохнешься. Тут же мелкие пигмеи щебечут в снегах, как снегири, закутавшись в пестрые птичьи перья. На некоторых расстояниях живут в ледяных домиках стеклянные люди, лишенные дара речи. «Вот как твой ефиоп». А у других дикующих другие баснословные свойства: впадают в спячку. «И не смотри, дядя, – якобы добавлял монстр, совсем уже не боясь немца, – не смотри, дядя, на то, что ничего вкусней зайчатины они в жизни не едали, вещи у них богатые – мяхкая рухлядь».
Согласно традициям, посольский обоз не торопился. Пусть иностранцы видят – какой простор, сколько птиц в небе!
Время от времени подъезжали местные люди, спрашивали что-нибудь. Предлагать боялись – государем запрещено. Потом появлялись новые.
А посольский поезд тянулся и тянулся по бесконечным равнинам.
Зачем иностранцу спешить? В Россию нельзя нырять, как в холодный омут.
Конечно, дождь.
Конечно, бедные избы.
Конечно, бабы в платках, повязанных через грудь крест-накрест.
Над ветхими кровлями – золотушные петушки. В углу постоялого двора сломанная оглобля. Косолапый смотритель смотрит так, будто сейчас заплачет. Вот зарезал бы, а нельзя. Потому и мучается.
От села Заречного, что в тридцати двух верстах от Москвы, шли почти месяц.
– Неужто месяц? – дивился Семейка, играя отнятым у дьяка ножом.
– Не меньше.
– Я бы такового вашего вожатого повесил.
…Сворачивали в леса, стояли над темными осенними озерами, в грязи так страшно утопали, что даже до Москвы доходили слухи о якобы пропавшем обозе. Дважды отбивались от разбойников. В белом плотном дыму скакали всадники, вскрикивали ужасно. Но грязь лошадям по брюхо – сильно не разгонишься.
«Майн Гатт!» – бормотал немец, моргал водянистыми глазами. А дьяку слышалось: «Мой гад!» Терялся в догадках.
В некоторых селах водил одноногого в корчму.
Некоторое время мечтал перепить, но после трех драк понял – не сможет.
Тогда смирился. Стал объяснять назначение жизни. Немец вытянет по скамье негнущуюся деревянную ногу, обтянутую полосатым немецким чулком, корчмарь тут Же с уважением подставит дополнительную скамеечку. На немце военный кафтан зеленого цвета, на поясе нож с медной рукоятью, при живой ноге – маленький ефиоп. Якунька прямо терялся: вот как жизнь складывается! Ефиоп, правда, смотрел на него без особенных проблесков сознания, только иногда спрашивал: «Абеа?» Не желая прослыть дураком, Якунька кивал: «А как же!»
Падал снег.
Подмораживало.
Москву почти видно, пахнет дымом, а дойти никак не могли.
Обдавало снежной крупой. Военный немец редко выходил из громоздкого, с черным кожаным верхом возка. А если выходил, оставлял за собой след копыта. Видно, что человек прошел, а след не человеческий. Якунька от этого тревожился, расспрашивал про дальние края, нагло врал, что только на Руси есть порядок. Вот украл, к примеру, тебе и вырвут клещами ноздри.
Богобоязненный народ, хвалил.
А сам внимательно поглядывал на немца, хотел догадаться: зачем такой страшный понадобился в России?
Известно, молодой царь любит немцев.
Всех зовет, кто умеет махать мечом или читать карту.
Свой народишко упрям: учиться не хочет. Одним уже порвали ноздри, другие еще прячутся по лесам. Бегали при Софье, бегали при Алексее Михайловиче, бегали даже при Грозном царе, так что считают: и сейчас можно. Обычно отсиживаются в темных лесах. Мерзнут, голодают. Когда совсем рассердятся, выскочат с криком, отнимут у проезжего какую еду, бедное борохлишко Есть такие дороги, там разбойников больше, чем царских слуг. Только когда стрелецкий тысячник Пыжов прошел с пушками – многие бежали в Сибирь. А туда за ними людей не пошлешь – изменят.
Да и зачем посылать людей на восток в вечные льды?
Зачем вести долгие обозы, гнать каторжников, содержать ямы, чистить волоки – охранять границу, которой, в сущности, нет? На огромном отдалении и лик государев выглядит не так грозно.
В посольском дворе в Китай-городе – в доме на три этажа с башенками и узкими балкончиками – военный немец прогуливался в кафтане сером и с позументами. В широких штанах, на одной ноге полусапожек гармоникой.
Подолгу смотрел с балкончика в глубину квадратного двора с глубоким колодезем посредине. Бормотал: «Майн Гатт!»
Ефиоп тут же отвечал: «Абеа?»
Снаружи почти как человек, только щеки как уголь и глаза сверкают.
Маленький ростом, а ел ужасно. Много и скоро ел. Лебедя к столу подавали с уксусом, с солью, с перцем, так ефиоп ножом отхватывал куски так, будто торопился, что сейчас все встанут и уйдут.
И как бы призывал всех уйти.
Якунька даже утешал:
– Сиди, дядя!
Старый боярин Трубецкой, самим государем назначенный быть при немце, смотрел на черного с упреком. Ни о чем такого не спрашивал. Только раз, губу оттопырив, гордость врожденную переборов, спросил:
– Бреешь бороду?
Какая там борода?
Но немец ответил за ефиопа в утвердительном смысле, потому князь кивнул: «И это по-нашему». Видно было, что боится молодого царя до судорог. При нем ведь сейчас больше иноземные офицеры, драгуны, рейтары. А свои – купчишки, всякие дьяки безродные, мелкий подлый народ, пронырливые откупщики. Слухи ходят, что скоро в приказах нерадивых подьячих будут накрепко закреплять к скамьям веревками. Чтоб работали в меру сил.
Вздыхал.
Вспоминалась жизнь при Алексее Михайловиче.
При Тишайшем царе вставал с восходом солнца. Долго расчесывался, пятерней трогал бороду, смотрелся в тусклое зеркальце, засиженное мухами. Поохав, омыв лицо, отправлялся во дворец. Там время проводил неспешно – по старинным московским часам. К вечеру, притомившись, шли в церковь.
Все неторопливо. Все с уважением.
А ныне в дворцах иноземцы, как козлы, пританцовывают.
На них нитяные полосатые чулки, башмаки с пряжками, парики короткие.
А то строгий указ вышел: «По примеру всех христианских народов – считать лета не от сотворения мира, а от рождества Христова в восьмой день спустя, и считать новый год не с первого сентября, а с первого генваря сего 1700 года». И тем же указом сурово стребовано, чтобы в знак нового столетнего века в полном веселье друг друга поздравлять с новым годом. По всем улицам у ворот учинять украшения из срубленных деревьев и веток сосновых, еловых, можжевеловых. Людям скудным – и тем хотя бы какую ветку ставить над воротами. А по дворам палатных, воинских и купеческих людей обязательно чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, даже жечь смоляные бочки.
Задымили Москву.
От боязни всего иностранного князь бледнел.
Истинное уважение требует неторопливости, а молодой царь – длинный, дергающийся, вихлястый, не терпит медлительности. Может париком при всех отхлестать. Помня это, князь Трубецкой, садясь с немцем за стол, выкладывал перед собой длинный список «здоровий», чтобы ничего и никого не пропустить. Пили с немцем так истово, будто винцо для того дано, чтобы поскорей повалить человека под стол. Произнося что-то, князь машинально поглаживал пальцами обритое лицо, поглядывал на одноногого с отчаянием. Вот уселся, выставил деревяшку. Совсем черная, в царапинах там, где выглядывает из-под штанины. Видно, что побывала в воде, в огне – везде побывала. С тайным страхом думал: просто так человек ногу не потеряет, значит, было где потерять. Опять же, отстреленную ногу просто так к телу не приставишь, значит, было чем заплатить.
И имя нечеловеческое – Джон Гоут.
Говорят, отличился во многих сражениях.
А теперь вот приглашен для отправки в Сибирь – там навести порядок.
С некоторых пор на восточной украине воры и разбойники, как псы, висят на ободранном подоле государева кафтана. Обозы стали приходить пустые. От чюхчей, от одулов, от шоромбойских мужиков и олюбенцов вместо чудесной мяхкой рухляди везут никому не нужных искалеченных стрельцов. В Разбойном приказе одно время думали: это вдруг забаловали дикующие. Но поймали одного вора – свой! Поймали другого – свой! Третьего поймали, все полны удивления – опять свой! Из беглых. Говорит по-русски, знамение кладет, ругается – совсем озлобился. На дыбе, отхлестанный огненным веничком, признался в воровстве, рассказал, что за рекой Леной, в лесах и ниже – в плоской сендухе, все равно богатой песцом и соболем, заправляет теперь некий Семейка. Тоже из беглых. Рябой. Жил на севере, был взят в стрельцы, службу оставил самостоятельно. Баловал в российских лесах, ушел в Сибирь. Государя совсем не признает, говорит – заменили государя немцы, не будем такому служить, наоборот, будем жить свободно! Всем объявил войну.
А гарнизонов на дальних реках мало.
Пошлешь кого воевать Семейку, он к тому и перекидывается.
Якунька глазел то на князя, то на немца. Прислушивался. Пил как монстр. Незаметно пинал под столом маленького ефиопа.
«Абеа?»
«А то!»
Чтобы угадать понимание старого князя, как бы понравиться, трогательно шептал новоманерные вирши: «Часто днями ходит при овине, при скирдах, то инде, то при льне; то пролазов смотрит нет ли в тыне и что делается на гумне…»
Когда дошло, что вирши не цепляют князя, стал жаловаться на всякие случаи. Признался, например, что год назад бежал от одной лукавой девки. Теперь живет дьяком, дрожит каждый день, что вредная девка крикнет на него слово.
Но всю правду старался не говорить.
Зачем говорить всю? Часть правды – тоже правда.
Загадочно намекал, что год назад часто бывал по делам в доме одного важного человека. Там и увидел круглую карельскую девку, она обстирывала весь дом. Ноги тоже круглые, хоть верхом садись, скачи в дозор.
Ну и случилось.
«Вся кипящая похоть в лице его зрилась… – доверительно шептал. – Как угль горящий, все оно краснело… Руки ей давил, щупал и все тело… А неверная о том весьма веселилась…»
Понятно, нашептывал это девке.
А та от смущения вся налилась кровью, сквасилась. Стала много молчать, только краснела. А потом, дура, решила накрепко привязать приказного дьяка к своей бедной юбке!
– Майн Гатт!
(Дьяку так и слышалось: «Мой гад!»)
– Майн Гатт! Вышли за мысы… Испанский пинк встретили… Забрали – солонину, хлеб… Ром забрали, черную патоку… А чтобы произвести хорошее впечатление, отдали взамен бухту старого троса.
Якунька восхищенно каменел.
«Чтобы произвести хорошее впечатление…»
– Я тоже хотел воевать, – доверительно признавался, когда слуги уносили вконец сморившегося от выпивки старого князя. – Когда бежал от карельской девки, в корчме встретил офицеров молодого царя. Понравился им ростом, силой, – приврал, – особенной легкостью ума. Так напоили, дядя, что, не поверишь, очнулся только в крепости. Подполз к открытой двери, увидел: во дворе палками бьют рекрута. Спина так зачесалась, что преодолел крепостные сооружения, широкий ров.
– Майн Гатт!
Немец задумчиво чесал негнущуюся деревянную ногу.
– Майн Гатт! Взяли с одного потопленного барка дюжину телячьих шкур… Всего-то хотели пошить чехлы для пушек… А когда погнались за нами, – немец никогда не уточнял, кто за такими осмеливался гоняться, – учинили в своем флаге «женскую дыру» и весело махали руками…
«Вся кипящая похоть в лице его зрилась…»
Нравились дьяку прельстительные слова. Не знал, не догадывался, в голову не приходило, что Аххарги-ю из бездн черных глаз ефиопа видит его насквозь.
Видит вирши, видит жадность.
Видит перепутанность скудных мыслей.
С одной стороны, как бы побольше сожрать с богатого стола; с другой, какие-то томления – слова, к столу непричастные. Мысленные валы огненные. Катятся, как в аду. Ад ведь такое место, где купаться никто не хочет…
Аххарги-ю чудился в этом как бы намек на что-то высокое, но все портила простая, ничем не прикрытая мысль Якуньки: как удачнее провести немца?
Может, ефиопа отнять? Зачем ефиоп такому военному немцу?
А он, Якунька, водил бы черного на веревке по базарам и площадям.
Всегда имел бы свой кусок хлеба. И правду легче искать, когда черный ефиоп, как коза, на веревке. Люди обязательно покупаются на особенное. Такого или сжечь на костре или мне отдать, намекал немцу. Конечно, только мысленно намекал, вслух – боялся. Ты вот мне отдай ефиопа, мысленно намекал, не зная, что Аххарги-ю все равно все видит. Я пойду с черным по сибирским городам просить милостыню. (Аххарги-ю тревожно задумывался.) Не знаю, что это за ефиоп такой у тебя? (Аххарги-ю непонимающе пучил сайклы.) Прямо подкидыш.
Трудно жить, жаловался немцу.
Вот он, Якунька Петелин – казенный дьяк посольского приказа, а имеет в день на пропитание так мало, что от слабости двоится в глазах. Приходится таскать птицу с чужих дворов. Чтобы вести записи, отливает из охотничьей дроби свинцовые палочки. Тайком перо дерет с чужих гусей – с той же целью.
Спрашивал, загибая пальцы:
– Дрова на всю зиму – надо? Новый парик – надо? Книги ученые – надо?
– То-то ученость проглядывает! – грубо указывал немец на дыру в кафтане.
– Нет, это глупость заглядывает, – обижался Якунька. Но на всякий случай переводил разговор на ефиопа: – Наверное, большой преступник был? Вон как ухо неровно подрезано.
«Чтобы произвести приятное впечатление…»
– Ведь каких только страшных гнусностей не наколобродит такое вот черное существо, – догадывался, давал понять, что все понимает. – Души у него точно нет. Язычник. Привык жить молчком. Это я, – умно жаловался, – как тот Аристотель, учусь отвечать на любые, даже каверзные вопросы.
– Майн Гатт! – вел свое немец.
(Якуньке слышалось: «Мой гад!»)
– Одного человека привязали к брашпилю и закидали пустыми бутылками… Весь порезался…
Якунька млел. Это какого такого одного человека?
Он про Аристотеля да про высокие материи, а немец человека – бутылкой.
От смущения лез рукой за пазуху – предлагал немцу пробирные весы. Украл, конечно. Одноногий предложение отклонял, но Аххарги-ю, сканируя неглубокое сознание дьяка, натыкался на новую необычную мысль: получив за украденное немного денег, в ближайшем времени изобрести бы что-то такое, чтобы сам князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский ахнул и доложил молодому царю. Изумить, скажем, зажигательным инструментом – катоптрикодиоптрическим.
Это еще не разум, качал головой Аххарги-ю.
Это еще только смутные затемнения примитивного первичного сознания, не больше.
Отчетливо видел, что никакой высокой печалью не отмечено дерзание дьяка. Не тяготило его сознание одиночества во Вселенной. Киты, отлежав бока, тяжело ворочались под плоской землей в океане, трясли на столе посуду, дьяку и это было нипочем. Он, наверное, скоро драться начнет, верно угадывал Аххарги-ю. А потом обязательно украдет что-нибудь.
«Вся кипящая похоть в лице его зрилась…»
Так шептал, а сам думал про карельскую дуру прачку.
Стишок Якунька сочинил, впрочем, наблюдая за военным немцем и бледной польской княжной, поселенной с отцом в том же посольском дворе. Со времен путешествия по России чувствовал, что ефиоп не просто находится при одноногом – они как-то особо связаны. Втайне дивился невозмутимости немца. Смотрел, как вечерами с одного балкончика тот переходил на другой. Стоял, упершись в пол деревянной ногой, а бледная княжна на другом балкончике всем телом прижималась к холодному камню стен, будто никого не видит.
А глаза бесстыдные.
У немца – водянистые, а у княжны – бесстыдные.
Как бы не замечали друг друга, но дьяк чувствовал что-то такое. Даже не удивился, услышав однажды ночью голоса за стеной, шепот. Не беден военный немец, подумал, если может шептаться с польской княжной. Мало ль, что одноног! Любой вид можно поправить золотом.
А княжна бедна.
Пан-отец не просто так привез к московитам. Непременно надеется на щедрый дар судьбы, никак не догадывается про дорожное амурное приключение. Как бы нечаянно проходя мимо комнаты военного немца, Якунька чуть толкнул дверь.
Не заперта.
Глянув внутрь, под чуть светящую лампадку, немало изумился: почему стоны за стеной, почему шепот, если немец спит? Вон слышно: дышит под лоскутным одеялом как ни в чем не бывало.
Побежал обратно – к себе.
Прильнул к стене плоским опытным ухом. Ну, точно стоны!
Как так? Вернулся к приоткрытым дверям – спит немец. В свете лампадки видно: у кровати нагло поставлена деревянная нога. Побежал обратно: шепот за стеной, княжна сладко стонет. Как так? От досады крестным знамением смахнул выглянувшего из-под оконного карниза черта. Да так ловко его смахнул, что с небес донеслось сладостное: «Ага!»
Стал следить.
Сострадал за отца княжны.
Вот привез пан ко двору чистую дочку. Имел явный умысел породниться с каким русским князем или боярином. У русских добра не мерено, горшков с золотом закопано по подклетям уйма! Хоть век могут лежать. А вот никакая девка, даже польская, так долго не цветет.
Следующей ночью Якунька чуть с ума не сдернулся.
Все молитвы забыл от увиденного. Одна только крутилась в голове – от укушения гада. Ее повторял, верил, что Господь поймет. Сам видел собственными глазами, как из комнаты польской княжны под самое утро на одной ноге, как грач, выпрыгнул военный немец. Кафтан, как на лешем, запахнут левой стороной наверх. Без парика, бритый. «Майн Гатт!» (Якунька, конечно, услышал: «Мой гад!») Как понять? Ведь в то же самое время тот же сердитый немец крепко спал на кровати. Деревянная нога на полу. Шахматы и нож на столе.
Ну, как такое понять?
С одной стороны – спит, с другой – заставляет княжну стонать.