Художественные таланты и психологи: стороны душевного родства и профессиональной близости Хавин Александр
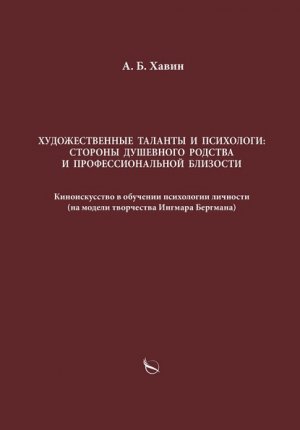
Предисловие
Монография посвящена глубинной связи художественного творчества с психологией личности и психотерапией, существовавшей всегда, задолго до становления арт-терапии самостоятельной областью психотерапевтической практики. Разные аспекты этой связи прослеживаются в отдельных главах монографии. Важнейший и интереснейший её аспект – специфичная общность мотивов деятельности художественных талантов и всевозможных целителей. Кроме того, нами ставилась цель очертить круг знаний, необходимый для занятия арт-терапией и использования художественных произведений в качестве средства обучения психологии личности и межличностных отношений.
Типы личности и психические расстройства, выделенные психологами и психиатрами в XIX-XX веках, ранее были подробно описаны в художественной литературе. В российской культурной традиции принято высказывать религиозно-философские и психологические идеи в художественных произведениях. Литературные образы активно используются современными психологами в обосновании классификаций личности и иллюстрации психических расстройств.
Ведущим мотивом создания художественных произведений, даже просто интереса к художественному творчеству, по мнению крупных мыслителей, служат душевные и физические страдания. Вполне закономерно, что главные фигуранты теорий, связывающих гениальность с психопатологией – известные писатели, художники и композиторы. Вследствие своего психического состояния создатели художественных шедевров проявляют повышенный интерес и чрезвычайно чувствительны к негативным сторонам действительности. Герои их произведений, чьи переживания они скрупулёзно описывают, обычно плохо адаптированы в обществе, это так называемые лишние люди и криминальные элементы. Создание и восприятие художественных произведений – в определённом смысле спонтанная психотерапия, и в ней интересно проследить специфику действия психотерапевтических факторов.
Экзистенциализм и психоанализ во всех своих ветвях, а также понимающая психология – философско-психологические концепции, оказавшие в ХХ веке наибольшее влияние на художественное творчество и одновременно составляющие основу психотерапевтической практики. Философы-экзистенциалисты Ж.-П. Сартр и А. Камю высказывали свои философские и психологические идеи в художественной форме, в их творчестве философско-психологический трактат и художественное повествование слились воедино. В анализе художественных произведений литературный критик должен вчувствоваться в образы, выявить скрытые мотивы персонажей и самого автора, раскрыть систему их отношений к действительности. То есть в своей методологии он руководствуется положениями понимающей психологии, уподобляется психологу экзистенциально-гуманистической направленности и психоаналитику.
Психотерапевты и клинические психологи напрямую сосредоточены на болезненных аспектах человеческих взаимоотношений и изучении переживаний лиц с психическими нарушениями. Помощь таким субъектам они избрали своей профессией. Если художественные таланты в создании своих произведений спонтанно испытывают действие факторов психотерапии, то путь психотерапевтов противоположен. Литературу и искусство они заведомо используют в качестве психотерапевтического средства. Писатели в повестях и романах проигрывают волнительные эпизоды с участием противоречивых персонажей в виртуальном плане. Психотерапевты и психологи-консультанты заняты тем же, но с реальными людьми, своими клиентами, в процессе арт-терапии. Мотивы деятельности представителей писательского цеха и психотерапевтического сообщества, по сути, совпадают. Психотерапия тоже искусство.
На фоне значимых совпадений неизбежно возникает вопрос о психическом здоровье самих целителей. Здесь, по многим свидетельствам, дело обстоит не так благополучно, как может показаться непрофессионалу. Нетрудно догадаться, что изучение психологии и психиатрии, проведение психотерапии с клиентами одновременно стабилизирует и психическое состояние целителей. В этом самолечении имеют место важные закономерности, подлежащие в нашем труде должному рассмотрению. Общность мотивов приобщения к художественному творчеству и психотерапии позволяет считать психологический анализ художественных произведений органичным методом обучения психологии личности. Во избежание догматизма руководствоваться при этом следует разными личностными теориями. Принципы такого анализа подробно проиллюстрированы на модели творчества выдающегося кинорежиссёра Ингмара Бергмана.
Сложнейшая проблема состоит в том, что представляют собой современные теории личности и психотерапевтические концепции: подлинно научные теории или в большей мере помогающие упорядочить представление о действительности мировоззренческие системы, даже вероучения. Ведь нельзя не удивиться противоречивости основных теорий личности и психотерапии. Только углубление в эту проблему раскрывает причины мистификации психологии, помогает понять, почему в психологических тренингах нередко присутствует дух сектантства, а свои обыденные толкования психологи беспрестанно выдают в СМИ за психологические истины. Наконец, становится возможным объяснить зарождение и живучесть тренингов личностного роста, несмотря на громкие разоблачения их криминальной подоплёки.
Монография написана на основе многолетнего опыта подготовки психологов по специальности психологическое консультирование, преподавания студентам, пожелавшим получить второе высшее образование. Некоторые главы дублируют лекционный курс, в дидактических целях в обсуждении проблем имеются повторы.
Глава 1
Литераторы и психологи: взаимопроникновение профессий
Литераторы в роли психологов
В культурной традиции России прослеживается теснейшая взаимосвязь художественного творчества и философско-психологических изысканий. В ХIХ – начале ХХ вв. философские и психологические идеи высказывались главным образом в художественных произведениях, особенно в литературе и литературной критике. Произведения Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, М. Горького, А.А. Блока, В.В. Розанова впечатляют философско-психологическими озарениями.
Найти объяснение взаимосвязи философии и литературы стремились революционно настроенные литературные критики-демократы: В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский писал: «Философ говорит силлогизмами, поэт – образами и картинами, а говорят они одно и то же». По мнению Белинского и его последователей, Чернышевского и Добролюбова, литература и искусство служат познанию действительности, в них выражается отношение людей к жизни. Чернышевский называл искусство «учебником жизни», видел в познавательной функции искусства его высшее предназначение. Но этой же цели, только в более абстрактной форме, служат философия и психология, представляя кладезь премудрости. Чрезвычайно высокий статус в России писателей Н.Г. Чернышевский (1828-1889) объяснял тем, что в ХIХ веке литература являлась единственным общественным форумом и возмещала отсутствие философии и социологии.
На понимание и интерпретацию произведений литературы и искусства во все времена оказывали влияние философские и социально-политические взгляды специалистов в области художественного творчества, их представление о нравственности, а также их характер. Особенно перечисленные факторы сказывались в психологической оценке конкретных персонажей художественных произведений, о них критики порой высказывали диаметрально противоположные мнения. Каждый специалист использовал при этом собственную классификацию личностей, основанную на его жизненном опыте и мировоззрении.
В своё время В.Г. Белинский (1811-1848), первый революционный демократ-разночинец, назвал роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни, сугубо народным произведением. Крупный литературный критик доказывал, что в душе Онегина жила поэзия, а озлобленный ум этого персонажа – признак высшей натуры. Онегина якобы душат бездеятельность и пошлость обыденной жизни. Белинский называет его страдающим эгоистом, эгоистом поневоле. Татьяна, в глазах Белинского – глубоко любящее существо, её внутренний мир заключается в жажде любви.
Писарев (1840-1868), другой одарённый литературный критик и политический деятель, прагматически настроенный социолог и пропагандист дарвинизма, полемизировал с В.Г. Белинским. Татьяну он воспринимал как существо, испорченное чтением романтических книжек, с болезненным воображением, не усматривал в ней никаких достоинств. Её письмо к Онегину считал сумасбродным поступком, доказывающим отсутствие у неё ума, а не способность к глубоким любовным чувствам. В образе Онегина Писарев увидел аморального бездельника, не имеющего права презирать окружающих и возвышаться над ними. «Человек так устроен от природы, – писал Писарев, – что не может постоянно обжираться, упиваться и изучать “науку страсти нежной”. Самый крепкий организм надламывается и утомляется». Скука Онегина, по его убеждению – результат беспорядочной жизни, и посещает такая скука каждого на следующий день после хорошей попойки. В кармане у Онегина, подчёркивает критик, шальные деньги, которые дают ему возможность вести роскошный образ жизни и «корчить всякие гримасы». Писарев уверен, что люди, подобные Онегину, всегда останутся в эмбриональном состоянии и не превратятся в мыслящих существ. Он пишет: «Отнимите у российского Фауста бумажник, и он тотчас сделается тише воды, ниже травы, скромнее красной девушки. Вместе с вспышками демонической натуры пропадёт и роковая скука. И демонизм Онегина также сидит в его бумажнике. Как только бумажник опустеет, так Онегин тотчас пойдёт в чиновники и превратится в Фамусова». Отмечая поэтическое достоинство романа «Евгений Онегин», Писарев в соответствии со своим мировоззрением не видел в нём никакой нравственной пользы, а Онегина уравнивал «с самыми презренными людьми презренной толпы».
Острая полемика развернулась вокруг образа Чацкого, главного персонажа комедии А.С. Грибоедова (1795-1829) «Горе от ума» (1824). Одним из первых отрицательно высказался об образе Чацкого А.С. Пушкин. В письме в 1825 году к А.А. Бестужеву он отказал Чацкому в уме за то, что тот распыляется перед обществом не понимающих его людей. Белинский полагал, что горе Чацкого не от ума, а от умничанья, склонялся к тому, что Чацкого справедливо сочли безумцем. В критической статье «Горе от ума» (1839) он попытался ответить на вопрос, можно ли считать Чацкого глубоким человеком: «Это просто крикун, фразёр, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий всё святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами – значит быть глубоким человеком? <…> Это новый Дон Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади. <…> …пытается доказать некие высокие идеалы людям приземлённым и далёким вообще от понимания подобных идеалов». Поэт и литературный критик П.А. Вяземский в статье «Заметки о комедии “Горе от ума”» (1873) полностью соглашается с В.Г. Белинским: «Чацкий является каким-то Дон Кихотом, который сражается с ветряными мельницами. <…> …приходишь к заключению, что Чацкий при всём остроумии своём смешон и жалок, потому что ничего нет смешнее и жалче, чем расточать удары на воздух. Мы из комедии видим, что Чацкий желчен и раздражителен, что он ругает всех и всё, что только на глаза попадается. Но мы не видим, чего бы он хотел и какого держится он исповедания по вопросам нравственным и общественным». Совершенно противоположного мнения об образе Чацкого придерживался поэт, литературный и театральный критик Аполлон Григорьев. В статье «По поводу нового издания старой вещи» (1862) он пишет: «Пушкин провозгласил его неумным человеком, но ведь героизм-то он у него не отнял, да и не мог отнять. <…> Чацкий прежде всего – честная и деятельная натура, причём ещё натура борца, то есть натура в высшей степени страстная». Мнение Аполлона Григорьева разделяет писатель-классик И.А. Гончаров в критическом этюде «Миллион терзаний» (1873): «…Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом – это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он “чувствителен и весел, и остер”. Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те – паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь “ум”».
Выдающийся русский писатель И.С. Тургенев (1818-1883) в статье «Гамлет и Дон Кихот» (1860) выступает в роли психолога и представляет свою типологию людей. Прообразом одного типа, согласно его классификации, служит Дон-Кихот, герой одноимённого произведения М. Сервантеса. Прообразом другого типа в этой классификации служит принц Гамлет, герой одноимённого произведения В. Шекспира.
Тургенев считает основной чертой Дон Кихота незыблемую веру в истину, находящуюся вне отдельного человека и требующую служения и жертв. Дон Кихот живёт для других, для истребления зла, ему свойственна готовность к самопожертвованию. Он чужд тщеславию, в нём нет эгоизма, его отличает скромность и величие духа. Тургенев признаёт, что многим Дон Кихот кажется всего лишь безумцем, вступающим в битву с призрачными врагами. Но некоторая комичность персонажа не должна, по убеждению писателя, заслонять скрытый смысл образа. Он утверждает: «Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование». Одновременно в статье отмечается и ограниченность Дон-Кихота, недостаток у этого персонажа знаний. Однако, по мнению Тургенева, такому человеку и не нужно много знать. Дон Кихот «знает, в чём его дело, зачем он живёт на земле, а это основное знание».
Гамлет – полная противоположность Дон Кихоту. Он эгоист и не находит во всём мире предмета своего интереса. Ему свойственен скепсис и сомнения во всём, поглощённость рефлексией, бесконечная возня с самим собой. Гамлет, по словам Тургенева, с наслаждением бранит себя, постоянно наблюдает за собою, вечно глядя внутрь себя. Он упивается презрением к самому себе и одновременно тщеславен, испытывает полное превосходство над окружающими, которых тоже презирает. Гамлет, по мнению Тургенева, не знает, чего хочет и зачем живёт, и если бы сама воплощенная истина предстала перед глазами этого персонажа, то он не решился бы поручиться в её присутствии. Скорее, совсем усомнился бы в существовании истины. Тургенев пишет: «Гамлеты точно бесполезны массе; они ей ничего не дают, они её никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут». Вывод писателя таков: главное отличие Дон Кихота от Гамлета – это искренность и сила убеждений. Тургенев уверен, что в каждом из нас в какой-то мере живёт либо Дон Кихот, либо Гамлет. Он сетует на то, что Гамлетов стало гораздо больше, чем Дон Кихотов. Всякий хотел бы, по его наблюдениям, прослыть Гамлетом, но никому не хочется заслужить прозвище Дон Кихота.
Психологи и психиатры как литературные критики
С разработкой в психологии теорий личности психологические концепции стали систематически использоваться в углублённом толковании произведений искусства и литературы. К тому времени увеличилось количество литературных произведений, персонажи которых отличались сложным внутренним миром, склонностью к рефлексии, их поступки трудно поддавались объяснению с обыденной точки зрения, они страдали от внутренних противоречий, плохо понимали самих себя. Таковы, например, персонажи произведений Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. В свою очередь, лучшие художественные произведения стали богатым источником обоснования самих психологических учений.
Самобытный отечественный психолог и врач А.Ф. Лазурский (1874-1917) разработал оригинальную классификацию личностей, которую в монографии «Классификация личностей» (1923) обильно проиллюстрировал персонажами из русской классической литературы. Каждый персонаж с позиций своей теории личности он подвергает глубокому анализу. Рассудочный тип низшего психического уровня иллюстрирует, например, персонажем из рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре». Учитель греческого языка Беликов склонен к бесконечным бесплодным рассуждениям, мысли его неоригинальны, он всегда руководствовался только циркулярами и газетными статьями, выписывал запреты и предостережения, старался перестраховаться на все случаи жизни.
В душевной жизни аффективного типа низшего психического уровня, по Лазурскому, преобладают органические наслаждения и элементарные чувства, он жаждет внешних впечатлений, любит шумное светское общество, внешний блеск, роскошь. По отношению к людям этот тип добродушен и незлопамятен. В пример Лазурский приводит обворожительную княгиню Болконскую, жену князя Андрея, чувствовавшую себя глубоко несчастной в обществе его сестры Марии, самоуглублённой и замкнутой, и деспотичного свёкра («Война и мир» Л.Н. Толстого). Мария в классификации Лазурского относится к человеколюбцам, альтруистам среднего психического уровня. Свою молодость она провела в деревне из чувства долга и сострадания к старику-отцу, без неё он остался бы в полном одиночестве. Смысл жизни княжна Мария видит в самопожертвовании и служении людям. По мнению Лазурского, альтруисты несамолюбивы, скромны, обладают богатым внутренним миром, склонны к самоуглублению. К альтруистам Лазурский относит и Алёшу Карамазова из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского.
Извращённые типы, согласно Лазурскому, представлены на всех уровнях психического развития, но наиболее очевидны они на низшем уровне. К аффективно-извращённому типу низшего уровня относится в его классификации каторжанин Скуратов из произведения Ф.М. Достоевского «Записки из мёртвого дома». Скуратов исполняет роль добровольного шута, над ним все потешаются и его презирают, он, однако, дорожит своей ролью. Извращённых типов среднего уровня Лазурский разделяет на неудачников и преуспевающих. К энергично-озлобленным неудачникам он относит Долохова из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Душевные силы этого персонажа, не получившие адекватного приложения, вырождаются в бесшабашность и дерзость, неуважение к окружающим, его самообладание направлено на асоциальные выходки и затеи. К преуспевающим лицемерам Лазурский относит Молчалина, персонажа комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Такие люди, как Молчалин, формируются, по убеждению Лазурского, в среде, где поощрение и наказание служащих осуществляется не за реальные заслуги и просчёты, а по произволу хозяев, их минутной прихоти и капризу. В качестве второй причины формирования лицемеров указывается общая атмосфера притворства и недобросовестности в обществе, в котором собственная выгода и наслаждение чуть ли не единственная цель в жизни.
К представителям высшего уровня Лазурский относит гениев, создающих новые ценности, и указывает на реальные личности. Среди первооткрывателей в познавательной сфере он называет Чарльза Дарвина, Рене Декарта, Джордано Бруно; к великим альтруистам относит Будду, педагога-демократа Песталоцци, социалиста-утописта Роберта Оуэна, а к представителям, воплотившим идеал красоты, – А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Иоганна Гёте, Людвига Бетховена и Фредерика Шопена. Особенностью извращений у личностей высшего уровня, полагает Лазурский, является их частичность, не затрагивающая всей личности. Он отмечает чрезмерный индивидуализм и развращённость знаменитого английского поэта Байрона, не помешавших его величайшим творческим достижениям, упоминает о деспотизме выдающихся государственных деятелей, Иоанна Грозного и Петра Великого.
Таким образом, в своём творчестве А.Ф. Лазурский выступает не только как психолог, но также как литературовед и литературный критик.
На рубеже ХIХ-ХХ веков многие из российских психиатров учились или специализировались в Германии и находились под влиянием учения В. Дильтея. Известные психиатры И.А. Сикорский (1845-1918), В.Ф. Чиж (1855-1922), Н.Е. Осипов (1877-1934) и другие были убеждены в ограниченности эмпирической психологии, основывающейся на экспериментальных исследованиях. В клинических исследованиях, с их точки зрения, следовало опираться на методологию гуманитарных наук, изучать пациента как индивидуальность во всей полноте его жизни, ибо клиническая картина заболевания зависит от смыслового содержания душевной жизни. Влияние В. Дильтея сказалось и на особом интересе психиатров того времени к художественной литературе. С другой стороны, с позиций философского учения С.Л. Франка, этот интерес объясняется исконным тяготением отечественных мыслителей к онтологической психологии.
Данному периоду в психиатрии и психологии посвящена статья И.Е. Сироткиной «Литература и психология: из истории гуманитарного подхода» (1998). В своём исследовании автор опирается на редкие библиографические источники, и богатство представленного библиографического материала допускает, естественно, несколько иные акценты в его интерпретации, не обязательно схожие с теми, что делаются в статье.
Сироткина полагает, что гуманистический подход к изучению психологии человека зародился в России в конце ХIХ – начале ХХ вв. и первоначально нашёл, по её словам, убежище в литературе. В подтверждение приводятся высказывания ведущих психиатров того времени. И.А. Сикорский писал: «Для психиатра художественная литература составляет истинную настольную книгу его профессии». Н.Н. Баженов восхищался тем совершенством, с каким Ф.М. Достоевский рисовал картины различных видов душевных и нервных болезней: «… можно прямо взять его описания и типы и иллюстрировать любое современное руководство по психиатрии». В.М. Бехтерев видел заслугу Достоевского и в том, что этот писатель ознакомил широкую публику с душевными болезнями, «приблизил их к народной душе». В.Ф. Чиж сравнил опытного психиатра с художником-портретистом из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», такой врач тоже способен проникнуть в глубины человеческой души. Не случайно поэтому, по его мнению, С.П. Боткин и Н.И. Пирогов были художниками слова, а французский психиатр Жан Шарко прекрасно рисовал. Психиатр М.О. Шайкевич придавал большое значение в познании индивидуальным особенностям интуиции человека, считал душевную деятельность по самой природе таковой, что «без чувственного познания посредством образов многое остаётся недоступным для традиционных научных методов, и интуиция, художественное творчество будут ещё долго снабжать психиатров ценным материалом».
Раздел статьи, откуда почерпнуты приведенные цитаты, озаглавлен, на наш взгляд, не вполне удачно. Заглавие «Литература как дополнение к экспериментальной психологии» не отражает содержания раздела, в котором речь идёт о преклонении психиатров перед художественным творчеством писателей-классиков. Автору статьи, знатоку истории психиатрии и глубокому исследователю, наверняка хорошо известно, что основными методами в клиническом обследовании психически больных издавна являются опрос и наблюдение. Эксперимент в постановке диагноза не играет существенной роли и используется крайне редко. В последние полвека в отечественной психиатрии получило распространение патопсихологическое обследование больных, но и сегодня не все психиатры придают существенное значение результатам этого обследования в постановке диагноза. Кстати, в статье упоминается о скептическом отношении психиатра Н.Е. Осипова к психологическому тестированию, пространные результаты которого он сравнивал с предсказаниями гадалки. Содержание первого раздела статьи сводится, по сути, к тому, что персонажи многих художественных произведений – психопатические личности и удивительно достоверно изображены с позиций психопатологии. Видные психиатры рекомендуют своим коллегам учиться у классиков художественной литературы искусству клинического описания. Раздел в соответствии с его содержанием можно, пожалуй, было бы озаглавить так: «Литературные персонажи как образец клинического описания». Хотя такое заглавие звучит слишком откровенно, однако и автор статьи считает, что своими высказываниями психиатры добивались «признания за научной психологией равных с литературой возможностей». Ведущие психиатры, как нам представляется, возводят своими высказываниями писателей-классиков в разряд идеальных представителей собственной профессии, сближают свою профессиональную деятельность с писательским мастерством.
С этой точки зрения, не удивительны дискуссии психиатров вокруг самых известных литературных образов. Диагностические споры развернулись, например, вокруг образа Гамлета: одни сочли его всего лишь неврастеником, другие утверждали, что всё гораздо серьёзней, диагностировали у него «односторонность развития, ущербность воли, недоверие к собственным силам», т. е. признаки вырождения в терминологии тогдашней психиатрии. Весьма показательно заглавие статьи психиатра А.М. Кремлёва «Можно ли назвать Гамлета дегенератом» (1904), оно не может не вызвать улыбку, а кого-то из литературоведов, ломающих голову над этим сложным образом, вероятно, повергнет в гнев. К образу Дон Кихота психиатры проявили более лояльное отношение. М.И. Коноров в статье «Дон Кихот как цельная патологическая личность» (1906) высказал мнение, что болезнь этого персонажа «не перешла в стадию психической слабости и закончилась светлым промежутком».
Особое место в художественной литературе занимают повествования о явном безумии, душевнобольные персонажи. Один из них герой рассказа писателя В.М. Гаршина «Красный цветок» (1883), пациент психиатрической лечебницы, вообразивший, что всё зло мира сосредоточилось в красном цветке мака, напитавшегося кровью обездоленных. Пациента обнаруживают мёртвым во дворе больницы с этим цветком на груди, погибшим в бредовых измышлениях о борьбе со злом. Психиатрическая экспертиза «Красного цветка» представляется, конечно, вполне обоснованной. И.А. Сикорский в данном случае постарался быть объективным и пришёл к выводу, что Гаршин «абсолютно верно описал многие симптомы маниакального возбуждения, смену нормального и болезненного состояний, бредовые ассоциации». Рассказ вызвал множество положительных откликов, его сочли призывом к гуманизму. Критики и читатели, из самых тёплых побуждений, сравнивали писателя и с созданным им персонажем, и с Дон Кихотом. Гаршина сравнивают не только с Дон Кихотом, но и с Гамлетом. Современный английский исследователь П.А. Генри, интересующийся связью диссидентства в России с душевными заболеваниями, написал монографию «Всеволод Гаршин – Гамлет своего времени. Его человеческие качества, труды и окружение» (1983). Данное заглавие свидетельствует, что между Гамлетом и Дон Кихотом не такая уж непроходимая пропасть, и психиатрическая диагностика весьма условна. Сам Гаршин страдал тяжёлым психическим заболеванием, потому вопросов о происхождении главного персонажа «Красного цветка» не возникало.
Совсем другое дело, когда писатель, не страдающий изображённым психическим расстройством, точнейшим образом описывает это расстройство, опережая выдающихся психиатров. В своей монографии «Тургенев как психопатолог» (1899) видный психиатр В.Ф. Чиж отмечает, что изображение патологических явлений занимает существенное место в произведениях великих писателей. Он особо выделяет Тургенева, считавшего «сумасшествие вовсе не случайным обстоятельством, которым романист пользуется по произволу». Тургенев, по мнению Чижа, блистательно проявил себя как психопатолог в ряде произведений, в частности в рассказе «Отчаянный» (1881). Психиатр заявляет: «Мы должны быть благодарны Тургеневу за то, что он объяснил нам, что за люди – отчаянные, объяснил, почему их жизнь так отличается от той, которой живёт окружающее их общество. Нам дан не только поразительно верный портрет, но и вполне объяснены причины, порождающие отчаянных».
В рассказе «Отчаянный» образ главного героя рисует его родной дядя, когда в компании разговор зашёл о бесшабашных, отчаянных людях. До 18-летнего возраста, до смерти родителей, его племянник Миша был примерным юношей. Потеряв родителей, неожиданно продал за бесценок имение, начал неистово кутить и в два месяца докатился до нищеты, стал жить на подаяния родных. Первоначально постоянно менял род занятий: то ушёл в монастырь, то поступил юнкером на Кавказ. Нигде, однако, не мог приспособиться и опустился до бродяжничества, предпочитал общество бездомных, таких же опустившихся нищих людей. Как ни пытался дядя вызволить его из катастрофического положения, ничего не получалось.
Демонстрировал Миша и чудачества, граничащие с юродством. Имея пристрастие к картёжной игре, ставил на кон самоповреждение и как-то, проиграв, прострелил себе руку. Ради бесплатной выпивки с риском для жизни прыгал на спор в овраг. Совершал и совсем низменные поступки. Поставил алюминиевую кружку в Дворянском собрании и предлагал щёлкнуть его, столбового дворянина, по носу, пожертвовав за это рубль. Женщины Мишу мало интересовали, хотя благоволили к нему. Женился он на дочери дьячка, отличавшейся добрым нравом, и перешёл под конец жизни на содержание тестя, даже пить бросил.
Чиж восхищается тем, что Тургенев изобразил в своём рассказе все признаки вырождения, опередив знаменитого итальянского психиатра Чезаре Ломброзо (1835-1909). Среди этих признаков: неудержимая потребность в алкоголе, неспособность к труду и приспособлению к социальной среде, страсть к азартным играм и склонность к бродяжничеству, равнодушие к противоположному полу. Психиатру, по словам Чижа, и добавить нечего. Даже внешности Миши Тургенев приписал особенности, которые позднее Ломброзо выделил как признаки вырождения.
Дядя Миши недоумевал по поводу перерождения своего племянника. Отец Миши был старозаветный помещик, богобоязненный и степенный человек. Его мать – высокообразованная женщина, всецело поглощённая заботой о сыне. С отцом, правда, порой случались эпилептические припадки. Мать отличалась нервозностью: то пребывала в восторженном настроении, то предавалась меланхолии. Получалось, что наследственность героя рассказа отягощена со стороны обоих родителей.
Для Чижа эти детали были крайне важны. Подтверждали его убеждение, что не воспитание, а неблагоприятная наследственность играет решающую роль в возникновении психических заболеваний и в преступном поведении. Наш герой объяснял, тем не менее, причину своих пороков совсем иначе. И здесь тоже Тургенев исключительно проницателен. Дядя неоднократно спрашивал Мишу, «какой злой дух заставляет его пить запоем, рисковать жизнью». И Миша отвечал: «Тоска!» Дядя пытался уточнить: «Да отчего тоска?» – «Как, помилуйте! Придёшь, этаким образом, в себя, очувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России… Ну – и кончено! Сейчас тоска, хоть пулю в лоб! Закутишь поневоле». Некоторые вырождающиеся субъекты, как пишет Чиж, действительно имеют мрачное настроение, которое они называют тоской, и заглушают его алкоголем или морфием. При этом они объясняют своё пьянство возвышенными мотивами, когда причина его в неблагоприятной наследственности, их «патологической организации».
При спокойном состоянии общества субъекты, подобные Мише, по мнению Чижа, относительно безвредны. В эпоху брожения, напротив, могут представлять значительную опасность. Свою тоску они склонны объяснять общественным строем и для достижения неосуществимых идеалов готовы рисковать жизнью: «Жизнь для них, вследствие их патологической тоски, не имеет особой прелести, сознание их узко и всецело поглощено ограниченным кругом представлений».
В монографии о Тургеневе Чиж называет Тургенева пророком, впервые объяснившим безумные убийства, совершённые террористами. Он также приветствует начинание итальянского психиатра Ломброзо и его учеников, занявшихся изучением политических преступников и объяснивших нам, что «жажда истребления, тоска, неудовлетворённость» некоторых анархистов обусловлена их психопатологией. Тем самым В.Ф. Чиж косвенно высказался и о донкихотстве.
В раскрытии темы «Литература и психопатология», в объяснении закономерности создания писателями психопатических персонажей и пристрастии психиатров к психодиагностике этих персонажей существенное значение имеют два понятия: «психопатия» и «вечные образы» мировой литературы. Под психопатией в ХХ веке понимали врождённые и стойкие аномалии характера, патологический склад личности, препятствующий нормальной адаптации. Термин «психопатия» ввёл в 1891 году немецкий психиатр Юлиус Кох (1841-1908), чтобы смягчить широко используемый ранее диагноз «нравственное помешательство», подразумевавший преступность личности. Психопат, по Коху, вовсе не обязательно преступник.
Понятие «нравственное помешательство» сформулировал в 1835 году английский врач Джеймс Причард (1786-1848), имелась в виду патологическая склонность к нарушению моральных норм при относительной сохранности интеллекта. Это понятие глубинным образом связано с несоблюдением библейских заповедей и представлением о грехопадении, с выделением богословами по Библии семи смертных грехов (VI век, папа Григорий I): гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, уныние (леность). Большинству психопатов свойственны такие черты характера, как завышенная самооценка, эгоизм, жадность, бессовестность, лживость, леность, неспособность к сопереживанию. Эти черты вызывают общественное осуждение и затрудняют адаптацию в социуме. Среди населения психопатов насчитывается 1-2%, среди преступников их гораздо больше, около 25%. В последние десятилетия, с возрастанием толерантности, вместо травмирующего диагноза психопатия ставится диагноз «специфическое расстройство личности», используется также синонимичное понятие «пограничное расстройство личности». Свидетельства о постоянно увеличивающемся количестве психических заболеваний недостаточно достоверны. Многое зависит от тщательности диагностических процедур и определённости диагностических критериев, а также от применяемых статистических методов.
Теперь обратимся к так называемым вечным образам в мировой литературе. Образы называются «вечными» потому, что в созданных персонажах писатели мастерски обрисовали черты, отличающиеся устойчивостью и свойственные людям и литературным персонажам в последующих поколениях. Нетрудно убедиться в том, что это в основном отрицательные персонажи. Названия комедий Ж.-Б. Мольера (1622-1633) говорят сами за себя: «Скупой», «Тартюф, или Обманщик», «Мизантроп». Собратья Гаргапона по скупости из пьесы Мольера «Скупой»: Шейлок из «Венецианского купца» В. Шекспира, барон Филипп из «Скупого рыцаря» А.С. Пушкина, Гобсек из одноимённой повести О. Бальзака. Персонажи, имена которых стали нарицательными в обозначении лживости и бахвальства: Мюнхаузен из произведения Карла Мюнхаузена «Приключения Мюнхаузена в России», Хлестаков из «Ревизора» и Чичиков из «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя, легендарный Остап Бендер – главный герой «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка», сатирических романов И. Ильфа и Е. Петрова. Персонажи, символизирующие похотливость: Ловелас из «Клариссы Гарлоу» С. Ричардсона, Казанова из «Истории моей жизни» Джакомо Казановы, Дон Жуан и Лолита из одноимённых произведений Ж. Мольера и В. Набокова. Персонажи, поглощённые гордыней: Раскольников из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, Печорин из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова, Ларра из «Старухи Изергиль» М. Горького.
У всех перечисленных персонажей очевидны признаки психопатии. Отечественный психиатр П.Б. Ганнушкин (1875-1933) в качестве одного из основных признаков психопатии выделил тотальность патологических черт личности, определяющих весь психический облик. Он, как и французский психиатр Б. Морель (1809-1875), отмечал, что психопатические черты относительно стабильны и не поддаются коррекции, поскольку в большинстве случаев наследственно обусловлены, передаются из поколения в поколение. В 1857 году классик психиатрии Б. Морель, посвятивший свои труды проблеме наследственности, писал, что нравственно неполноценные субъекты это «конституционально запятнанные люди, и дегенеративное клеймо будет их сопровождать от колыбели до могилы и тяготеть над всей их личностью». Интерес психиатров к литературе, вечным образам в ней, следовательно, вполне закономерен. В отрицательных персонажах, ставших нарицательными, художественно изображены психопатические личности, которые составляют предмет изучения в психиатрии. При создании писателями отрицательных персонажей прообразами зачастую выступают явные психопаты, особенно в криминальных романах. Интересы писателей и психиатров тем самым пересекаются, их познания взаимно обогащаются.
Мастерство писателя заключается в том, что пороки отрицательных персонажей доводятся до комичности, при всей кажущейся хитроумности этих персонажей их идеалы выставляются как заслуживающие не только осуждения, но и осмеяния. В свою очередь, наиболее популярные классификации личностей созданы психиатрами и психотерапевтами на основе анализа клинических случаев, личностей с психопатологией.
Положительные персонажи в статусе вечных образов обычно не столь чётко проработаны, как персонажи отрицательные. Им обычно свойственны всяческие странности и обречённость. Базаров, герой романа «Отцы и дети», подавлял в себе любовные чувства, Рахметов из романа «Что делать?» спал на гвоздях, а Мартин Иден, созданный Джеком Лондоном по своему подобию, покончил жизнь самоубийством. Положительные литературные герои менее дифференцированы потому, что легче понять, чего не следует делать, чем составить представление о должном поведении в сложных жизненных обстоятельствах. Воспитание в большей мере строится на отвержении отрицательных образцов поведения, нежели на утверждении определённых идеалов. Если положительный герой – безукоризненная личность без некой двойственности и противоречивости, о нём обычно слагаются анекдоты. В любом случае о вечных образах можно говорить как о звеньях, связывающих разные эпохи, помогающих понять людей давних времён, почувствовать единение с ними в представлении о жизни и литературе. Прежде всего, вероятно, в представлении об отрицательных явлениях жизни. Недаром библейские заповеди веками сохраняют свою значимость.
С начала ХХ века интерес психологов к художественному творчеству только возрастал. Одновременно литература и искусство всё непосредственнее и активнее стали использоваться в выражении определённых философских и психологических идей. Если для А.Ф. Лазурского и психиатров начала ХХ века как положительные, так и отрицательные художественные образы служили в основном иллюстрацией их идей, то представители психоанализа и философы-экзистенциалисты пошли гораздо дальше. Огромный вклад в развитие психологии искусства внесли психоаналитики. Они не только усмотрели в созданных писателями и художниками образах проекцию их личных проблем, т. е. обратились к биографическому методу в анализе художественных произведений, но в самом происхождении искусства видели подтверждение теоретических положений психоанализа. Философы-экзистенциалисты изложение философских и психологических постулатов своей системы в художественных произведениях вообще возвели в принцип, грань между философски-психологическим трактатом и литературным произведением для них перестала существовать. Об этом речь пойдёт в следующей главе. Здесь достаточно указать на работы Зигмунда Фрейда «Достоевский и отцеубийство» и «Леонардо да Винчи. Воспоминания детства»; на роман Жан-Поль Сартра «Тошнота» и повесть Альбера Камю «Посторонний».
Отдельная сложная проблема – то общее, чем характеризуются личности создателей художественных произведений и специалистов в области психопатологии и психотерапии, психиатров и клинических психологов, детерминанты, определяющие сходство их интересов.
Изложенный материал позволяет прийти к определённым выводам и наметить темы, заслуживающие дальнейшего обсуждения.
Выводы
• Отрицательные образы в классических произведениях художественной литературы, как правило, совпадают с психопатическими типами, выделенными психиатрами на основе клинических наблюдений.
• Статус вечных образов обретают в основном отрицательные персонажи мировой классики. Их имена сохраняются как нарицательные в течение столетий, потому что психопатические черты наследуются и остаются неизменными в последующих поколениях. Эти образы фактически слжат предостережением от нарушения библейских заповедей.
• Психопатический склад известных персонажей художественных произведений актуализирует изучение их воздействия на читателей и зрителей в социально-психологическом, этическом, эстетическом и любом другом аспекте.
• Писатели-классики во все времена были великолепными психологами. В XX-XXI веках интерес философов и психологов к художественному творчеству значительно возрос. В экзистенциальной философии стёрлась грань между философско-психологическим трактатом и художественным произведением. Философы экзистенциальной направленности систематически излагают свои идеи в художественной форме.
• Общность интересов представителей художественного творчества и специалистов в области психологии и психиатрии позволяет предположить определённую схожесть их личностей, некую одинаковость мотивов профессиональной деятельности, в том числе мотивов бессознательных.
Список литературы
1. Белинский В.Г. Статьи о Пушкине/В.Г. Белинский. – М.: Художественная литература, 1974. – 192 с.
2. Гаршин В.М. Рассказы и сказки/В.М. Гаршин. – М.: Омега, 2017. – 192 с.
3. Лазурский А.Ф. Классификация личностей/А.Ф. Лазурский. – М.: Госиздат, 1923. – 368 с.
4. Писарев Д.И. Пушкин и Белинский/Д.И. Писарев. – Москва-Петроград: ОГИЗ, 1923. – 232 с.
5. Сироткина И.Е. Литература и психология: из истории гуманистического подхода/И.Е. Сироткина//Вопросы психологии. – 1998. – № 6.– С. 75-85.
6. Тургенев И.С. Гамлет и Дон Кихот//Соч. в 12 т. – М.: Художественная литература, 1979. – Т. 12. – С. 193-210.
7. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности// Соч.: в 15 т./Н.Г. Чернышевский. – М.: Гослитиздат, 1949. – Т. 2. – С. 5-92.
8. Чиж В.Ф. Тургенев как психопатолог/В.Ф. Чиж. – М.: Кушнеров, 1899. – 104 с.
Глава 2
Философы экзистенциальной направленности об искусстве и психопатологии
Философия жизни
Философские взгляды Артура Шопенгауэра
Артур Шопенгауэр (1788-1860) – яркий представитель так называемой философии жизни, один из предшественников философов-экзистенциалистов. В философии жизни главенствующее место занимают проблемы смысла, цели, ценностей жизни. Представителей философии жизни в первую очередь интересуют человеческие переживания, они выступают против засилья рационального познания, в познании человеческого существования придают большее значение интуиции, чем интеллекту.
В основе жизни, согласно Шопенгауэру, находится Мировая Воля, или Воля к жизни, непознаваемое, слепое метафизическое начало. Человек, по Шопенгауэру, инструмент иррациональной воли, первоосновы мира, он постоянно колеблется между полюсом мучительных бесконечных хотений как проявлением воли и полюсом скуки. Воля не имеет цели и конца, её невозможно удовлетворить никакими достижениями. Счастье – сиюминутное состояние, оно эфемерно. Если нечего больше желать, в скуке человек пускается во все тяжкие, совершает массу глупостей и предосудительных поступков. В процессе эволюции волевого начала возрастает и его познаваемость, а вместе с ней и боль, которая у человека достигает своего максимума в душевных страданиях. Чтобы помехи воле выразились болезненными ощущениями, необходимо, как пишет Шопенгауэр, их познание, которое само по себе вовсе лишено болезненности. Чем интеллектуальнее человек, тем острее он сознаёт трагизм своего существования. Особенно остро трагизм существования ощущается выдающимися людьми, да ещё поверженными неизлечимым заболеванием.
Предназначение человека, по Шопенгауэру, состоит в отрицании воли. Человек познаёт тёмную сущность воли, и в нём воля в силу своей изначальной свободы обращается против самой себя. Эстетическое созерцание – один из значимых способов отрицания волевого начала и соответственно преодоления страданий. В этом созерцании прекращается рабское служение воле, происходит разрыв мотивационных связей и переход к неутилитарному восприятию вещей, вернее, вневременных идей вещей, их идеальной сущности. Человек полностью растворяется в созерцании и получает удовлетворение от чистого, «незаинтересованного» познания, превращается в «мировое око». Постигнутые чистым созерцанием идеи воспроизводятся в искусстве и философии, области знаний, более близкой, по мнению Шопенгауэра, к искусству, чем к науке. Искусство, по убеждению Шопенгауэра, в очищенном от мотивации виде повторяет структуру мира, раскрывает его прообразы и как интуитивный способ познания стоит выше науки, которая помогает лишь достижению конкретных целей и желаний.
Настоящий художник творчески использует своё страдание от бесконечных хотений, искусно трансформирует его отрицательную энергию в энергию созидания. Он уводит реципиентов своих произведений от сосредоточения на их желаниях, помогает временно освободиться от волевых пут другим людям. При созерцании искусства мы освобождаемся от своих желаний и интересов, от назойливого напора воли, возвышаемся до чистых идей. Искусство вырывает нас из нашей субъективности, из рабского служения воле, переносит в состояние чистого познания. Напор желаний, мука хотения успокаиваются, человек вступает в другой мир. Но большинство людей не обладают способностью долго удерживаться в этом состоянии. Обыкновенный человек не способен на продолжительное, незаинтересованное наблюдение. Каждый извлекает из произведения искусства столько, сколько позволяют ему способности и образование. Хотя художник обретает свободу и преодолевает страдания только в процессе творчества, даже спорадический отказ от жизненных целей с обыденной точки зрения представляется противоестественным и болезненным.
Таким образом, в занятии искусством Шопенгауэр видит возвышенно-целебный способ преодоления страданий, с другой стороны, отмечает, что в самом отстранении от действительности может усматриваться болезненность.
Интуитивизм
Философское учение Анри Бергсона
Многие эстетические концепции и философские воззрения ХХ века восходят к философскому учению Анри Бергсона (1869-1941), представителю философии жизни, философу-интуитивисту, лауреату Нобелевской премии. Взгляды Бергсона на предназначение искусства трудно понять без представления об его философском учении в целом. Жизнь, согласно Бергсону, непрерывность и целостность, единство Духа и материи, постоянное развитие и творчество. Жизнь – нечто иррациональное и вовсе не сводится к биологическим определениям. Бергсон вводит онтологическую категорию «сверхсознание» (или абсолютное сознание) и рассматривает жизнь в качестве творческого потенциала сверхсознания, «жизненного порыва». Жизненный порыв состоит в потребности творчества, в создании всё новых жизненных воплощений. Введение категории сверхсознания позволяет Бергсону говорить о Вселенной (Универсуме) как о живом существе. Тогда развитие Вселенной представляется творческой эволюцией с непредсказуемым исходом, порождением множества новых форм.
Индивидуальное человеческое сознание, по Бергсону, представляет одно из воплощений жизненного порыва, эманацию сверхсознания. В основе философского учения Бергсона лежит описание особенностей функционирования индивидуального сознания через понятие длительности, противопоставление интуиции интеллекту. В «Творческой эволюции» (1907), главном своём труде, Бергсон указывает на необходимость разграничения физического (линейного) времени, используемого в естественных науках и практике, и субъективного времени, которое измерить, по его утверждению, невозможно в силу его динамической непрерывности. Бергсон называет субъективное время длительностью, поскольку в сознании прошлое всегда присутствует в настоящем, а настоящее направлено в сторону будущего. Он даёт следующее определение длительности: «Длительность – это непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя будущее и расширяющееся по мере движения вперёд». Человек, как утверждает Бергсон, ощущает себя живым существом, пока испытывает собственное изменение, изменения же совершаются в длительности. Наша личность, заявляет философ, постоянно меняется, будучи всегда направлена в будущее и сохраняя в себе прошлое. Для сознательного субъекта, по убеждению Бергсона, существовать – значит изменяться, а изменяться – значит создавать себя. В этих рассуждениях легко узнаются идеи, развитые впоследствии философами-экзистенциалистами в духовно-личностном плане.
В процессе творческой эволюции жизнь то разделяется, то отклоняется. Важнейшее её разделение, по Бергсону, бифуркация на жизнь растительную и жизнь животную, а также развитие животной жизни по двум направлениям: инстинкта и интеллекта. Интеллект, как утверждает Бергсон, направлен вовне и необходим человеку для практического приспособления. Он разлагает целостность мира на схожие элементы, оперирует понятиями. В людях и вещах выделяются отдельные признаки, полезные для практического обращения, и к ним приклеиваются словесные ярлыки. Тем самым действительность схематизируется, создаётся её «суррогат», утрачиваются индивидуальность и неповторимость всего сущего. Примером фрагментарного осмысления действительности является понятие физического времени. Интеллекту свойственна статичность и омертвление действительности. Рациональным путём, по убеждению Бергсона, невозможно постичь истинную природу жизни, и интеллект бессилен в познании «живого» в жизни. Так, мы не мыслим реального времени, но проживаем его, поскольку жизнь преодолевает границы интеллекта.
Интуиция в отличие от интеллекта, согласно учению Бергсона, направлена внутрь и служит постижению жизни. Жизнь только тогда постигается в динамике, в своём истинном существе, когда переживается и изнутри ощущается её движение. Если рассудок, по словам Бергсона, как бы умертвляет предметы, то «интуиция схватывает предмет изнутри, и это схватывание есть переживание, есть постижение жизни как таковой, постижение собственно длительности». Он рассматривает интуицию как инстинкт, но инстинкт «бескорыстный», только интуиция и позволяет человеку ощущать жизненность. Посредством интуиции, указывает Бергсон, человек переносится внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нём индивидуального и, следовательно, невыразимого. Дать интуиции точное определение, с точки зрения знаменитого философа, невозможно, потому что её сущность не поддаётся логическому осмыслению.
Бергсон рассматривает интуицию как высшую форму познания, поскольку она направлена на познание духовной жизни. Характеризует её как основу Духа, в известном смысле, как саму жизнь. Перейти от интуиции к интеллекту, по его мнению, возможно, но от интеллекта к интуиции подняться нельзя. Эти формы познания, считает Бергсон, подобно миру животных и миру растений, всегда сопровождают и дополняют друг друга, но не взаимозаменяемы. У человека, однако, как утверждает философ, интуиция почти целиком приносится в жертву интеллекту. Потому человек зачастую утрачивает ощущение подлинности своей жизни. Лишь в особых ситуациях, когда затрагиваются жизненные интересы первостепенной важности, интуиция, по словам Бергсона, освещает человеческое «Я», его свободу, судьбу и место во Вселенной.
В обыденности, согласно эстетическим взглядам Бергсона, искусство выполняет компенсаторную роль возвращения к жизненности, ощущения подлинности собственного существования. Именно в этом его предназначение. В искусстве, утверждает Бергсон, в отличие от философии и религиозного опыта, интуиция является единственным методом познания.
При восприятии художественных образов в художественном творчестве происходит, по мысли Бергсона, как бы смыкание с сущностью мира. Согласно его учению, как уже говорилось, интеллект даёт нам лишь экономно-полезную, практически-упрощённую картину действительности, от нас ускользают индивидуальные особенности вещей, не имеющие практической пользы. Через «занавес» языка, обозначающего виды и роды, мы искажённо воспринимаем не только индивидуальность вещей, но и наши собственные душевные состояния. Любая понятийная фиксация неизбежно оборачивается самообманом. У художников, по мнению Бергсона, соответствующий занавес – «лёгкий, почти прозрачный». Их способ видения действительности адекватен самим вещам. Художники благодаря чрезвычайно развитой интуиции способны схватить движение жизни и суть вещей, «поместиться внутрь объекта», в акте творчества они сливаются с объектами воедино. Бергсон и философию считает скорее искусством, чем наукой, поскольку философия предоставляет целостную, а не фрагментированную картину мира. Одновременно познание средствами искусства лишено утилитарности, сугубо практической пользы. И всё же значимость искусства весьма велика. Уже в ранних работах по эстетике Бергсон высказывает глубокое убеждение, что всякое искусство имеет целью нейтрализацию общезначимых, безликих понятий, скрывающих от нас действительность («Смех», 1900). Оно ставит нас с действительностью лицом к лицу. В искусстве происходит открытие того, что он называет подлинным бытием.
В книге «Два источника морали и религии» (1932) Бергсон трактует предназначение искусства с несколько иных позиций, но тоже в компенсаторном ключе. Можно даже сказать, шире определяет значимость искусства по сближению с жизнью. Он противопоставляет рефлексию, размышления, исполненные страхом смерти и бессмысленностью жизни, мифотворчеству. Акцентирует тот факт, что мифотворческое сознание одухотворяет окружающий мир, наделяет его существами, схожими с нами или существами сверхъестественными, живущими возвышенной жизнью, имеющими божественную природу.
Квинтэссенция эстетических взглядов Бергсона состоит в том, что герои художественных произведений, религиозные символы, преломлённые сквозь мир искусства, создают у человека иллюзию овладения жизнью.
Высказывается Бергсон в «Двух источниках морали и религии» и о закономерностях выбора писателями и художниками темы произведений. В своей терминологии он выражает мнение в чём-то близкое взглядам психоаналитиков. Интуитивное совпадение автора с темой рождает, полагает Бергсон, оригинальную и неповторимую эмоцию, служащую камертоном во всей последующей работе. Эта единственная в своём роде эмоция, по его словам, считалась невыразимой, но хотела себя выразить. Так, мол, создаются гениальные произведения.
По-прежнему актуальна сентенция Бергсона относительно того, что искусство должно быть впечатляющим, наносить удары, сдвигать сознание с привычной для него рефлексивной точки зрения. Художник в своём творчестве, по убеждению Бергсона, должен быть способен к деструктивным усилиям, разрушающим границы между нами и жизнью. Это мнение созвучно популярным ныне воззрениям известного социолога и композитора Теодора Адорно (19031969), призывавшего создавать произведения искусства, ввергающие человека в ужас и выбивающие из привычной колеи, а вовсе не служащие умиротворению и катарсису.
Философское учение Бергсона интерпретируют по-разному. Некоторые историки философии стержнем его учения считают природно-биологическое начало, придерживаются мнения, что на него сильное влияние оказали дарвинизм и схожие концепции биологической эволюции. Другие специалисты отводят главенствующую роль Духовному началу. Правильнее, по-видимому, вторая точка зрения, хотя и первая – не лишена оснований. Существенно, что в построении своего учения Бергсон опирался главным образом на функционирование индивидуального сознания, а в работах зрелого периода приписывал жизненному порыву и творческой эволюции божественное происхождение, оперировал понятием первичной интуиции. Здесь следует упомянуть, что с древних времён мыслители говорили о духовном видении, вдохновении в религиозно-мистическом смысле. Подразумевалась проникновенность божественным духом, снисхождение новых идей на избранных Богом личностей. Сами поэты и художники нередко чтили себя божественными избранниками, носителями Божьей воли.
Эстетические взгляды Бенедетто Кроче
Проблему художественного познания глубоко изучал итальянский философ Бенедетто Кроче (1866-1952), известный специалист в области эстетики. В его трудах решающее значение в создании художественных произведений придаётся интуиции, особенно на начальных этапах творчества. Он разграничивал интуитивное и логическое познание, полагал при этом, что любое познание имеет некое предопределение в психической структуре индивида. Интуитивное познание, согласно воззрениям Кроче, осуществляется посредством создания образов и направлено на индивидуальные особенности предмета, главенствующую роль в нём играет фантазия. Логическое познание направлено на выделение общего в предметах и осуществляется посредством построения концепций, в нём главенствует интеллект. Искусство Кроче рассматривал как интуитивное познание, совершенно автономное от познания логического. Подчёркивал, что в искусстве стирается грань между реальностью и вымыслом, происходит их переплетение. Вмешательство дискурсивного мышления, с его точки зрения, только препятствует художественному творчеству. В качестве важнейших составляющих эстетической интуиции Кроче выделяет экспрессивность и чувственность. Без экспрессии, по его убеждению, нет интуиции: всякая эстетическая интуиция экспрессивна. Заблуждается, по мнению Кроче, тот, кто полагает, что интуитивно чувствует Мадонну Рафаэля и только из-за отсутствия техники не способен её изобразить. На самом деле такой субъект отличается от Рафаэля слабостью и вялостью интуиции, а не мастерством, поскольку интуитивное познание есть познание выразительное. Рафаэль и смог создать нетленное произведение благодаря выдающейся способности к интуитивному познанию, своей исключительно развитой интуиции. Эстетическая интуиция, согласно Кроче, представляет собой именно переживание. Не идея, а чувство питает интуицию: «Сказать, что интуиция лирична, не значит добавить ещё одно определение. Лиричность есть синоним интуиции». Искусство, по определению Кроче, в индивидуальной форме выражает универсум. Каждое конкретное произведение, с его точки зрения, неповторимо, не подлежит никакой классификации, история творения сводится только к «истории души» создателя, выразившего свою интуицию.
Александр Воронский о художественном творчестве
Большой интерес к соотношению рационального и интуитивного начала в создании художественных произведений проявил отечественный литературный критик А.К. Воронский (1884-1937), автор интуитивной концепции художественного творчества. В своей концепции он постулировал гармоничное единство интеллекта и интуиции в творческом процессе, связывал рациональный фактор с деятельностью сознания, а интуицию с бессознательным уровнем психики. Интуицию Воронский понимал традиционно как совокупность представлений и идей, возникших вне логического обоснования. В соответствии со своей концепцией он допускал, что доводы, основанные на интуиции, как в научном, так и в художественном творчестве, впоследствии могут подтверждаться или опровергаться с помощью аналитического рассуждения.
У подлинного художника, по убеждению Воронского, дар интуиции играет главенствующую роль: основная для художника способность к перевоплощению целиком интуитивна, художественные образы создаются преимущественно по интуиции. В пример он приводит всё творчество Л.Н. Толстого, взгляды самого великого писателя на художественное творчество. В частности, подробно разбирает образ художника Михайлова из романа «Анна Каренина», творившего по вдохновению, а не за счёт технического мастерства. В тот период Воронскому как раз пришлось отстаивать свою позицию в полемике с лефовцами и формалистами, вообще отрицавшими интуицию и сводившими художественный процесс к техническому мастерству.
Воззрения Воронского лишены, тем не менее, ясности относительно гармоничного единства интеллекта и интуиции в творческом процессе. Он пишет: «История искусства знает несметное количество случаев, когда художник выражает в своём произведении одно, а логически толкует его иначе: анализ, логика расходятся с интуицией». Иными словами, критик полагал, что художник часто сам не понимает, какие идеи выражает. Иллюстрирует Воронский это положение эпиграфом к «Анне Карениной». И вообще, он убеждён, что гениальный писатель Толстой, обладавший глубоким даром интуиции, постоянно спорил с Толстым – проповедником и мыслителем.
Противоречия в суждениях Воронского объясняются, на наш взгляд, тем, что генезис художественной интуиции он усматривал в рассудочной деятельности. Интуиция, по его мнению, открывает нам истины, уже добытые много лет назад предшествующими поколениями и перешедшими в подсознание. В этом тезисе, возможно, сказывается влияние К. Юнга, его концепции коллективного бессознательного. Воронский, по сути, не видел качественного различия между интуицией художника и учёного. На самом деле интуиция художника идентична эмпатии, познанию внутреннего мира других людей путём вчувствования. Эстетическая интуиция – вчувствование в художественный объект, источник художественного наслаждения, непосредственное усмотрение в нём ценности.
Другой результат исследовательской деятельности Воронского – его теория непосредственных впечатлений. Подлинный художник, согласно его теории, обязан открыть неискажённые образы мира, как бы впервые увидеть мир. В этом, по убеждению Воронского, главное предназначение искусства: «Тайна искусства – в воспроизведении самых первоначальных и непосредственных ощущений и впечатлений». Он полагал, что ценность книг, спектаклей во многом определяется тем, насколько они возвращают человека к ребяческому возрасту. Когда же при восприятии искусства чрезмерно активируется рассудок, эстетическое чувство, по его мнению, исчезает. Одновременно, он утверждает, что художник должен обладать не только тонким эстетическим чувством, но и развитым интеллектом, чтобы глубоко сознавать свою творческую манеру. В конечном итоге Воронский приходит в своей теории к парадоксальному выводу: «Самая “невежественная” манера есть в то же время и самая интеллектуальная (здесь и далее курсив в цитатах мой – А.Б.)». Получается, художник-интеллектуал должен смотреть на мир глазами ребёнка.
Экзистенциализм
Философское учение Мартина Хайдеггера
Экзистенциализм – самое популярное философское направление ХХ века в среде интеллектуалов Западной Европы. Одна из причин этой популярности в том, что экзистенциальные идеи успешно распространялись как философскими трудами, так и произведениями литературы и искусства. Французские философы Габриель Марсель (1889-1973), Жан-Поль Сартр (1905-1980), Альбер Камю (1913-1960) были одновременно известными писателями и проповедовали свои философские идеи в художественных произведениях.
Авторство термина «экзистенция» (лат. existentia – существование) принадлежит датскому философу Сёрену Кьеркегору (1811-1855). Он считал, что предметом философии должна стать духовная жизнь личности, недоступный наблюдению внутренний мир человека, его переживания. Важно подчеркнуть, что этот термин происходит от глагола ex-sistere – обнаруживать себя, возникать, делаться, т. е. подразумевает временной аспект. Следует также иметь в виду, что в отличие от философов-рационалистов Кьеркегор, как и последующие экзистенциалисты, не противопоставлял субъекту объект, под экзистенцией он понимал их нерасчленимую целостность. С такой позиции, мир для субъекта существует лишь постольку, поскольку существует он сам. Датский философ впервые уделил большое внимание центральной проблеме экзистенциальной философии, проблеме подлинности человеческого существования.
Родоначальником современного экзистенциализма по праву считается выдающийся немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889-1976). Его основной труд – «Бытие и время» (1927). В философских размышлениях Хайдеггер использует немецкий термин Dasein (здесь – бытие, присутствие), близкий по значению экзистенции. Философ утверждает единство времени и бытия. «Временность», по убеждению Хайдеггера, выступает для человека не просто как способ бытия, а как само бытие, только человек способен сознавать временность своего существования, а значит, и само бытие. Стержень онтологии Хайдеггера – проблема сосредоточения на смысле бытия через переживание конечности существования. При подлинном существовании человек всегда испытывает связанное с «заботой» и тревогой побуждение к будущему, «забегает вперёд», представляет собой «проект будущего» и свободен в выборе возможностей. В мире, как подчёркивает Хайдеггер, не существует иного смысла существования, кроме того, что сама личность ему придаёт. Однако устремление в будущее – это одновременно «бытие-к-смерти». Именно осознание временности и конечности собственной жизни соответствует человеческой природе, сосредоточивает человека на смысле бытия, перемещает его в область подлинного существования, вырывает из безликой сферы Man (Man – безличное местоимение). Представление о собственной смерти способствует осознанию самости, ведь каждый умирает в одиночку.
При неподлинном существовании человек чрезмерно озабочен настоящим, его засасывают повседневные хлопоты, утрачивается «устремление вперёд» и смысл бытия. Тогда бытие приобретает неодушевлённый, вещный характер, происходит, в терминологии Хайдеггера, отождествление с Das Man. Индивид растворяется в безликой массе, становится винтиком социального механизма, утрачивает индивидуальность, что и представляет с этих позиций патологию. Даже смерть видится такому человеку как смерть анонимного существа, которая никогда не постигнет его самого.
В художественных произведениях не только экзистенциального толка нередко затрагивается тема временности всего происходящего, фигурирует образ часов. Это, действительно, извечная тема. На кольце библейского царя Соломона, подаренного ему мудрецом, имелась надпись «Всё проходит». Когда в Древнем Риме полководцы триумфально возвращались домой, за спиной войскового начальника стоял раб, кто обязан был изрекать: «Memento Mori» («Помни о смерти»).
В своих трудах Хайдеггер также убедительно обосновывает принципиальное одиночество человека. Подлинное взаимопонимание между людьми, с его точки зрения, невозможно, внутренний мир других людей непознаваем, хотя люди и нуждаются друг в друге.
В отношении к искусству Хайдеггер отбрасывает укоренившийся со времён Древней Греции взгляд на искусство как мимесис (подражание действительности) и отстаивает онтологическое понимание искусства как «совершение истины бытия». В работе «Истоки художественного творения» (1936) он задаётся вопросом, что же такое искусство, и сам на вопрос отвечает: «Сущность искусства – истина, которая творится в художественном процессе. В искусстве истина творится и совершается». Проблема требует, с его точки зрения, разграничения понятий: вещь, изделие, творение. В изделии, в отличие от творения, собственно создание вещи не выступает наружу, изделие служит практическим целям, иначе его не замечают. Создание произведений искусства необходимо, по убеждению Хайдеггера, для истинного, онтологического понимания вещи, так как использование реальной вещи искажает её сущность: «Истина – это позволение сущему стать доступным в своей сути, самораскрытие бытия. В произведениях искусства выражается истина бытия, сбывается истина, подтверждается бытие». Искусство помогает человеку, полагает Хайдеггер, прийти к встрече со своим подлинным существованием. Скульптурное изображение Бога, поясняет философ свою концепцию, создавалось древнегреческими художниками не для того, чтобы продемонстрировать, как Бог выглядит. Изображение означало пребывание Бога, а потому само творение являлось Богом. Хайдеггер также иллюстрирует свою концепцию подробным разбором картины Ван Гога «Башмаки» (1886). Его воззрения на искусство совпадают в какой-то мере с мнением Анри Бергсона о компенсаторной роли искусства как возвращения к жизненности, ощущению подлинности собственного существования.
Философская концепция Карла Ясперса
Крупный немецкий философ Карл Ясперс (1883-1969) – представитель религиозного экзистенциализма. Свою деятельность он начинал как психиатр, ему принадлежит обширный труд «Общая психопатология» (1913). Взгляды Ясперса на психопатологию интересны тем, что в распаде психики он усматривал стремление пациентов к обретению индивидуальности. С этих позиций исследовал высокоодарённых личностей, отличавшихся психическими отклонениями: Сведенборга, Ницше, Стриндберга, Ван Гога. С конца 20-х годов Ясперс целиком посвятил себя занятию философией. Его философские труды получили мировую известность: «Духовная ситуация эпохи» (1931), «Разум и экзистенция» (1935), «Экзистенциальная философия» (1938), «Об истине» (1947), «Философская вера (1948), «Смысл и назначение истории» (1949).
Ядро философии, по мнению Ясперса, состоит в поиске смысла бытия. Только философия, с его точки зрения, может понять эпоху, которая переживает кризис, и в философствовании человек обретает свои истоки. Непреходящая задача философствования, по Ясперсу, стать подлинным человеком посредством понимания бытия.
В философских размышлениях Ясперса на первый план выступают две категории: экзистенция и трансценденция. Экзистенция, в его понимании, не может быть предметом науки, поскольку не поддаётся объективации. Как только субъект в самосознании пытается себя объективировать, он себя утрачивает, потому что он большее, чем объект: при объективации происходит смешение того, чем субъект для себя выступает, с тем, чем он потенциально мог бы быть. Экзистенцию Ясперс отождествляет со свободой. Трансценденцию он определяет в русле неокантианства как нечто лежащее за пределами мира и человеческого существования, но придающее им ценность и наполняющее их смыслом: «Трансценденция – это бытие, которое никогда не станет миром, но которое как бы говорит через наличное бытие в мире». Трансценденция, в понимании Ясперса, содержит все духовные смыслы человеческого бытия.
Крайне важен для Ясперса вопрос о соотношении экзистенции и трансценденции. Экзистенция проявляет себя в ощущении человеком несоответствия полученных знаний и идеалов собственной сущности, в постоянном поиске себя, в обнаружении в себе чего-то необъяснимого и таинственного, ускользающего от познания, в чувстве беспокойства по поводу конечности наличного бытия. Тогда и возникает устремление к единому началу, то есть Вечности. Трансцендентное (Абсолют) составляет противовес конечному бытию. Человек – единственное существо в мире, кому открывается наличное бытие, и он, согласно Ясперсу, знает себя как человек только в присутствии трансценденции.
Непосредственное сближение экзистенции с трансценденцией происходит в пограничных ситуациях. Этот акт философ называет трансцендированием. Впервые Ясперс использовал понятие «пограничная ситуация», получившее широкое распространение в философии и психологии, в работе «Разум и экзистенция» (1935). Имеются в виду экстремальные обстоятельства, причиняющие человеку сильнейшие страдания, сокрушающие всю его жизнь: обнаружение смертельной болезни, утрата близких, разрыв любовных связей, острое чувство вины и т. п. Пограничные ситуации парадоксальны, в их основе заложена антиномия (непреодолимое противоречие): жизнь и смерть, вражда и взаимная помощь, случайность и фатум. Ясперс подчёркивает, что в пограничной ситуации человека страшит не столько смерть, сколько ощущение хрупкости всего сущего. Возникает осознание того, что даже собственная жизнь ему не принадлежит. Пытаясь постичь пограничную ситуацию в целом, человек выходит за её пределы, сближается с трансцендентным миром. Все повседневные хлопоты становятся маловажными, и тогда в преодолении наличного бытия открывается связанность собственного существования с трансцендентностью (Богом или чем-то запредельным). Экзистенция, по Ясперсу, нуждается в трансценденции, что обеспечивает просветление бытия, удостоверяет его подлинность. В акте трансцендирования свершается, как свидетельствует философ, «подлинное бытие». В этом особом процессе жизнь наполняется новыми смыслами, изменяется сам человек и соответственно его отношение к миру.
Просветлению экзистенции, достижению подлинного бытия способствует, согласно Ясперсу, также экзистенциальная коммуникация (интимно-личностное общение) с близкими по духу людьми. В отличие от других экзистенциалистов Ясперс оптимистично относился к возможности взаимопонимания людей. Более того, он указывает на экзистенциальную коммуникацию как универсальное условие человеческого бытия, полагает, что исторические типы различаются именно по характеру коммуникации.
Отношение Ясперса к межличностному общению восходит ко времени его работы врачом. Он противостоял представителям традиционной психиатрии, превращавшим пациентов с душевными заболеваниями всего лишь в предмет научного исследования, объект манипулирования. Настаивал на помощи больным посредством душевного общения врача с ними, был убеждён, что вывести человека на путь исцеления можно только проникнув в глубины его души, в процессе диалога с ним на равных. Будущий философ способствовал, следовательно, становлению понимающей психиатрии, предвосхитил современную гуманистическую психотерапию.
В качестве зрелого философа Ясперс исходил из общей для всех людей возможности трансцендирования, благодаря чему, с его точки зрения, «подлинная коммуникация становится фактом единения всех людей». Предпосылки для осуществления подлинной коммуникации он усматривал в пограничных ситуациях. Действительно, предметом интимно-личностного общения служат обычно переживания в кризисных ситуациях. При всей неповторимости переживания любви, страха, отчаяния, уникальность этих переживаний не абсолютна. Каждый говорит о своём, интимном и неповторимом, но другой всё же его понимает, опираясь на опыт собственных переживаний. Возникает «резонанс» душ, когда одна душа отзывается на звучание другой, отсюда выражение «родственные души». В интимно-личностном общении просветляется экзистенция каждого из участников диалога, оба они начинают полнее испытывать подлинность своего бытия. Экзистенциальную коммуникацию Ясперс противопоставлял коммуникации неподлинной, общению человека в социокультурной среде. Он отрицательно относился к общественным формам существования человека, считал, что социальная среда разрушает личность, а социальные институты ограничивают свободу личности.
Искусство Ясперс трактовал с идеалистических позиций, утверждал, что «мы видим вещи такими, какими нас учит их видеть искусство». О достоинстве художественных произведений он судил по их этическому воздействию. Сетовал по поводу превращения современного искусства в «предмет развлечения, даже приближение его к спорту». Освобождая от принудительности трудовой деятельности, это искусство, по его мнению, не способствует самостийности человека, «находится в оппозиции подлинному человеку». В монографии «Смысл и назначение истории» Ясперс пишет: «Искусство должно было бы сегодня, как испокон веков, ненамеренно делать ощутимой трансценденцию. Причём в том образе, которому теперь действительно верят» (368 с.). Такое искусство, напоминающее человеку о его сверхприродном происхождении как субъекта свободы, он называет шифром сверхчувственного. По сути, Ясперс приверженец искусства, вызывающего те же переживания, что возникают в пограничной ситуации.
Философское учение Жан-Поля Сартра
Французский мыслитель Жан-Поль Сартр (1905-1980) – главный представитель светского экзистенциализма. Его основной философский труд «Бытие и ничто» (1943). Сартр обращается к тем же темам и проблематике, что и Хайдеггер, делает схожие выводы, однако в некоторых положениях расходится с основателем экзистенциальной философии. Его взгляды носят более систематизированный характер. Сартр утверждает, что предметом философского анализа в первую очередь должно стать непосредственно сознание как особая данность, ни из чего не выводимый феномен. В философской системе Сартра сознание и есть существование. В феноменологической онтологии сознания, «бытия-в-мире», Сартр условно выделяет три составляющих: «бытие-в-себе», «бытие-для-себя», «бытие-для-другого». Бытие-в-себе – категория, к которой относится всё сущее. Прежде всего, вещный мир, те случайные обстоятельства, в которых обнаруживает себя индивид (эпоха, его классовая принадлежность и окружение, национальность). В эту же категорию, по Сартру, попадают и люди, если отношение к ним носит вещный характер, лишено любви и признания. Себя человек тоже может воспринимать как объект, если полностью отождествляется с социальной ролью (профессиональной, семейной) и утрачивает индивидуальность. Сущность бытия-в-себе – полная пассивность.
Бытие-для-себя противостоит бытию-в-себя, представляет разрыв идентичности, утрату единства с самим собой. В терминологии Сартра, это «прорыв бытия», абсолютная активность. Источник активности – сознание, осуществляющее трансценденцию. Сознание само по себе предстаёт человеку только при направленности на что-то. То есть, по определению Сартра, собственно сознание есть «Ничто», воплощение свободы человека. Так, если человек что-то утверждает, то этим утверждением отрицается нечто противоположное, а собственно сознание только активность и свобода. «Человек, – пишет Сартр, – свободен, человек – это свобода». Свобода ничем не обусловлена, убежден он, и всегда сохраняется в качестве возможности выбирать отношение к любой ситуации, интерпретировать обстоятельства. Такая позиция вовсе не противоречит некоему предопределению. Если у человека, например, имеется физическая аномалия, то для социальной адаптации гораздо важнее отношение к своему дефекту, чем степень его выраженности. С годами может изменяться отношение к своим родителям, даже к факту собственного рождения. Хорошо известен тезис Сартра о том, что в отличие от предметного мира «человек вначале существует, а затем определяет свою сущность». От самого человека зависит, каков будет он и его мир. При создании предметов (стол, лопата) руководствуются их свойствами, т. е. сущность всех предметов предшествует их существованию. Сущность человека не задана, он не завершён подобно вещи, а постоянно находится в процессе становления.
Бытие-для-другого – это та составная часть бытия человека в мире, в которой он открывает свою субъективность, или свободу, находящуюся до коммуникации с другими в латентном состоянии. В коммуникации, по убеждению Сартра, всегда обнаруживается конфликтность, поскольку каждый из партнёров по общению склонен к обращению со своим напарником, как с объектом, превращению его в вещь, пригодную для манипулирования. Межличностные отношения тем самым обязательно становятся одновременно борьбой за признание своей личной свободы в глазах другого человека. Разрешение этой конфликтности Сартр видит в признании свободы других людей, что представляется ему необходимым условием подлинного существования. Он, тем не менее, придерживается схожего с Хайдеггером мнения о недоступности понимания внутреннего мира человека окружающими, принципиальном одиночестве людей, их чуждости друг другу. Общеизвестен афоризм Сартра: «Другие – это ад». Переживание одиночества, с этой точки зрения, сущностная особенность человеческого существования.
Сартр, как и Хайдеггер, сугубо субъективистским образом трактует категорию времени. Временность, по его убеждению, приходит в мир только через человека, как переживание человеческой души. Источником времени собственно и является постоянное ускользание сознания от тождества с самим собой. Фактически, бытие-для-себя представляет синтез трёх временных состояний: прошлого, настоящего и будущего. Человек, по Сартру, существует только как «проект будущего». Само понятие «будущее» приходит в мир с человеком. Человек всегда определяет и переопределяет своё прошлое в угоду будущему. Критерием свободы выступает именно проектируемое сознанием будущее, а не настоящее. Настоящее – мгновенье, перекресток между прошлым и будущим, только ориентирует человека в отношении к этим временным состояниям. Поэтому в свете философии Сартра формула «живи настоящим» выглядит нелепой. Такое понимание жизни Сартр приравнивает к рассмотрению человека как неодушевлённого объекта, что вполне согласуется с размышлениями Хайдеггера о людях, погрязших в повседневности. С точки зрения Сартра, сама природа человека исключает жизнь настоящим, поскольку сущность человека проективная.
Психопатологию Сартр интерпретирует, основываясь на отсутствии единства человека с самим собой, на характеристике бытия-для-себя как ускользающей идентичности. Он вводит условное понятие «бытийный изъян». Каждый человек стремится к целостности, жаждет единства с самим собой, опасается неопределённости, т. е. хотел бы освободиться от «бытийного изъяна». Этот изъян, однако, только и делает человека человеком. Совпадение с самим собой, по Сартру, недостижимо, пресловутая формулировка «будь самим собой» обманчива. Сущность человека и состоит в том, что он не способен быть самим собой, потому что сам себя не знает. В интерпретации Сартра психические заболевания – одна из обречённых на провал попыток освободиться от бремени бытия. Душевнобольной не вполне осознанно находит выход в психическом заболевании, возвращающем его в состояние «неумения по-другому», отсутствия альтернативы, он подчиняется психическому заболеванию, ограничивающему пространство свободы. В результате утрачивается человеческая сущность, возникает сомнение в собственном бытии.
В то же время Сартр констатирует, что его интерпретация психопатологии основывается на изначальном признании человека существом, страдающим в своём бытии, и на понимании человеческой реальности как осознания несчастья без возможности его кардинального преодоления. Он, как и другие философы-экзистенциалисты, начиная с Кьеркегора, трактует страх, тревогу, депрессию с экзистенциальных позиций, в качестве непреходящих состояний человеческого существования. Неизбывный страх человека – это страх перед небытием. Сартр объясняет страх у края пропасти осознанием возможности спрыгнуть вниз. Выбор из альтернативных вариантов непременно сопровождается тревогой допустить ошибку. Депрессия тоже неизбежна при утрате жизненных ценностей, мыслях человека об отсутствии смысла жизни.
В герменевтическом подходе Сартра к психопатологии в определённом смысле стирается граница между здоровьем и психическими болезнями, отпадает, следовательно, необходимость диагностического разграничения психических заболеваний. И этот его подход крайне важен в понимании психологии художественно одарённых личностей, к которым принадлежал и сам философ.
Относительно позитивную попытку преодолеть бремя существования представляет, согласно Сартру, уход в мир воображаемого, в творческую деятельность. Сартр определяет художественное творчество как деятельность воображения, школу свободы сознания, в нём сознание обретает возможность отрицать действительность. В воображении, заявляет философ, сознание сполна осуществляет свою свободу, выступает причиной самого себя. Освобождаясь от бытия, сознание задействует воображение, отрицает реальность с помощью образов. Сартр категорически противопоставляет «воображающую установку сознания» его установке на реальность, «воспринимающей установке». В художественном произведении (например, произведении живописи), разъясняет он, художник вовсе не реализует свой умственный образ, это в принципе невозможно. Художник конструирует материальный аналог образа, позволяющий зрителю воссоздать этот образ в своём воображении. Полотно выполняет посредническую функцию. Искусство, по Сартру – это способ существования нереальных вещей. Суть в том, что эстетический объект конструируется и воспринимается воображающим сознанием, которое полагает его как нереальное. Изображённый на картине объект ирреален, поскольку он существует только на пересечении сознаний художника и зрителя. Произведение искусства, по Сартру, представляет собой нечто ирреальное. Эстетический объект появляется в тот момент, когда сознание феноменологически отворачивается от реальности, больше её не воспринимает. Эстетическое созерцание, по мнению философа – это спровоцированный сон, переход же к реальности – пробуждение. Поэтому, например, возвращение от восприятия жестокой пьесы к безопасной реальности нередко вызывает неудовольствие, подобно пробуждению от сна.
Важный аспект мировоззрения Сартра – его атеизм. Он причислял себя к последовательным атеистам и противостоял атеистам, кто верит в разумность мироустройства и тем самым, с его точки зрения, отождествляет Бога и природу. Нужно освободиться, считал Сартр, от любых представлений о разумном устройстве мира и основываться на индетерминизме. Не удивительно поэтому, что этические взгляды Сартра базируются на релятивизме, полной независимости от общепринятых норм. Человек, по его убеждению, свободен в своём нравственном выборе и несёт ответственность за него только перед самим собой.
Весь пафос философской системы Сартра выражается, таким образом, в категории «свобода». В преддверии трактата «Бытие и ничто» Сартр написал философский роман «Тошнота» (1938). Главный герой романа жаждет оправдать своё существование и не столько оправдать, сколько избавиться от его пут. Сделать это он собирается в творческом акте написания такой книги, чтобы «за её страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним». Для самого Сартра такая книга, безусловно, «Бытие и ничто»! В то же время его роман «Тошнота» представляет образец литературного произведения, в котором философ высказывает свои основные идеи в художественной форме, что облегчает их понимание.
Художественное творчество Жан-Поля Сартра
Роман «Тошнота»
Роман «Тошнота» написан в форме дневника. Его главный герой историк Рокантен занят скрупулёзным исследованием и описанием жизни маркиза де Рольбона, легендарной личности. И вот в какой-то момент, как говорится в дневнике, Рокантену открывается истина, что вне настоящего прошлого не существует. Тогда маркиз де Рольбон для него умирает. Рокантен утверждается в мысли, что историческая фигура нуждалась в нём, чтобы существовать, а он нуждался в этой исторической фигуре, чтобы не чувствовать своего существования. Рокантен пишет в своём дневнике: «Я был всего лишь способом вызвать его к жизни, он – опровержением моего существования, он избавлял меня от самого себя». Наш герой высмеивает тех, кто пытается объяснить происходящее и поучать посредством своего прошлого опыта, от таких нравоучений, с его точки зрения, попахивает мертвечиной. По мере избавления от образа маркиза перед Рокантеном всё больше открывается реальность, ему кажется, что все прежние знания о жизни он взял из книг. Сидя в кафе, он рассматривает пивную кружку и начинает испытывать нарастающую тошноту от окружающей обстановки, тошнота как бы составляет одно целое с кафе, в котором он находится. Чуждый мир будто бы насильственно вторгается в него. Рокантен приходит к выводу, что его тошнота вызвана бьющей в глаза очевидностью и лишь сопутствует осознанию того, что он и мир существуют. Наш герой, наконец, смиряется с тошнотой, перестаёт считать её болезнью, даже отождествляет себя с тошнотой. Но он, тем не менее, пытается подобрать ключ к собственному существованию, к своей тошноте. И этот ключ, по его заключению, состоит в том, что суть существования – случайность, «некая совершенная беспричинность». А в пределе существование – абсурдность. Слово «абсурдность» Рокантен считает самым подходящим для определения существования. «Когда это до тебя доходит, – пишет он в дневнике, – тебя начинает мутить и всё плывёт». Существование всех людей, по его мнению, беспричинно, а потому все они лишние, и глубинную суть человеческого существования составляет также скука. Когда наш герой задаётся вопросом: «А что такое вообще Антуан Рокантен?» – то в его голове мелькает некое абстрактное представление о самом себе, которое постепенно угасает. Понятие «Я» утратило для него всякий смысл. Реальные вещи предстают перед Рокантеном некой декорацией. Объясняет он это тем, что мыслит о вещах в категории принадлежности: «Море принадлежит к группе зелёного цвета, или зелёный цвет – одна из характеристик моря». То есть отрицается возможность соприкосновения с конкретными вещами. В мире, по его убеждению, отсутствует синий цвет как таковой, настоящий запах миндаля или фиалки, поскольку простейшие нерасчленённые свойства избыточны (лишние) по отношению к самим себе, это абстрактные выдумки. Он полагает, что втайне, в глубине души многие люди тоже ощущают себя лишними. Наш герой приходит, наконец, к выводу: «Мир объяснений и разумных доводов и мир существования – два разных мира».
Воззрения Рокантена проясняются не только из записей его размышлений наедине с собой, но также из описания бесед с персонажем по прозвищу Самоучка и бывшей возлюбленной Анни. Философская беседа с Самоучкой интересна тем, что в ней наш экзистенциальный герой беспощадно высмеивает абстрактный гуманизм любителя самообразования. На чьей стороне симпатия автора романа нетрудно догадаться, в конце повествования Самоучка с позором изгоняется из библиотеки, уличённый в нетрадиционной ориентации. Анни считает себя мертвецом, т. е. прибегает к типичному самоопределению экзистенциальных персонажей, свидетельствующему об отчуждении от самого себя. Такое самоощущение возникло у неё с отказом от поиска так называемых совершенных мгновений, уже никто и ничто не может внушить ей страсти. Подразумевает она, по-видимому, утрату индивидуальности. В дневнике Рокантен повествует о желании помочь Анни, но признаёт свою беспомощность: он сам удивлён жизнью, которая дана, по его словам, ради «НИЧЕГО». В беседах с обоими персонажами Рокантен не может отделаться от мысли, что они так же одиноки, как и он.
У нашего героя одно желание – избавиться от существования, чтобы почувствовать себя свободным, чтобы БЫТЬ. В редкие моменты, которые Рокантен обозначает как приключения, у него всё-таки пропадает тошнота, он избавляется от существования: «Я чувствую себя собой и чувствую, что я здесь; это я прорезаю темноту, и я счастлив, точно герой романа». То, что воспринимается как приключение, мало зависит, по его мнению, от специфики события, а определяется чувством необратимости времени, представляет собой способ, каким мгновенья нанизываются друг на друга.
Прощаясь с городом, где занимался историческими исследованиями, Рокантен посещает кафе, завсегдатаем которого был, и просит в очередной раз поставить пластинку с любимой мелодией. Он с нежностью думает о создателях произведения, то ли как о людях умерших, то ли как о персонажах романа. И его посещает мысль об их избавлении от греха существования, насколько это дано человеку. У него напрашивается вывод, что творчеством можно хоть как-то оправдать своё существование. Он решает написать книгу, но не историческую, из категории тех, что оправдывают существование других людей. По замыслу Рокантена, его книга, подобно сказке, вообще не должна быть подвластна существованию. Он собирается написать такую нетленную книгу, чтобы люди устыдились своего существования.
Таким образом, роман «Тошнота» проникнут основными темами и проблематикой экзистенциализма:
1. Экзистенциализм – это онтология, учение о существовании. Человек обострённо переживает своё существование в моменты смены жизненных ориентиров, утраты прежних ценностей, возникает тягостное эмоциональное состояние: отчаяние, страх, депрессия. Герой романа при отказе от его исторических изысканий испытывает опустошение, заново сознаёт существование себя и мира, чему сопутствует тошнота.
2. Само существование в экзистенциализме понимается как изначальное единство субъекта и объекта, исходная реальность неделима на объект и субъект. Для героя романа его тошнота составляет единое целое с кафе, в котором он находится, он отождествляет себя с тошнотой.
3. Экзистенция (существование) есть непосредственная данность, не сводимая ни к чему, её невозможно представить в виде идей или моделей. Для героя романа ключ к существованию, к его тошноте, некая совершенная беспричинность, даже абсурдность, от которой его мутит, потому он сознаёт себя лишним. Мир объяснения и разумных доводов и мир существования в его понимании – два разных мира. Отсюда трудности с самоопределением, собственный образ ускользает от него. Редкие моменты, когда герой переживает полноту бытия, определяются чувством необратимости времени, а не конкретными событиями.
4. Время – сугубо субъективное переживание, связанное с конечностью человеческой жизни и свойственное только человеку. Прошлое – всегда прошлое конкретного человека, которое со смертью этого человека или отстранением заинтересованных лиц перестаёт существовать, точнее, становится «закрытым», поскольку утрачивается его связь с настоящим. В любой момент жизни человек способен переопределить своё прошлое в угоду будущему. В этом смысле настоящее – перекрёсток между прошлым и будущим.
5. В современной культуре трудно сохранить индивидуальность, характерным становится отчуждение от собственной личности, что переживается как духовная смерть. Героиня романа, утратив потребность в экстатических переживаниях, ощущает себя мёртвой.
6. Люди, в представлении Сартра, принципиально одиноки, отчуждены друг от друга, поскольку внутренний мир другого человека непознаваем. Герой романа воспринимает остальных персонажей как глубоко одиноких людей.
7. Жизнь, согласно Сартру, иррациональна, не имеет никакой смысловой предопределённости, ни извне, ни изнутри. Герой романа удивлён жизнью, считает, что она дана ради «НИЧЕГО».
8. БЫТЬ, в представлении Сартра, значит быть свободным, способным вырваться из-под гнёта обыденного существования, творить собственную реальность, поскольку только в воображении сознание сполна осуществляет свою свободу. Герой романа усматривает путь к освобождению в творчестве.
Рассказ «Стена»
В рассказе «Стена» Сартр помещает персонажей в пограничную ситуацию, когда стирается граница между бытием и небытием, ломаются социальные установки, и человек остро сознаёт подлинность своего существования. Он мастерски описывает состояние трёх молодых людей в ночь перед расстрелом. События происходят во время гражданской войны в Испании.
У всех троих кардинально меняется восприятие окружающего мира и своего тела. Наиболее мужественный из них, случайно оставшийся в живых, вспоминает, как всё вокруг стало казаться ему противоестественным, когда он понял, что предстоит умереть. Странно стали выглядеть обычные предметы: «Разумеется, я не мог чётко представить свою смерть, но я видел её повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отделиться от меня и держаться на расстоянии – они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шёпотом у постели умирающего». Он неожиданно утратил дружеские чувства к ближайшему приятелю, не хотел соприкасаться с горячо любимой женщиной. Одолевало острейшее чувство одиночества и понимание того, что умереть предстоит именно ему. Рассказ «Стена» невольно ассоциируется с произведением Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», в котором, быть может, ещё более талантливо повествуется о переживаниях человека в ожидании приближающейся смерти.
Возвращаясь к роману «Тошнота», упомянем, что первоначально роман назывался «Меланхолия». Сартр отнюдь не отличался оптимистичным мироощущением. В автобиографической повести «Слова» (1964) он признаётся, что в образе Рокантена воплотил самого себя. В романе не содержится сведений о детстве и юности Рокантена, зато в «Словах» подробно с исключительной искренностью Сартр рассказывает о своём детстве, гораздо меньше сообщает о школьных и студенческих годах, и только в общих чертах повествует о своих достижениях и разочарованиях в зрелом возрасте. Тема личной жизни философа-писателя в зрелом возрасте остаётся закрытой. Сартр критически относился к концепции Фрейда о значительном влиянии бессознательных процессов на поведение человека. Видел в ней попытку списать поведение человека на независящие от него обстоятельства. Сам подчёркивал, что человек всегда знает, чего хочет и добивается. Без удивления мы обнаруживаем ростки философских воззрений Сартра в его детских впечатлениях, в особенностях воспитания будущего философа, что соответствует именно представлениям сторонников психоанализа.
Штрихи биографии Жан-Поля Сартра
Родился Ж.-П. Сартр в 1905 году в семье морского офицера. Его отец умер, когда ребёнку не исполнилось ещё и двух лет. Воспитывался будущий философ в семье дедушки по материнской линии. Его дедушка Шарль Швейцер, родной брат знаменитого гуманиста Альберта Швейцера, был профессором немецкой словесности. Взрослые уделяли маленькому Жан-Полю огромное внимание, особенно его мать Анна-Мари. Жан-Поль рано научился читать, и вскоре его любимым обиталищем стал кабинет дедушки, в котором находилась замечательная библиотека. Маленький мальчик по диагонали просматривал труды классиков, обращая внимание в основном на картинки, а за спиной слышал восторженный шёпот взрослых: «До чего же он любит Корнеля и обожает Горация!» Взрослые считали Жан-Поля вундеркиндом и всячески это подчёркивали, называя ребёнка даром небес. Анна-Мари, понимая, тем не менее, подлинные интересы сына, тайком от своего отца покупала ему книги, которые он читал «без дураков» в детской или в столовой, сидя под столом. Комедия, по словам Сартра, продолжилась, восторги взрослых ещё усилились, когда в семилетнем возрасте он занялся сочинительством, начал писать «романы», представлявшие своеобразный плагиат. Взрослые, в том числе гости дома, становились на цыпочки, чтобы наблюдать за работой юного гения, он же делал вид, что не замечает всей этой суеты. Вспоминает, что быстро научился видеть себя глазами взрослых, жить не по возрасту, как взрослый в миниатюре: «Я жил не по возрасту: пыхтя, тужась, через силу, напоказ». Спустя многие годы он радовался, что в такой обстановке его реальное «Я» не превратилось в чередование обманов, поскольку, как выдуманный ребёнок, он и отстаивал себя с помощью выдумки. Рано понял, что симпатия окружающих завоёвывается отсутствием сильных чувств: любви и ненависти.
В детстве у Сартра часто возникало ощущение собственной ненужности: «Я жил в вечном страхе, это был самый настоящий невроз. Я объясняю его так: баловень семьи, дар провидения, я тем сильнее чувствовал свою ненужность, что дома было принято приписывать мне вымышленную необходимость. Я понимал, что я лишний, стало быть, надо исчезнуть. Я был чахлым ростком, постоянно ожидавшим погибели». В пятилетнем возрасте у маленького Жан-Поля возник сильный страх смерти. Он разработал целый ритуал, чтобы при засыпании отгонять костлявый скелет с косой. Страх смерти в этот возрасте возникает, как известно, у многих детей и связан с самим фактом осознания своего существования, но у Сартра страх смерти приобрёл навязчивый характер (танатофобия) и в разных формах преследовал его всю жизнь. Здесь стоит упомянуть утверждение М. Хайдеггера («Бытие и время»,1927), что только человеку дано осознание временности, а значит и самого бытия. И в основе всякого страха, по убеждению выдающегося философа, лежит страх смерти – единственное средство вырваться из сферы обыденности и обратиться к самому себе. У Сартра, как следует из его автобиографии, болезненное переживание «бытия-небытия», важнейшая парадигма экзистенциальной философии, восходит к раннему детству. Столь сильному страху смерти, по-видимому, способствовал малоподвижный образ жизни будущего философа, полное отсутствие у него друзей в дошкольном возрасте. Единственным партнёром задушевных бесед маленького Жан-Поля была его мать. В моменты многословного изложения своих впечатлений Жан-Поль порой слышал «внутренние голоса», будто кто-то изнутри головы направлял ход его мыслей. Психопатологов наверняка насторожил бы подобный симптом, они усомнились бы в психическом здоровье ребёнка. К счастью, со временем симптом спонтанно прошёл, и Сартр высказывает благодарность матери, что она не обратилась в то время к врачам. Кроме того, Жан-Поль был маленького роста (и в зрелом возрасте рост Сартра не превышал 158 см), страдал косоглазием, усматривал в своём характере черты женственности. Не случайно его утверждение, что в формировании личности значимы не сами физические дефекты, а отношение к ним.
Хотя Сартр с ненавистью отзывается о своём детстве, фиксация взрослых на его интеллектуальном развитии сыграла не только отрицательную, но и положительную роль в становлении будущего философа-писателя. Книга, по его словам, стала для него религией и казалась важнее всего на свете, долгое время он «принимал слово за мир», существовать для него означало обладать наименованием. Если в детстве Жан-Поль видел дерево, то не пытался его наблюдать. Только когда всплывало слово «листва», дерево в его восприятии обретало зелёный покров. Именно отсюда, по всей видимости, происходит приписывание Рокантену из «Тошноты» мышления о вещах по принципу их принадлежности понятиям, а также представление этого персонажа о непознаваемости конкретных вещей, иррациональности мира. Не понятия формируются на основании конкретных предметов, а, наоборот, конкретные предметы – производные понятий: так считали в Средневековье философы-реалисты. В свою очередь, детские переживания своей ненужности породили у Сартра, по его мнению, желание стать необходимым всему миру.
В студенческие годы среди друзей Сартра, студентов-философов, он окончил Высшую нормальную (педагогическую) школу в Париже, популярны были дискуссии о смерти и бессмертии, в которых будущий знаменитый философ никогда не принимал участия. Друзья упрекали его, полагая, что он не думает о смерти. На самом деле мысли о смерти не оставляли его ни на минуту, ему принадлежит два противоречивых на первый взгляд высказывания. В «Словах» Сартр пишет: «Жажда писать таит в себе отказ от жизни. Смерть преследовала меня, потому что я не любил жизни. Этим объясняется ужас, который внушала мне смерть». В той же повести содержится признание: «В действительности, я считал себя бессмертным, я заранее убил себя, потому что только покойники могут наслаждаться бессмертием».
С детства для Сартра существовать означало писать. Он не был верующим человеком, но позаимствовал у католицизма идею святости и вложил её в изящную словесность, увидел в литературе эрзац служения, позволяющий заслужить посмертное блаженство. Сартру нравилось смотреть на себя из далёкого будущего глазами потомков. С «высоты могилы» рождение представлялось ему неизбежным злом, сугубо временным воплощением, подготавливающим преображение. Чтобы воскреснуть, во всяком случае, в глазах потомков, необходимо было писать. В творчестве Сартр искал спасения, творчеством искупал факт своего существования. Жизнь наводила на него скуку, и к ней он относился, как к орудию смерти.
Знакомых Сартра часто обескураживало, как легко он отрекается от недавних эстетических предпочтений при знакомстве с новыми произведениями искусства. Без всяких затруднений Сартр каялся перед людьми, затаившими на него обиду, что позволяло заподозрить его в неискренности. Сам философ объяснял своё поведение тем, что себя недолюбливал и стремился в каждый последующий день становиться всё лучше, отвергая себя вчерашнего. По этой причине он не испытывал удовольствия, когда расхваливали его прошлые произведения или высказывания. Вообще Сартр относился скептически к акцентированию прошлого опыта человека, предпочитал «держать прошлое на почтительном расстоянии», его притягивало будущее. Человек для него определялся своими замыслами на будущее, а не прошлыми заслугами. Соответственно у себя самого он отрицал какие-либо устойчивые черты характера, считал, что черты характера связывают. По убеждению Сартра, человек обладает беспредельной свободой. Отсюда тезисы его философской системы:
1. Человек вначале существует, а затем свободно определяет свою сущность, что он есть.
2. Человек постоянно находится в становлении, творит самого себя и определяется спроектированным будущим.
3. В любой ситуации, даже самой трагичной, человек свободен в выборе своего отношения к ней.
Поведение Сартра в повседневной жизни со студенческих лет, несомненно, тесно связано с принципами его философской системы, а философская система во многом коренится в переживаниях его детства. О выдающихся личностях, казалось бы, неэтично судить с позиций психопатологии, но было бы ханжеством полностью отказаться от оценки гениев в этом аспекте. С психопатологической точки зрения, одним из стержневых факторов в генезисе философских воззрений выдающегося мыслителя, наряду со страхом смерти, представлением об одиночестве, выступает восходящая к детству проблема с самоопределением. Невозможность самоопределения Сартр возвёл в философский принцип, сам для себя так и остался загадкой. Особенно явно это доказывает чрезвычайно глубокий и одновременно провокационный тезис его философии: «Человеку невозможно быть самим собой».
В романе «Тошнота» Анни, бывшая возлюбленная Рокантена, как и главный герой, проявляет склонность к философскому осмыслению своей жизни; в сексуальных отношениях отнюдь не скованна нравственными установлениями. Ну, а что же сам Сартр?
Близкой подругой Сартра, хранившей ему душевную преданность всю жизнь, была известная французская писательница, идеолог феминистского движения Симона де Бонуар. Они вместе учились и специализировались в области философии. Симона считала Сартра гением и разделяла его философские взгляды, сама тоже обладала незаурядными способностями. Сартр и Бонуар по обоюдному согласию отказались регистрировать брак. Будущая знаменитость сразу заявил своей возлюбленной, что будет ей изменять. Они никогда не жили под одной крышей и стали первой французской парой, официально отрицавшей супружескую верность. У Сартра было множество любовниц, а Бонуар отличалась бисексуальной ориентацией. Возлюбленные Симоны, в том числе юные студентки лицея, где она преподавала, при её попустительстве нередко становились любовницами Сартра. Известен и противоположный эпизод: Симона соблазнила любовницу Сартра, и имел место тройственный союз. Сартр обожал выслушивать рассказы Симоны о её изменах, при этом сильно возбуждался, чем она умело пользовалась, разжигая страсть своего кумира. Их отношения представляют, конечно, прекрасный материал для сексопатологов и психоаналитических изысканий.
С 50-х годов Сартр активно включился в политическую деятельность как представитель левых взглядов. Он поддержал кубинскую революцию 1959 года, выступал против войны во Вьетнаме, участвовал во французской революции 1968 года.
В 1964 году Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, сочтя необъективным Нобелевский комитет к номинантам из Советского Союза. В том же году он заявил об отказе от литературной деятельности, назвав литературу суррогатом подлинного преобразования мира. К тому времени Сартр кардинально пересмотрел свои взгляды на искусство. Перестал рассматривать искусство как метафизическое явление и считать, что от художественных произведений зависит судьба вселенной. Он отказался от веры в собственное предназначение и искупление существования через литературное творчество. В завершение повести «Слова» Сартр пишет: «Культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но она – создание человека: он себя проецирует в неё, узнаёт в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он свой облик». Сартр не отрицал противоречивости своих взглядов. Не сомневался он только в собственном сомнении как символе своей избранности.
В заключение хочется добавить, что всё творчество Сартра, его выдающиеся философские и художественные произведения впечатляют ещё и укоренением в его биографии, неоспоримо свидетельствуют об эффективности биографического метода в понимании художественного творчества и философских трактатов.
Альбер Камю – философ и писатель
Альбер Камю (1913-1960) возвёл совмещение творчества философа и писателя в статус доктрины. Ему принадлежит афоризм: «Чтобы быть философом, нужно писать романы». Свои философские взгляды он неизменно переводил в эстетическую плоскость, осмысливал реальность посредством литературно-художественных образов и даже разработал собственную эстетическую концепцию. В 1957 году Камю был удостоен Нобелевской премии по литературе как писатель, ставящий современные проблемы с проницательной серьёзностью. Философский трактат Камю «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» (1942) представляет также литературное произведение. Как и другие философы-экзистенциалисты, Камю убеждён, что ворота к познанию истины открываются через чувство. Если герой романа «Тошнота» через мучительное чувство тошноты путём углублённых размышлений приходит к представлению об абсурдности мира, то Камю постулирует чувство абсурдности как изначальное мироощущение человека, хотя бы в силу осознания человеком своей смертности. Сам по себе мир, по утверждению Камю, не абсурден, а просто неразумен, в нём отсутствуют смыслы. Чувство абсурдности возникает во внутренней вселенной человека из столкновения его иступлённого стремления к ясности с иррациональностью мира. Абсурд, по убеждению Камю, в равной мере зависит и от человека и от мира, является единственной связью между ними. И основной вопрос философии для Камю сводится к тому, стоит ли жить. Самоубийство он считает капитуляцией перед абсурдом. Отвергает и философское самоубийство, так называемый «прыжок» веры, обращение к Богу, а также служение любой трансцендентной идее или погружение в обыденность. В обращении к Богу разум, по его мнению, отрицает самого себя. Подлинное достоинство человека, с точки зрения Камю, заключается в жизни в абсурде при ясном осознании абсурдности своего существования. Мифический герой Сизиф поднимает огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывается вниз. Величие Сизифа в стремлении к вершине при ясном понимании абсурдности своих действий: «Ясность видения, которая должна быть его мукой обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение». Свободу, по убеждению Камю, получает тот, кто осознал, что мир лишён значения.
Принципы жизненной философии Камю состоят в бунте против абсурда за счёт ясности сознания, в борьбе интеллекта с превосходящей реальностью и стремлении к полноте чувств, полному исчерпанию жизни. Того, кто способен вести такую жизнь, он называет «абсурдным человеком». Абсурдному человеку свойственно неверие в глубокий смысл вещей, такой человек ничего не предпринимает ради вечности. Единственная его ценность – ясность видения и полнота переживания. Для иллюстрации своих взглядов Камю прибегает к образам Дон Жуана, Актёра, Завоевателя и Творца в своеобразной интерпретации. Все эти персонажи стремятся повторить, воссоздать свою реальность, приумножить переживания, руководствуются принципом количества. Их свобода в умении освободиться от своих занятий, дойти до признания, что самого дела могло и не быть.
Дон Жуан меняет женщин не потому, что разочаровывается в очередной возлюбленной. Просто он исповедует этику количества, стоит за пресыщение. Этот герой в понимании Камю абсурден, поскольку ясно сознаёт себя заурядным соблазнителем. Любовь для него, в отличие от материнской любви, сосредоточенной исключительно на ребёнке, таит все лики мира, а потому освобождает. Дон Жуан, по словам Камю, избирает «Ничто».
Актёр, по аналогии с Дон Жуаном, проживает множество жизней, он тоже следует принципу количества. Играть, по мнению Камю, значит проникнуть во все жизни, пережить их во всём многообразии. В короткий период времени по воле актёра герои рождаются и умирают, и трудно найти, с позиций Камю, столь исчерпывающую иллюстрацию абсурда. Актёр уничтожает границу между тем, чем хочет быть человек, и тем, чем он является. Своим повседневным лицемерием актёр показывает, насколько видимость может создавать бытие. Призвание актёра Камю определяет следующим образом: «В итоге его призвание понятно: всеми силами он стремится быть ничем, то есть многими. <…> Это и называется потерять себя, чтобы найти». Утверждение Камю, что Дон Жуан избрал «Ничто», а Актёр стремится быть «Ничем», перекликается с появившимся вскоре сугубо философским трудом Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто» (1943), где «Ничто» подразумевает сознание (или свободу), возможность человека определять свою сущность.
Завоеватель, в понимании Камю – человек, способный противостоять своей судьбе, не обязательно тот, кто завоёвывает территории. Борьба с социальным неравенством и бедностью для завоевателя только повод. Когда завоеватели говорят о победах и преодолениях, они всегда имеют в виду «преодоление себя», победу над самим собой. Завоевателю отвратительны те места, где полагается почитать смерть, во вселенной бунта смерть воспринимается как вопиющая несправедливость. Каждый человек, по убеждению Камю, в какие-то мгновенья ощущает богоподобие, но завоевателям он приписывает особые свойства: «Завоеватели лишь те, кто чувствует силы для постоянной жизни на этих вершинах, с полным сознанием собственного величия». Именно поэтому они никогда не покидают горнило жизни и пребывают в пекле революций. Завоеватели возвеличивают интеллект, понимая его рабство и смерть вместе с телом. Они, по сути, руководствуются в своих действиях парадоксальным тезисом: «Индивид ничего не может, и, тем не менее, он способен на всё». В этом их свобода.
Творец – самый абсурдный из персонажей Камю. Ему свойственны черты других абсурдных персонажей. Творец знает о тленности своих произведений, но творит их с упорством, будто они просуществуют века. Творчество Камю рассматривает как наиболее эффективную школу терпения и ясности, доказательство единственного достоинства человека: упорного бунта против своего удела и настойчивости в бесплодных усилиях. Творец ежедневно прилагает усилия, владеет собой, и всё это «ни для чего». Камю подчёркивает, что важно не само произведение искусства, а то испытание, которого оно требует от человека. В каждодневных усилиях творец проявляет дисциплину – самую существенную силу человека. Стремление преобразить свою судьбу роднит Творца с Завоевателем: «Творить – значит придать форму судьбе». В то же время Творец, по Камю, это великий тип Актёра, поскольку в бунте против реального мира, он создаёт собственный мир, играет мифами и образами, тем самым уничтожает грань между видимостью и бытием.
Люди абсурда, согласно концепции Камю, должны постоянно помнить, что их способ жизни невозможен без осознания его бессмысленности, иначе они превратятся в простых честолюбцев. Все они хотят – повторить, воссоздать свою реальность, признавая глубочайшую бесполезность индивидуальной жизни.
Камю даёт ответ и на предназначение произведений искусства, созданных под влиянием идеологии абсурдности, обрисовывает особенности творческого процесса, указывает на требования к подлинному произведению искусства. В определении предназначения искусства он исходит из положения, что на человека производит впечатление многоликость мира, а не его глубина, количественная неисчерпаемость вселенной, которую тщетно было бы объяснить. Отсюда делается вывод, что произведения искусства приумножают опыт. Камю отводит искусству также компенсаторную роль, в том смысле, что творец, бунтуя против неизбежности смерти и незавершённости своей судьбы, в созданных произведениях придаёт судьбе персонажей завершённый и целостный характер. По мысли Камю, каждый человек стремится превратить собственную жизнь в произведение искусства. Кроме того, согласно излагаемой концепции, абсурдное произведение искусства впервые выводит наш ум за его пределы и ставит лицом к лицу с другими людьми, чтобы со всей точностью указать на безысходность пути, на который мы вместе вступили. Подобные произведения порождаются отказом ума объяснить конкретное, ничего не обозначают, кроме самих себя. Всяческие объяснительные принципы и рассуждения, направленные на поиск глубокого смысла, объявляются незаконными. Автор абсурдного произведения заведомо отказывается от примата мышления и, по словам Камю, соглашается творить видимость, набрасывать покрывало образов на неразумную действительность. Камю предлагает учиться у самой чувственной видимости, он пишет: «Будь мир прозрачен, не было бы искусства». Что касается творца, то Камю признаёт ложной идею о произведении искусства, отделившегося от его творца. Художник, по его убеждению, вовлекается в свою работу и в ней становится самим собой, ищет законченности своей судьбы.
Абсурдное произведение, по обязательному требованию Камю, не должно пробуждать у читателя или зрителя надежду, служить источником поиска смысла жизни. В ином случае произведение превращается в обман, перестаёт быть «упражнением в страстной отрешённости, в которой находит завершение человеческая жизнь во всём её блеске и бессмысленности».
Повесть Альбера Камю «Посторонний» как проективный личностный тест
Повесть Камю «Посторонний» (1942) считается литературным шедевром, культовым произведением. По версии журнала Le Monde, ведущего еженедельника Франции, эта повесть занимает первое место среди 100 лучших литературных произведений ХХ века. Повесть написана простым языком, отличается незамысловатым сюжетом. Француз Мерсо, относительно молодой человек, от лица которого ведётся повествование, работает в небольшой конторе в Алжире. В богадельне умирает его мать. Мерсо отправляется на похороны, и с первых страниц повести этот персонаж изумляет читателя полным безразличием, точнее говоря, отсутствием эмоционального реагирования, обычного в трагических ситуациях. Он не желает в последний раз взглянуть на умершую мать, крышка гроба так и остаётся закрытой. Вечером распивает у гроба кофе, курит, потом засыпает. При погребении матери совсем не печалится, не плачет, скорее, просто испытывает утомление от всей похоронной процессии. На следующий день отправляется купаться и сталкивается с женщиной, которой симпатизировал на прежней работе. Они весело плескаются в море, затем идут в кино смотреть комедию. День завершается их сексуальной связью. Мерсо вспоминает свой ответ подруге, когда та спросила, думает ли он на ней жениться: «Я ответил, что мне всё равно, но если ей хочется, то можно и пожениться». Приводит и свой ответ на вопрос, любит ли он её: «Я ответил точно так же, как уже сказал ей один раз, что это никакого значения не имеет, но, вероятно, я не люблю её». Без всяких колебаний Мерсо соглашается написать провокационное письмо любовнице своего знакомого, с которой тот находился в конфликте. Совершенно равнодушно он относится к предложению своего работодателя переехать на работу в Париж, что открыло бы ему новые перспективы. Ему, мол, и так хорошо, а изменить что-либо, по его мнению, всё равно нельзя. Апофеозом равнодушия Мерсо к происходящему становится совершение им убийства. В выходной день во время загородной поездки без особых личных причин он выстрелом из пистолета убивает араба. Впоследствии сам толком не может объяснить свой поступок. Ссылается лишь на палящее солнце и нестерпимую жару.
В тюрьме Мерсо быстро ко всему приспосабливается, и ему в голову приходит мысль, что он бы привык, даже если бы его заставили жить в дупле засохшего дерева и разрешили только смотреть на цвет неба. Во время судебного заседания представителей правосудия интересуют не столько обстоятельства совершённого Мерсо преступления, сколько его необычное поведение на похоронах матери. Именно это поведение вызывает негодование и осуждение присутствующих в зале суда, будто судят его за отношение к матери. У самого же Мерсо при допросе и опросе свидетелей создаётся впечатление, что речь идёт не о нём, а о ком-то другом. Приговор суров: смертная казнь. Остаётся лишь надеяться на удовлетворение прошения о помиловании.
После приговора Мерсо посещает священник, который пытается убедить его обратиться к Богу. Но рассуждения о вечной жизни вызывают у Мерсо только скепсис и насмешку. Он впадает в ярость и грубо изгоняет кюре из камеры. Одновременно ведёт внутренний диалог: «Как он [кюре] уверен в своих небесах! Скажите на милость! А ведь все небесные блаженства не стоят одного единственного волоска женщины. Он даже не может считать себя живым, потому что он живой мертвец. У меня вот как будто ничего нет за душой. Но я-то хоть уверен в себе, во всём уверен, куда больше, чем он, – уверен, что я ещё живу, и что скоро ко мне придёт смерть. Да, вот только в этом я и уверен». Негодование по отношению к священнику очищает Мерсо от всякой злобы и изгоняет надежду. Он взирает на ночное небо, усеянное звёздами, и впервые, по его словам, открывает душу ласковому равнодушию мира. Постигает братское родство с этим миром и констатирует, что был счастлив и продолжает чувствовать себя счастливым. Желает лишь, чтобы в день казни зрители встретили его с ненавистью.
В концовке повести Камю, следовательно, чётко выражает свою жизненную позицию и эстетическую концепцию: литературное произведение не должно внушать надежду, освобождает не надежда, а её отсутствие. Подчёркиванием близости Мерсо к природе, «неразумной природе», возможно, подсказывается разгадка этого неординарного персонажа. Что касается абстрактного понятия «живой мертвец», используемого приговорённым к смерти для утверждения собственной жизненности, то тем самым декларируется экзистенциальный постулат об обострении переживании бытия в преддверии небытия. Едва ли, однако, персонаж типа Мерсо способен на подобные абстракции.
На повесть «Посторонний» литературными критиками и философами написано множество рецензий. Все они отмечают бесчувственность Мерсо, его равнодушие, и обсуждается главным образом, насколько этот персонаж соответствует понятию «абсурдный человек». Безусловным соответствием признаётся тот факт, что Мерсо живёт исключительно настоящим, в его сознании нет места надежде. Действительно, на следующий день он как бы уже забыл о смерти матери, отказывается от выгодного предложения переехать в Париж и начать новую жизнь. С другой стороны, ему чужд свойственный абсурдным людям сознательный бунт против неизбежности смерти, что служит им доказательством собственного существования. Высказывается, правда, мнение о столь сильной абсурдности Мерсо, что ему и не надо бунтовать. Его абсурдность в единении с природой, ведь сама природа, по Камю, неразумна и равнодушна.
Нельзя, к сожалению, сказать, что и рецензия Ж.-П. Сартра «Объяснение “Постороннего”» (1943) оправдывает своё заглавие и полностью разъясняет содержание повести. В своей рецензии Сартр исходит из общего положения о двойственности природы человека. Его интерпретация этого положения близка к воззрениям Э. Фромма («Бегство от свободы»,1941). Человек как биологическое существо принадлежит природе, но наличие сознания освобождает его от уз природы и одновременно пугает. Осознание собственной смертности делает человека чуждым природе, другим людям и даже самому себе. Сартр соглашается с доводами Камю, что осознание скорой кончины может породить чувство вседозволенности у людей, приговорённых к смерти, тем более, у абсурдного человека, идеал которого текущий момент. В рецензии отмечается, что главный персонаж «Постороннего» весь в настоящем моменте, и для него важно только сиюминутное и конкретное. Даже такое понятие, как любовь, ему недоступно, присяжные в суде напрасно, мол, старались, выспрашивая, любил ли обвиняемый свою мать. Не без симпатии Сартр говорит о Мерсо как о простодушном человеке, вызывающем ужас и возмущение общества, потому что не принимает его правил. Тяжкое преступление этого персонажа обходится в рецензии молчанием. «Самим фактом своего существования, – пишет Сартр, – Посторонний доказывает бесплодность рассудочного разума». И одновременно утверждает: «Герой Посторонний остаётся двусмысленным. Конечно, мы убеждены, что он абсурден и что беспощадная ясность взгляда и является основной его чертой». Каким образом «ясность взгляда» соотносится с отсутствием «рассудочного разума», остаётся только гадать. Неужели имеется в виду интуиция? По-видимому, подразумевается, что следование природным позывам предпочтительнее рефлексии. Буквально с благоговением указывается, что Мерсо наряду с безразличием и молчаливостью обладает ещё и проницательностью. Основанием служит, конечно, эпизод со священником. Сартр также полагает, что абсурдность Мерсо является заданной, а не приобретенной. В итоге делается вывод: «Таким образом, даже для человека, стоящего на точке зрения абсурда, этот персонаж остаётся непроницаемым. Мы не можем ни полностью понять его, ни вынести о нём окончательного суждения». И в дружеских тонах, с некоторым юмором Сартр пишет о корысти Камю при создании повести «Посторонний». Корысть якобы состояла в желании вызвать у читателей чувство абсурда и тем самым подготовить их к усвоению понятия «абсурд» в сложном произведении «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде».
Не берёмся судить, возникает ли у большинства читателей при чтении повести «Посторонний» чувство абсурда, но то, что повесть обладает для российских читателей магической притягательностью, это бесспорно. В Интернете о ней множество отзывов. Само содержание отзывов зачастую в большей степени раскрывает психологию и проблемы читателей, чем образ Мерсо. Если на суде Мерсо казалось, что речь идёт о ком-то другом, то при чтении многих отзывов тоже создаётся впечатление, что речь не о нём, а об авторе отзыва. Иначе говоря, повесть «Посторонний» ярко демонстрирует значимость типа личности в восприятии художественных произведений, лучшие из этих произведений фактически обретают качества проективных личностных тестов. Лишний раз убеждаешься, что именно художественные произведения, вызывающие диаметрально противоположные суждения об их персонажах, могут рассчитывать на популярность и вековечность.
Повесть «Посторонний» действительно актуальна, её всячески хвалят, в одном из отзывов даже предлагается бесплатно раздавать эту повесть в метро и других местах скопления людей. По интерпретации образа Мерсо отзывы сильно разнятся, словно в подтверждение мнения Сартра о непроницаемости этого персонажа. Условно их можно разделить на три категории. Первая категория отзывов обнажает то напряжение, которое существует у их авторов в соблюдении социальных норм. Таких отзывов немало. В них высказывается безоговорочная поддержка Мерсо, ему приписываются положительные качества. С подростковой безапеляционностью в грубой форме критикуются социальные устои, и нередко речь уже идёт, как отмечалось, о самих авторах отзывов. Приведём в пример фрагменты наиболее показательных отзывов этой категории (все отзывы приводятся без корректуры):
Ничего ужасного я не увидела. Я увидела лишь яркую индивидуальность. Мне самой хотелось крикнуть: «Да что вы за люди такие? Дайте бедному Мерсо спокойно существовать. Вы же сами ему навязываетесь, а не он вам!» А посторонний Мерсо оставался непоколебимым и мудрым в своих суждениях. Да, он был странным, странным даже по моим многогранным меркам. Но он был Личность. Я не понимаю, за что тут судить. И почему нельзя дать ему просто существовать? Он просто хотел жить. p.s. Такой абсурдизм я обожаю. Эта книга меня в него влюбила.
Как тут не быть посторонним, когда тебе нахально лезут в душу, наседают с нравоучениями, буквально указывают, что делать. Парадокс, но именно сильные, самодостаточные люди, которые не равняются на «всех», живут своей жизнью и не пытаются угодить обществу, именно они оказываются в центре пересудов, навешивания ярлыков, осуждений этого самого общества. Это просто смешно. И грустно. В процессе чтения герой стал мне очень близок. Его отрешённость, спокойная рассудительность, чувства, мысли хорошо мне знакомы.
Прочитал «Постороннего» – не знаю, зачем жить дальше.
Стадо ненавидит тех, кто не подходит под его рамки, любые меньшинства, от сексуальных до политических, подвергаются гонениям. Стадо думает, что оно вправе решать, кому жить, а кому нет. Как тогда выжить человеку, противопоставляющему себя стаду и осознающему, что оно целиком и полностью состоит из идиотов, и его суммарный интеллект равен не сумме умов, а произведению всех глупостей?
Любопытно, что читатели-рецензенты, кто называет Мерсо яркой индивидуальностью, правдивым и хорошим человеком, полностью игнорируют факт беспричинного убийства, совершённого этим «правдолюбцем», не видят в тяжком преступлении ничего ужасного. В своих отзывах о повести они демонстрируют мизантропию и желание отстраниться от социума. Повесть на самом деле загадочна, поскольку провоцирует на игнорирование содержащихся в ней эпизодов и неадекватное эмоциональное реагирование. В этом-то, может быть, и состоит её гипнотический эффект. Никто «не лез в душу» Мерсо, пока тот не совершил убийства. К нему, согласно сюжету, благожелательно относится работодатель, открывший ему заманчивую перспективу, он пользуется расположением симпатичной женщины, готовой выйти за него замуж. Отсутствие эмоционального отклика у главного героя повести, конечно же, приводит в замешательство непредубеждённых читателей. Нередко критики, в том числе и профессиональные литературоведы, указывают на абсурдность процедуры суда над Мерсо, формализм обвинителей, их якобы нелепое сосредоточение на поведении подсудимого на похоронах матери, а не на совершённом им преступлении. Но разве возможен судебный процесс без соблюдения формальностей? И каким образом ещё разобраться обвинителям в личности подсудимого, мотивах неоправданного убийства, если не обратиться к его поведению в стрессовых ситуациях, где имелись свидетели? Смещению внимания читателей повести с совершённого Мерсо преступления, безусловно, способствуют утрированные высказывания Камю, типа: «В нашем обществе всякий, кто не плачет на похоронах матери, рискует быть приговорённым к смертной казни».
Приверженность Камю нонконформизму оказалась, как мы видим, весьма заразительна. Не все читатели, однако, попали под обаяние образа Мерсо. Этому персонажу даётся и однозначно отрицательная оценка, одновременно некоторые читатели в русле своих суждений называют его героем нашего времени:
Мерсо – страшный человек. Человек, живущий инстинктами. Я не могу назвать Мерсо личностью. Он просто отрёкся от мира людей. Мерсо мне неприятен: пусть он и заставил меня понять его, но к нему я долго буду испытывать отвращение.
И кто перед нами? Чёрствый, абсолютно равнодушный к окружающим эгоист, ведущий бесцельное существование без любви. И мне жалко этого человека, одинокого, замкнувшегося, как улитка в раковине.
Я пыталась найти хоть капельку души в Мерсо, хоть искорку человечности, но у меня не получилось. Он для меня человек совершенно пустой и потерянный.
Это рассказ о равнодушии, которым, к сожалению, полон окружающий мир и которого стало ещё больше в последнее время. Герой – типичный равнодушный человек, которому нет дела ни до чего и ни для кого. Холодная, чёрствая душа. Пожалуй, соглашусь, что этот типаж – «герой» нашего времени, какие встречаются всё чаще, как бы прискорбно это ни было. Неприятное произведение, эмоционально «тяжёлое», тёмное, вгоняющее в депрессию, но, безусловно, заслуживающее внимания.
Отзывы третьей категории можно обозначить как компромиссные с философским оттенком. Их авторы стоят на позиции нравственного релятивизма, руководствуются абстрактным гуманизмом и указывают на невозможность однозначно оценить личность Мерсо либо иронично задаются вопросом, не следует ли перенять его образ жизни и вообще ничему не придавать значения. Наконец, некоторые читатели-рецензенты утверждают, что Мерсо не реальный персонаж, а просто иллюстрация идей создателя повести «Посторонний». Вот примеры таких отзывов:
Каково это жить, ни о чём не задумываясь? Ни к чему не стремится, ни во что не верить, не ждать чуда, не искать смысла, не думать о последствиях, не подбирать слова, не думать о других, не думать о себе. Кажется нереальной жизнь, лишённая чувств, однако существуют люди, находящиеся в состоянии, подобном трансу. И пример тому, главный герой Мерсо. Он посторонний, он вне человеческого муравейника, который постоянно копошится в надежде отыскать счастье. Мерсо просто счастлив, для этого ему не нужно что-то сверхъестественное. Он жив = он счастлив. Правильная аксиома. Окружающие его не понимают. Пытаясь постичь философию его жизни, они так и не догадываются, что её попросту нет.
Посторонний. Это один из героев нашего времени. Самое интересное, что таких людей любят. Они притягивают. Наверное, потому что не думают и не создают проблем самим себе. Но рядом с ними другим не всегда уютно. Он не думает, как говорят, «не заморачивается», он просто живёт, как живёт. Вот такой, какой есть, и абсолютно счастлив. Это мы, обитающие в вечном поиске себя и справедливости, думаем и философствуем. Вот только не могу понять логику поступка, который привёл его в зал суда. А Мерсо не хочет помочь. А, возможно, просто не может, потому что ему действительно нечего сказать и движут им только основные инстинкты: поесть, поспать, покурить, да пойти погулять. Но я не смею осуждать, потому что не знаю и не понимаю. А вот задумалась-задумалась. Он, как робот, делает, что ему говорят. Жениться – давай поженимся, напиши письмо – напишу. А последствия своих поступков его не интересуют. Он смотрит отрешённо. Ему надоели вопросы, ему легче согласиться, чтобы отстали. И будь, что будет. Как-то всё бессмысленно и пусто в его душе. Цинично. Но он заставляет задуматься.
Категорически невозможно представить такого человека в повседневной жизни. Его образ, даже после прочтения, так или иначе, остаётся в какой-то степени размытым, неясным. Существует мнение, что в данном случае герой для автора не объект самовыражения, а способ познания мира. По существу у Мерсо нет даже инстинкта самосохранения. Нет ничего из того, без чего нашу собственную жизнь сложно даже вообразить. Вопрос «почему» возникает постоянно. Произведение, быть может, тем и хорошо, что таким количеством пробелов оставляет каждому читателю пространство для размышлений и собственных толкований.
Философия, которую автор развивает и которую завершает в Мерсо, выражена фразой, неоднократно повторяемой героем: мне всё равно. Мерсо выглядит аутентичным человеком, с нашей точки зрения, даже тугодумом. Насколько я знаю, Камю для заглавия романа рассматривал варианты «Обыкновенный» и «Счастливый». Насколько Мерсо обыкновенный? Пожалуй, как живой герой совсем не распространён, зато как идея, как характерная черта может претендовать на роль героя своего времени.
Сейчас бы Мерсо назвали социопатом. А он им бы и оказался, если бы не был вымышленным персонажем.
Обращает внимание, что у читателей при самом разном отношении к Мерсо возникает вопрос о психической нормальности этого персонажа. Его считают странным, сравнивают с роботом, с людьми в состоянии транса, называют социопатом. Такие эпитеты, конечно, не позволяют причислить Мерсо к аутентичным личностям, стремящимся к самореализации. Его склонность в любой ситуации резать «правду-матку», без опасения обидеть других людей, свидетельствует не о правдивости, а об эмоциональной тупости. Если сопоставить отзывы читателей, то можно прийти к выводу, что в свойствах характера Мерсо одни усматривают самобытность, другие – проявление явной психопатологии. Относительно типичности образа Мерсо мнения кардинально расходятся: одни провозглашают этого персонажа героем нашего времени, психологическим типом эпохи, другие видят в нём просто воплощение философских идей автора, нежизнеспособного типа. В первом случае остаётся только признать, что акцентированная личность (либо психопат) и есть герой нашего времени, а может быть, и всех времён.
Сартр прав, что в границах представлений Камю об абсурде образ Мерсо остаётся непроницаемым. Этот персонаж, однако, сразу проясняется при использовании традиционных классификаций личностей. А.Ф. Лазурский, например, относит в своей классификации таких персонажей к личностям низшего психического уровня. У Мерсо отсутствует мировоззрение, он ничем и никем не интересуется, ни к чему не стремится, полностью находится под воздействием среды и сиюминутных побуждений. Ему недоступно понятие «любовь» в связи с отсутствием у него высших чувств, как и у большинства лиц со слабо развитым абстрактным мышлением. Сартр объясняет отчуждение Мерсо в суде от всех совершённых прегрешений принципиальной невозможностью выражения человеческих переживаний посредством слов и понятий. Отчасти это верно, но особенно явственно выступает подобная неспособность у лиц с неразвитым абстрактным мышлением, плохим функционированием, в понятиях учения И.П. Павлова, второй сигнальной системы.
Мерсо не просто личность низшего уровня. Лазурский в своей классификации определил равнодушие, присущее таким особам, как извращение личности по апатическому типу, считал подобных людей не только бесполезными, но часто социально вредными. Одна из читательниц пишет в своей рецензии, что не может понять логику поступка, который привёл Мерсо на скамью подсудимых. Разъяснение содержится в высказываниях о равнодушии, сделанных выдающимися мыслителями, снискавшими славу в самых разных сферах деятельности. Все они видели в равнодушии большой порок. Крупный французский политик Х1Х века Алексис Токвиль (1805-1859) относил равнодушие к душевным расстройствам: «Равнодушие – тяжкая болезнь души». Философ-персоналист Эммануэль Мунье (19051950) пророчествовал: «Мир погибнет от равнодушия». В том же духе мыслил американский писатель и физик Митчелл Уилсон (1913-1973): «Равнодушие – есть наивысшая жестокость», а также русский писатель Максим Горький (1868-1936): «Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертельно для души человека». Наиболее ёмко определил равнодушие английский писатель Бернард Шоу (18561950): «Равнодушие – вершина бесчеловечности, величайший грех, хуже ненависти».






