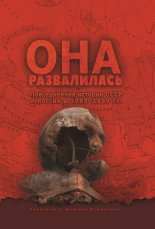Конец Смуты Оченков Иван

Несмотря на скудость ухоронок, добыча ратников Михальского оказалась неплоха. Помимо кучи тряпья было полтора десятка коней, восемь сабель, три добрые кольчуги и пять тягиляев и еще несколько топоров, кистеней и прочего оружия, включая невесть откуда доставшийся татям богатый шестопер, украшенный серебряной насечкой и чернением. Найденное ранее огнестрельное оружие и пара коней получше были объявлены неделимым достоянием сотни (считай что сотника). Прочее же было тут же раздуванено между ратниками, за исключением лошадей. Их было решено продать позже и поделить деньги. Пока же Федьке достался тюк с разной одеждой, наконечник для рогатины и сабля, правда не слишком хорошая.
Выбрались из чащи ратники уже ближе к ночи и двинулись в сторону вельяминовской усадьбы, где повстречались с участниками царской забавы. Охота, как видно, удалась на славу. Окрестные помещики расстарались и затравили для царя несколько волков и лисиц, добыли лося и под конец подняли из берлоги медведицу с медвежатами. По обычаю, надо было разъярить зверя с тем чтобы погнать его на царя с рогатиной. Однако медведица, защищая детей, пошла не на государя, а на оказавшегося рядом Телятевского и едва его не заломала. Спас дворянина сам царь, доставший откуда-то большой двуствольный пистолет и подстреливший зверя. Государь, впрочем, нисколько не расстроился и пожаловал помятому Телятевскому большой кубок вина из своих рук. Потом принюхался и со смехом велел везти пострадавшего в баню – лечить медвежью болезнь. После чего задумчиво смотрел на пойманных медвежат, но ничего никому не сказал, а велел везти сироток в Москву, где устроить зверинец.
Все это рассказал Федьке дядька Ефим, разгоряченный и немного пьяный, потому как ему государь тоже налил чару, как, впрочем, и всем помещикам, принявшим участие в охоте. Он бы продолжал рассказ и далее, но тут появился царский кравчий Никита Вельяминов и сказал, что царь жалует всех еще доброй чарой хлебного вина. Возле терема поставили затянутый со всех сторон рогожей навес. Подле него сел в резном кресле государь, и все помещики по очереди подходили к нему и кланялись. После этого Вельяминов подавал подходившему чару и тот, провозгласив здравицу государю, выпивал и снова кланялся. Федька сначала глядел на развернувшееся действо с недоумением, а потом догадался, что за рогожей прячут связанного Косача, с тем чтобы он опознал голос своего таинственного покровителя. Потом прямо во дворе расставили наспех сколоченные столы и лавки и устроили пир. Угощали тут же приготовленною лосятиной и медвежатиной и многими наливками. Наугощавшихся паче меры помещиков, не выдержавших царской милости, растаскивали по амбарам, где укладывали спать на сене, укрыв шубами. Некоторых, впрочем, увезли по домам холопы. Федька весь пир вертелся рядом с теремом, рассчитывая хоть одним глазком увидеть Алену, но вместо этого наткнулся на царя, вышедшего из-за стола и о чем-то на ходу беседовавшего с сотником и кравчим.
– А, и ты тут, охотник, – сказал государь, увидев склонившегося боярского сына, – ну и как поохотился?
– Хорошо ваше величество, – ответил ему тут же вместо Федьки Михальский, – ни в чем не оплошал, а, напротив, делал все бойко и по уму.
– Что он боек, я ведаю, грамотен вот только не больно…
– Листы опросные, что я подавал, писал сей вьюноша, – почтительно возразил ему Корнилий.
– Вот как? – удивился царь. – Весьма изрядно. За такое усердие грех не наградить! Ты же местный? Сейчас езжай к своим, попрощаешься. Завтра поутру чтобы на месте был, выезжаем, а то загостились. Все, ступай!
Погрузив вместе с холопами захмелевшего дядьку на сани, Федька отправился домой, так и не увидев нигде Алену. Приехав и перетащив Ефима в терем, он отдал тетке тюк с доставшейся ему долей добычи. Тетушка, побурчавшая для порядка на своего благоверного, оживилась и тут же перебрала добро. Оставшись весьма довольна увиденным, она зачастила:
– Ой, Феденька, сколько всего-то!.. Есть, правда, и порченые вещички, а есть ну просто загляденье! Это куда ж теперь?
– Найдется куда, – ляпнул, не подумав, Федор, – вон сколь девиц на выданье. Нешто на приданое не сгодится?
Услышав о приданом, тетка с дочерями поняли все на свой лад. Если младшие захихикали, а Фроська донельзя смутилась, то тетка внимательно посмотрела на воспитанника и, что-то для себя решив, запела медовым голосом:
– И то верно, Феденька – мы, чай, не чужие, а будем и вовсе родными. Ты привози, если еще что будет, у нас ничего не пропадет, все сохраним.
Готовый провалиться сквозь землю, парень выскочил на крыльцо с пылающими щеками. Хотелось броситься с головою в сугроб, а сквозь неплотно прикрытую в сени дверь слышно было, как тетка высказывает дочерям:
– Чего зубы скалите, дуры? Порадуйтесь за сестру, каковой ей жених достался! И молод, и пригож, и в службе удачлив. Ваш отец не из каждого похода столько привозил, а этот и в походе еще не был, а с добычей приехал. Да не прогулял, по молодецкому обычаю, а все в дом, да о приданом для невесты и сестер названых позаботился…
Встав до свету и быстро оседлав коня, Федор собрался уезжать. О том, что его ждет служба, он предупредил еще с вечера, так что можно было не прощаться. Сил видеть семью дядьки не было никаких. «Им что ни скажи – все к сватовству приведет», – думал в отчаянии парень, выводя коня, и едва не налетел вместе с ним на хрупкую девичью фигурку, укутанную в дядькин тулуп.
– Фрося?!
– Я, Федя. Уезжаешь?
– Служба…
– Храни тебя Господь!
Федька немного помялся и, не зная, что делать, наклонился к девушке, чтобы поцеловать ее на прощанье в щеку, как, случалось, делал прежде, уезжая с дядькой. Однако Фрося подставила ему вместо щеки губы, и горячий поцелуй обжег его в темноте. Замерев от неожиданности, стоял Федор, пытаясь унять бьющееся как колокол на Иване Великом[19] сердце, а девушки уж и след простыл. Наконец уняв дыхание, парень вскочил в седло и дико, будто татарин, гикнув, погнал коня вскачь.
Подлетев на всем скаку к вельяминовскому терему, боярский сын наткнулся на всю сотню Михальского во главе с донельзя взбешенным Корнилием.
– Ночью Косача зарезали, – буркнул он в ответ на Федькин вопросительный взгляд.
– Кто? – охнул в ответ парень.
– Вот и мне интересно.
– Следы искали?
– Да какие следы! – вызверился сотник. – Тут натоптано кругом, будто вся рать хана крымского прошла!
Федька сконфуженно замолчал, но в голове тут же мелькнула иная мысль, и он снова спросил:
– Господине, а тать признал кого, когда государю здравицу говорили?
– Ишь ты, догадался… нет, не признал. Хотя все помещики здешние тогда голос подали.
– А Телятевский?
– Что Телятевский?
– Ну, его же государь в баню отослал?
– Тьфу ты, пропасть, а ведь и верно!
– Хотя…
– Что «хотя»?
– Господине, может, с татями помещик не сам дело вел, а через приказчика или еще кого. Разбойникам что: одет хорошо да голос властный – стало быть, боярин или помещик.
– Федор, тебе бы не сыском заниматься, а защитником в суде быть… Ладно, сейчас все одно уже ничего не поправить. Поехали дозором вперед, а государь следом поедет. Вон собирается уже.
– Государь знает?
– А ты думаешь, чего я тут такой «радостный»?
Вернувшись в Москву, я снова с головой окунулся в государственные дела. Первоочередной проблемой в моем богоспасаемом царстве было отсутствие денег. Причем отсутствие полное. Страна была разорена, хозяйство пришло в упадок, налоги, или, как их еще называли, подати, не поступали. Беспрерывно заседающий земский собор пытался найти решение, но ничего, кроме предложенного Мининым сбора пятины, придумать так и не мог. Пятина – это экстраординарный налог на все население царства, пятая часть всего имущества, имеющегося у подданных, в денежном выражении. Мера эта была сколь необходимой, столь и опасной. Претерпевшее многие муки за время Смуты население царства могло и взбунтоваться от очередного побора. Однако другого выхода все равно не было, разве что позвать одного рыжего баронета. Как мне доносили, представитель английской Московской компании Барлоу был в столице, однако аудиенции не просил и встречи с моими доверенными лицами не искал. Что-то затевал поганец, знать бы еще что.
Другой проблемой, решить которую нужно было немедленно, был местнический спор между Василием Бутурлиным и Борисом Салтыковым. Сии достойные воеводы, несмотря на то что войско, снаряженное на последние деньги для похода на Коломну, занятую Заруцким от имени «царицы» Марины Мнишек, было готово, затеяли очень интересную и занимательную игру. Выясняли, кто из них родовитее и, стало быть, должен стать главнее в предстоящем походе.
Я, говоря по совести, не придал этому поначалу никакого значения. С моей точки зрения, все было просто. Бутурлин стольник, а Салтыков только московский дворянин. Стало быть, чин Бутурлина выше, и вопрос о том, кто начальник – совершенно излишен. Оказывается, не тут-то было. Отцы обоих воевод были равны по чину, но что еще более важно, так уж получилось – среди их предков никто ни у кого в подчинении не был. Так что настал момент истины: кто сейчас окажется сверху, тот, равно как и все его потомки, так и будет начальствовать над потомками неудачника. Хотя у последнего был шанс отбояриться, отказавшись идти в поход вовсе. За это, конечно, попадет в опалу, но это дело житейское и на положение в дальнейшем не влияет. Мое благоволение или полное отсутствие такового ни малейшего значения не имели, ибо «царь жалует землею, а не отечеством!» По-хорошему, за назначениями должен был следить Разрядный приказ, ведущий как раз на такой случай подробные записи – кто, где и у кого в подчинении служил. Но после Смуты часть архивов пропала, часть находилась в небрежении, и вообще, царь-батюшка: вас выбрали – вот вы и думайте.
Так ничего для себя и не решив, я в сопровождении думских бояр отправился в Успенский собор. Другого здания, способного вместить делегатов земства, в столице все равно не было, так что заседания по-прежнему проходили в нем. Впрочем, участников явно стало меньше. Одни отъехали для выполнения различных поручений, другие просто вернулись домой, исчерпав средства к существованию. Для меня было неожиданностью узнать, что никакого жалованья делегатам не полагалось. Участие в соборе было государственной службой, причем довольно обременительной. Началось заседание, как обычно, с богослужения. Затем думный дьяк Траханиотов зачитал что-то вроде проекта постановления о сборе пятины. Как мне успели доложить, земцы обсуждали этот проект все время, пока я был на богомолье. Обсуждали бурно, даже пару раз подрались, но все-таки сошлись на том, что мера эта необходима.
– Что скажет дума? – обратился я к боярам.
– Что тут скажешь, государь, – вышел вперед Шереметев, – на святое дело не жалко.
– Ну, коли так, значит – с богом.
Траханиотов с поклоном подал мне развернутый свиток, начинавшийся словами: «Собор вся земли решил, бояре приговорили, а государь повелел…» Особенно бросался в глаза писанный золотом большой царский титул с перечислением всех княжеств и царств, входивших в государство, включая Великое княжество Мекленбургское. Другой дьяк принес золотую чернильницу с пером, и я, затаив дыхание, начал выводить под текстом документа латынью: «IOAN». Слава тебе господи, на сей раз обошлось без клякс, и заулыбавшийся дьяк тут же посыпал подпись песком, затем сдул, после чего князь Мстиславский приложил под нею красновосковую печать.
Первое дело было сделано, и вперед вышли Бутурлин с Салтыковым. Первым начал говорить Бутурлин:
– Государь, ты повелел мне вместе с Бориской Салтыковым идти на вора, что сидит в Коломне и разоряет окрестные земли. А оный Бориска твоей государевой воле перечит, и оттого твоему царскому делу урон превеликий…
– В жизни того не бывало, чтобы Салтыковы под Бутурлиными ходили! – визгливым голосом прервал его спич второй ответчик. – Помилуй, государь, – невместно мне под Васькой ходить! Мы, Салтыковы, завсегда выше Бутурлиных сидели.
– Это когда же ты, пес смердящий, выше меня сидел?! – распалился в ответ стольник. – Еще отец мой бывал первым воеводой и в Большом, и в Сторожевом, и в полку Правой руки. А в твоем роду выше второго воеводы николи не поднимались!
– Ах ты, аспид брехливый, – не остался в долгу дворянин. – Да как у тебя бельма не повылазят от того, что ты царю врешь! Отродясь отец твой не бывал первым воеводой в Большом полку, а токмо вторым!
– А твой и таковым не был!
– А ты!.. А ты….
– Унять лай! – приказал я, строго глядя на спорщиков. – Вы когда должны были выступить? То-то, что неделю назад, – а за сию неделю сколь войску жалованья, да кормов, да прочего ушло, а дела ни на полушку не сделано! Паче того, сколько вор Ивашка Заруцкий за время сие погубил душ христианских да иного разору принес земле русской? Чей грех будет, я вас спрашиваю? Того ради, что не желаю в начале своего царствования объявлять своим подданным опалы, велю в походе сем быть без мест. Все ли ясно?
– Прости, государь, но все одно невместно Салтыковым под Бутурлиными ходить! – продолжал перечить московский дворянин.
Услышав это дерзкое заявление, присутствующие ахнули, и в наступившей тишине обернулись ко мне, ожидая реакции.
– Государь, дозволь слово молвить? – подал голос Иван Никитич Романов, ведающий Разбойным приказом, очевидно желая разрядить обстановку.
– Говори.
– Не гневайся, государь, а только, может, войска не надо посылать?
– Это как же?
– Да тут такое дело, поймали намедни лазутчика на Москве, а при нем письмо.
– Что за письмо – прелестное[20], поди, к бунту и смуте подбивающее?
– Да нет, государь, к тебе то письмо, от жены самозванца, Маринки Мнишек.
– Вот как, и чего пишет?
– Да кто же его знает, государь, нешто мы могли без тебя его прочитать? Но мыслю – может, она повиниться хочет и смуту прекратить?
– Иван Никитич, – понизил я голос, – ты ополоумел, поди? Надо же было хоть предупредить, а то мало ли что там написано! Ладно, читайте.
Вперед снова вышел дьяк, приносивший мне чернильницу, и, сломав на письме печать, развернул его. Дальше случилась заминка: послание было писано на латыни, а ее дьяк не знал. Я хотел было взять письмо в руки и прочитать сам, но к дьяку вдруг бестрепетно подошел какой-то монах и, вопросительно глядя на меня, произнес:
– Коли дозволишь, государь, зачту. Я грамоте латинской вельми горазд.
Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться, и тот начал чтение, попутно переводя:
«Великому герцогу Мекленбургскому Иоганну Альбрехту, ложно именующему себя русским царем.
Вот уже несколько лет как я, венчаная жена последнего законного русского государя, скрываюсь от своих бунтующих подданных, пытаясь спасти его законного наследника царевича Иоанна Дмитриевича. Одному Богу известно, сколько претерпели мы с сыном разных лишений в наших скитаниях. Самые верные наши сторонники предавали нас, но едино лишь заступничеством Пресвятой Девы Марии спасались мы от наших врагов. Но горше всего было нам узнать, что великий и славный рыцарь, каковым мы всегда почитали ваше королевское высочество, забыв о шляхетской чести, употребляет все силы, чтобы лишить живота и достояния бедную вдову и сироту. Разве не ведомо вам, Иоганн Альбрехт, что не можно выбирать на царство иного человека, когда жив законный наследник? Разве можно доверять выбор царя в такой стране, как Московское царство, черным крестьянам и разбойникам, как это случилось на балагане, который назвали земским собором?
Молю вас: если осталась в вас хоть капля рыцарства, употребите ваши силы не на разбой и узурпацию власти, а отказавшись от ложного титула царя, провозгласите государем единственного законного наследника московского престола Иоанна Дмитриевича.
Царица Московская и всея Руси Марина».
В тишине, наступившей в соборе, казалось, было слышно, как потрескивают свечи перед образами святых. Все собравшиеся вопросительно повернули головы в мою сторону, ожидая ответа. Я, матеря про себя последними словами Романова, изобразил глубокую задумчивость. Тем временем действо еще не закончилось: читавший послание Марины монах покачнулся и, издав нечленораздельный звук, опустился на пол. Из уст собравшихся одновременно вырвался крик ужаса, а следом на пол упал и дьяк, сломавший перед тем печать. То, что произошла попытка отравления, стало очевидно.
– Всем стоять! – закричал я собравшимся. – Грамоту подденьте кинжалом и со всем бережением отправьте к моему лекарю О’Конору. Заседание на сегодня закрыто, всем молиться за своего государя, потом проверю! Иван Никитич, а ты куда?
Вечером в Грановитой палате собрались все думцы. Бояре встревоженно кучковались по разным углам, потихоньку шушукаясь. Некоторые сочувственно, а иные злорадно поглядывали на сидящего с потерянным лицом Ивана Никитича Романова. Когда я зашел, все вскочили с лавок и повалились в ноги.
– Встаньте, бояре, пол холодный.
Думцы подняли головы и едва не охнули. За моей спиной стояли не привычные рынды, а вооруженные драбанты.
– Послушайте меня, бояре! – начал я свою речь. – Завтра утром я выступаю на Коломну со своим полком. Войско, которое для того собрано, поведет Василий Бутурлин, с тем дабы перехватить воров, коли попытаются уйти из Коломны. Бориса Салтыкова сегодня же выдать головою стольнику Василию на бесчестье. А за то, что он государево повеление не исполнил да местничество затеял, наложить на него штраф в две тысячи рублей серебром. А деньги те положить в казну Большого дворца и употребить на снаряжение государева полка к походу на Смоленск. Все ли на сей счет понятно?
– Понятно, государь, – поклонился Мстиславский, – кому прикажешь Москвой ведать в свое отсутствие?
– Тебе, князь, а в помощь у тебя будет князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Хоть вы-то с ним местничать не станете?
– Как можно, государь…
– Тебе, князь, велю ведать делами земскими, – прервал я его, – а Пожарскому – ратными. Боярину же Шереметеву поручаю все дела о сборе пятины с царства, а в товарищах у него велю быть думному дворянину Минину. Пусть разошлют во все концы верных людей с тем, чтобы делу государеву убытка никакого не было. Однако и разорения такоже допускать не велю. Паче положенного чтобы ни одной деньги не взяли.
– Сделаем, государь, – поклонились Шереметев и Минин.
– Теперь ты, Иван Никитич, – обратился я к Романову, – сам ведаешь, что за такую промашку с тебя шапку боярскую впору снять, да вместе с головою. Однако вижу в случившемся перст божий, который правоту дела моего лишь и показывает. Посему никакой опалы на тебя накладывать не буду, но впредь знай: за следующий недогляд вспомню и про сегодняшнее. Внял ли, боярин?
– Спасибо, государь, – рухнул на колени Романов, – я отслужу….
– Отслужишь, куда же ты денешься.
Надо сказать, что последняя сцена была спектаклем. Все, что считал нужным, я высказал боярину еще днем в Разбойном приказе с глазу на глаз. Допрос разбойника ничего не дал: если он что и знал о попытке отравления, то унес эти знания с собой в могилу. То, что Иван Никитич не причастен к покушению, тоже было очевидно. Случись надобность, этот жук придумал бы чего похитрее. Разумеется, произошедшее проходило по списку как преступная халатность, но Романов был одним из самых преданных моих сторонников. Пристроить его на плаху – дело нехитрое, но на его место придется ставить другого боярина, и не факт, что тот будет умнее или преданнее. Так что мы договорились, что я его для порядку немного накажу, а он пусть сделает вид, что кровно обиделся. Глядишь, и объявятся недовольные результатами выборов царя. Так что попытаемся извлечь из случившегося максимум пользы. И острастки немного, и наживка для недовольных, и Романов, глядишь, другой раз поумнее будет. А других Талейранов у меня нет.
Расстояние от Москвы до Коломны невелико. Отдельные отряды воровских казаков в поисках добычи нередко набегали на окраины столицы, пользуясь недостатком сил у законной власти. По донесениям лазутчиков, у Заруцкого и примкнувших к нему атаманов под командой было около шести тысяч казаков. Впрочем, более-менее верных тушинскому вождю было никак не более двух с половиной тысяч. Остальные просто примкнули к удачливому атаману в надежде пограбить, и отвернутся от него при первой же неудаче. Отряд Бутурлина должен был изначально состоять из тысячи человек поместной конницы и трех тысяч наемных казаков. Сил этих было, скорее всего, недостаточно для полного разгрома воровских шаек. Однако, планируя этот поход, мы надеялись, что Заруцкий, как всегда, отступит, не принимая боя. Теперь задача изменилась: после публичного вызова, сделанного мне Мариной и Заруцким, мне нужна была только полная победа. К тому же, поразмыслив, я пришел к выводу, что отступление воровских казаков может быть хуже нашествия. Ограбят и разорят то, что еще не успели. Займут, чего доброго, какой-нибудь город на Волге или даже Астрахань и перекроют мне всю торговлю. Ее, собственно, и так пока нет, но такими темпами еще долго не будет.