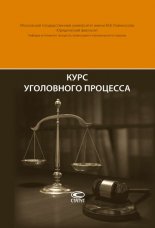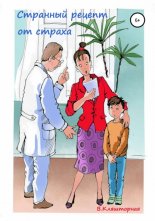Тысяча осеней Якоба де Зута Митчелл Дэвид

– Он уходить на берег на один час, – объясняет Мотоги. – Навестить сильно больная матушка.
Фишер насмешливо фыркает:
– Я знаю, с кого я бы начал расследование!
– Что именно пропало? – спрашивает ван Клеф.
– К счастью, оставшаяся ртуть – возможно, за ней и охотились воры – хранится в пакгаузе Эйк под тремя замками. Карманные часы у меня были при себе, так же как и очки, хвала Господу. Поэтому на первый взгляд кажется, ничего не пропало…
– Боже всемилостивый! – Ворстенбос набрасывается на Кобаяси. – Мало нас во время обычной торговли грабит ваше правительство, чтобы еще снова и снова к нам врывались похитители? Явитесь через час в Длинный зал, я продиктую официальную жалобу в городскую управу и приложу к ней полный перечень украденного…
– Готово. – Кон Туми, приладив дверь на место, переходит на невнятную ирландско-английскую речь. – Если эти засранцы хреновы опять сунутся, пусть стену к хренам ломают!
– Кто такие «ранцы реновы»? – спрашивает Якоб, подметая опилки.
Плотник стучит по притолоке:
– Сундук завтра налажу, будет как новенький. Вот же свинство, скажите? И средь бела дня!
– Руки-ноги на месте, и то хорошо. – Якоб еле жив от беспокойства за Псалтирь.
«Если воры ее забрали, могут додуматься и до шантажа».
– Вот это правильно, – одобряет Туми, заворачивая инструменты в клеенку. – Пока, за обедом увидимся!
Ирландец уходит, а Якоб, закрыв дверь на щеколду, сдвигает с места кровать…
«Неужели это Гроте заказал ограбление, в отместку за женьшень?»
Якоб поднимает половицу и, улегшись на живот, тянется за обернутой в мешковину книгой.
Пальцы нащупывают Псалтирь, и от облегчения перехватывает горло. «Хранит Господь любящих Его». Якоб укладывает доску на место и садится на кровать. Он в безопасности, Огава в безопасности. Почему же такое чувство, что он упустил нечто очень важное? «Так иногда чувствуешь, что в бухгалтерской книге скрывается ложь или ошибка, хотя общий итог вроде бы сходится…»
По ту сторону площади Флага начинают стучать молотки. Плотники сегодня припозднились.
«Разгадка прячется на самом виду, – мыслит Якоб. – Средь бела дня». И вдруг правда обрушивается на него, словно груда камней: вопросы Кобаяси по сути – замаскированная похвальба. А взлом – шифрованное послание. «Ты посмел перейти мне дорогу, и вот последствия, они совершаются средь бела дня, пока ты пребываешь в блаженном неведении. Ты немощен против меня, ничем не можешь ответить, ведь найти неопровержимые доказательства тебе не удастся». Кобаяси намекал, что ограбление – его рук дело, и в то же время сам оказался вне подозрений: ведь во время совершения кражи он был на глазах у ограбленного! Если Якоб сообщит властям о зашифрованных намеках, его примут за сумасшедшего.
Жара понемногу спадает. Шум за окном затих. Тошнота подступает к горлу.
«Он хочет отомстить, это да, – рассуждает Якоб, – но чтобы позлорадствовать, нужна ценная добыча».
Что еще компрометирующего, кроме Псалтири, можно у него украсть?
Жара наваливается вновь. Грохот на улице возобновляется с новой силой. Отчаянно болит голова.
«Последние рисунки в альбоме, – догадывается он, – у меня под подушкой…»
Весь дрожа, Якоб сбрасывает подушку с кровати, хватает альбом, трясущимися руками дергает завязки, раскрывает сразу в конце и давится вдохом. Перед глазами – зубчатый край неровно оторванной страницы. Здесь были наброски лица, рук и глаз барышни Аибагавы. Сейчас Кобаяси, совсем недалеко отсюда, со злобным торжеством рассматривает эти изображения…
Якоб зажмуривается, но только отчетливей видит ужасную картину.
«Пусть это будет неправда», – молится Якоб, однако на этот раз молитва, скорее всего, остается без ответа.
Слышно, как внизу открывается дверь. Кто-то медленно поднимается по лестнице.
Такая удивительная редкость, как визит Маринуса, едва ли способна поцарапать алмазные грани секретарского горя. «Что, если ей запретят учиться на Дэдзиме?»
По двери стучит увесистая трость.
– Домбуржец!
– Доктор, с меня на сегодня, пожалуй, хватит незваных гостей.
– Открывайте сейчас же, вы, деревенский дурачок!
Проще открыть.
– Поглумиться пришли?
Маринус окидывает комнату взглядом и, присев на подоконник, смотрит в отчасти застекленное, отчасти затянутое бумагой окно. Распускает и снова завязывает шнурок, стягивающий его пышную седую шевелюру.
– Что украли?
– Ничего… – Он вспоминает ложь Ворстенбоса. – Ничего ценного.
– В случае ограбления, – Маринус покашливает, – я прописываю курс бильярда.
– Доктор, вот уж бильярдом, – отвечает Якоб торжественно, – я сегодня заниматься совершенно не намерен.
Под ударом кия шар Якоба пролетает через весь бильярдный стол и, отразившись от бортика, замирает в двух дюймах от противоположного края – на ладонь ближе, чем шар Маринуса.
– Доктор, за вами первый удар. До скольких очков играем?
– Когда мы играли с Хеммеем, назначали предел в пятьсот одно очко.
Элатту выжимает лимон в стаканы матового стекла; в воздухе разливается благоухание. По бильярдной в Садовом доме гуляет ветерок.
Маринус, весь сосредоточенный, готовится к первому удару…
«С чего вдруг такая доброта?» – недоумевает Якоб.
…Доктор не рассчитал удар и попал по красному шару, а не по битку Якоба.
Якоб с легкостью забирает оба шара – и свой, и красный.
– Я запишу счет?
– Вы же у нас бухгалтер, вам и книги в руки. Элатту, свободен на сегодня.
Элатту, поблагодарив хозяина, исчезает. Секретарь проводит быструю серию ударов, и количество набранных им очков достигает пятидесяти. Глухой стук бильярдных шаров успокаивает взволнованные нервы. «Потрясение из-за грабежа сбило меня с толку, – уговаривает он сам себя. – Не поставят же в вину барышне Аибагаве, что ее нарисовал чужестранец – даже здесь это не может считаться преступлением. Она ведь не позировала мне тайком».
Набрав шестьдесят очков, Якоб уступает место у стола Маринусу, думая про себя: «Один-единственный листок с набросками вовсе не доказывает, что я увлечен этой девушкой».
К его удивлению, доктор оказывается весьма посредственным игроком.
«Да и не подходит здесь это слово – увлечен», – мысленно поправляет себя Якоб.