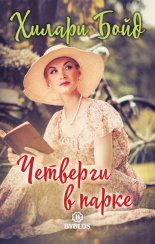Изобретение науки. Новая история научной революции Вуттон Дэвид
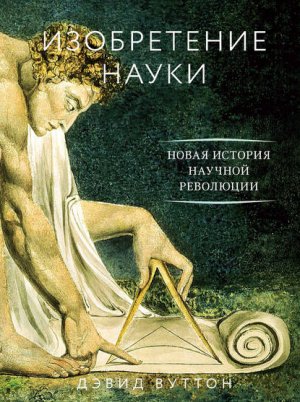
15. В защиту науки
Если бы предметом нашего спора было какое-нибудь положение юриспруденции или одной из других гуманитарных наук, где нет ни истинного, ни ложного, то можно было бы вполне положиться на тонкость ума, ораторское красноречие и большой писательский опыт в надежде, что превзошедший в этом других выявит и заставит признать превосходство защищаемого положения. Но в науках о природе, выводы которых истинны и необходимы и где человеческий произвол ни при чем, нужно остерегаться, как бы не стать на защиту ложного, так как тысячи Демосфенов и тысячи Аристотелей восстанут против всякого заурядного ума, если даже ему посчастливится открыть истину. Поэтому, синьор Симпличио, откажитесь лучше от мысли и надежды, что могут найтись мужи много более ученые, начитанные и осведомленные в книгах, чем мы, все прочие, и что наперекор природе они смогут сделать истинным то, что ложно.
Галилей. Диалог о двух системах мира (1632){1129}
У Шекспира не было – если вернуться к комментарию Борхеса, с которого начинается эта книга, – чувства истории. Он воспринимал классических авторов как своих современников. Он видел множество перемен, иногда к худшему, иногда к лучшему, но не имел представления о неотвратимых переменах или прогрессе. И это неудивительно, поскольку в его мире почти не было заметно признаков прогресса; когда Шекспир в 1613 г. отошел от дел, Бэкон опубликовал только одну свою книгу о новой науке, «О пользе и успехе знания» (1605), а после публикации открытий Галилея, сделанных при помощи телескопа, прошло всего три года. Но с тех пор прогресс уже было не остановить. Я не вижу причины спорить с Джоном Стюартом Миллем, который считал, что главными движущими силами экономического развития был «вечный и, насколько может простираться человеческое предвидение, неограниченный рост власти человека над природой» и что (как мы видели в главе 14) эта власть является результатом расширения научного знания{1130}.
Вокруг использования слова «прогресс» образовались разного рода табу; и действительно, это слово больше не может использоваться в гуманитарных науках, не подвергаясь наказанию со стороны того, что Пьер Бейль назвал «законом мнения», и в мире науки это серьезная санкция, поскольку означает отказ в должности или в продвижении по службе[311]. Поэтому позвольте подчеркнуть, что в этом вопросе мое мнение совпадает с мнением многих яростных критиков идеи прогресса. Вот что пишет философ Джон Грей в книге с подзаголовком «Против прогресса и других иллюзий»: «В науке прогресс является фактом, в этике и политике – это суеверие. Ускоряющееся развитие научных знаний питает технические инновации, порождая беспрерывный поток новых изобретений; оно стоит за стремительным ростом численности людей за последние несколько сотен лет. Мыслители-постмодернисты могут оспаривать научный прогресс, однако он, несомненно, реален»{1131}.
Эти взгляды считаются общепринятыми. Как в 1936 г. сформулировал Джордж Сартон, основатель Американского общества истории науки и его журнала Isis: «История науки – единственная история, которая может проиллюстрировать прогресс человечества. На самом деле у прогресса нет такого определенного и бесспорного значения в других областях, как в области науки»{1132}. Такие заявления привели к тому, что Сартона стали цитировать только для того, чтобы показать, какими мы были наивными. Репутация Александра Койре пострадала меньше, чем репутация Сартона, однако годом раньше он говорил о том же: история науки, настаивал Койре, является «единственной историей (вместе со связанной с ней историей техники), которая дает какое-либо представление об идее прогресса, которую так часто превозносят и так часто ругают»{1133}.
Сартон и Койре были правы. Без концепции прогресса история современной науки не в состоянии отобразить уникальную особенность науки. Более того, об этом знают лучшие из тех, кого относят к «релятивистам». Кун отрицал прогресс науки в направлении истины[312] или даже способность понять истину, но настаивал, что для идеи прогресса в науке всегда должно быть место, хотя испытывал большие трудности с объяснением, как такое возможно{1134}. Последняя глава его книги «Структура научных революций» называется «Прогресс, который несут революции». В ней автор пишет, что «некоторый вид прогресса будет неизбежно характеризовать науку как предприятие, пока она существует», а далее утверждает, что прогресс следует понимать в терминах эволюции{1135}. Ричард Рорти, отважный защитник прагматизма, восхищался Куном и, подобно Куну, признавал прогресс науки в ее собственных терминах: «Сказать, что мы думаем, что движемся в правильном направлении, – это значит просто сказать вместе с Куном, что мы можем, оглядываясь назад, рассказать о прошлом как об истории прогресса»{1136}. Форма знания, ставящая перед собой цель предсказания и управления, добивается успехов на этом пути. Прогресс является неотъемлемой частью истории. Эта книга направлена не против смягченного релятивизма Куна или Рорти, а против жесткого релятивизма, который представляет прогресс в науке иллюзией, следствием непонимания того, что происходит, когда ученые не соглашаются друг с другом. Публика – и сами ученые – думают, что результат определяется качеством свидетельств; на самом деле, утверждают релятивисты, основными факторами являются статус, влияние и риторические способности сторон в споре.
Этот акцент на случайность и локальный характер научного знания поддерживается тем, что многие считают чрезвычайно серьезным философским аргументом, так называемым тезисом Дюэма – Куайна, названного по имени физика и историка науки Пьера Дюэма (1861–1916) и американского философа У. Куайна (1908–2000){1137}. Название вводит в заблуждение, поскольку Дюэм не высказывал его в современной формулировке, а Куайн отказался от него, однако этот тезис стал основой большей части современной истории и философиинауки[313].
Сам тезис состоит из двух положений. Во-первых, утверждается, что научная теория не может быть опровергнута экспериментом, причем не просто одиночным экспериментом, независимо от количества повторений, но и целой серией разных экспериментов. Научные теории представляют собой сложные системы, состоящие из ряда взаимосвязанных теорий, фактов и оборудования. Если результат эксперимента противоречит теории, значит, что-то в ней неверно, однако нельзя однозначно утверждать, что теория ошибочна. Может быть, неверна какая-либо другая теория, составляющая основу данной, или может оказаться ошибочным некий факт, принимавшийся за данность, или оборудование может работать не так, как предполагалось. Поэтому результаты экспериментов не могут опровергать теорию. Такая точка зрения называется «холизм».
Но давайте обратимся к примеру путешествия в Америку. В сущности, это был эксперимент, причем ключевой: он прямо опровергал теорию двух сфер. Единственный способ спасти теорию в свете новых свидетельств – заявить, что все мореплаватели ошиблись: Америка не там, где они думают. Никто не считал подобную аргументацию разумной. Это не озадачило бы Дюэма, который сформулировал свой тезис лишь применительно к современной физике и признавал, что он неприменим, например, к биологии XIX в.
Во-вторых, утверждается, что теории очень слабо связаны с фактами. Для каждого конкретного набора фактов существует бесчисленное множество теорий, подобно тому как между двумя точками можно провести бесконечное число линий. Это означает, что ученые не обязаны (хотя они могут этого не осознавать) принимать любую конкретную теорию – всегда существуют альтернативные, которые работают не хуже, а возможно, и лучше[314]. Разумеется, факты и теории тесно связаны: то, что считается фактом, зависит от теории, которой вы придерживаетесь, а признание теории достоверной базируется на признании фактов. Такого рода неоднозначные, туманные и в то же время тесные взаимоотношения между теориями и фактами называются принципом недоопределения.
И вновь пример с открытием Америки позволяет выявить проблемы с принципом недоопределения: мы видели, что Боден предложил альтернативную теорию земного шара, но она оказалась нежизнеспособной, и ее никто не поддержал. Теория земного шара не была недоопределенной; в данном случае взаимоотношения между теорией и фактами были однозначными. То же самое справедливо в отношении фаз Венеры: после того как их существование было признано, вывод о том, что Венера вращается вокруг Солнца, стал неизбежным.
Именно эти два принципа – холизм и недоопределение – имеют в виду, когда апеллируют к тезису Дюэма – Куайна. Стандартный аргумент состоит в том, что этот тезис доказывает: свидетельства не определяют, что ученые считают истиной; следовательно, научные убеждения формируются в первую очередь культурными и социальными факторами. Если наука в значительной мере определяется культурой, то мы приходим к уже знакомому выводу: ее процедуры и выводы будут отражать исключительно локальный консенсус[315]. Это убеждение является еще одной причиной утверждать, что в XVII в. не было никакой научной революции. Нас убеждают, что наука во Флоренции существенно отличалась от науки в Париже или Лондоне. Историки стремятся блокировать очевидное возражение – ученые в Лондоне читали книги, написанные учеными Флоренции и Парижа, и поэтому принадлежали к одному интеллектуальному сообществу, – настаивая на том, что разные читатели по-разному воспринимали книги, и поэтому изучение работ Галилея во Флоренции в 1640-х гг. значительно отличается от изучения этих же работ в Лондоне в 1660-х гг.{1138}
Такое противопоставление местных смыслов и космополитических посланий вполне разумно. Нужно только найти баланс. Галилей мог никогда не покидать Италию, но среди его учеников были англичане и шотландцы, его работа «Две новые науки» впервые была издана в Лейдене. Уильям Гарвей, открывший кровообращение, изучал медицину в Падуе, Рене Декарт переехал из Франции в Голландию, Христиан Гюйгенс – из Голландии во Францию, Томас Гоббс – из Англии во Францию. Роберт Бойль работал в Оксфорде и Лондоне, но приезжал в Италию и выучил итальянский, а его хороший знакомый, Дени Папен, работал во Франции, Англии, Италии и Германии. И разумеется, у всех первых ученых был общий язык. Галилей опубликовал свой трактат «Диалог о двух системах мира» на итальянском языке в 1632 г., но в 1635 г. появился латинский перевод; «Новые физико-механические опыты касательно упругости воздуха» Бойля вышли на английском в 1660 г., а на латыни – в 1661 г.; Ньютон опубликовал «Оптику» на английском в 1704 г, а на латыни – в 1706 г. Из первых 550 членов Королевского общества, избранных в период с 1660-х по 1700-е гг., семьдесят два человека были иностранцами (в XVIII столетии эта доля увеличилась, достигнув одной трети){1139}. Новая наука не знала границ языка или национальности, по крайней мере в Западной Европе – в мире, где существовали печатный станок, огнестрельное оружие, телескоп и маятниковые часы.
Мягкая интерпретация тезиса Дюэма – Куайна ведет к смешанному конструктивизму, в котором в формировании научных убеждений участвуют как свидетельства, так и культура{1140}. Примером подобных взглядов может служить «Коперниканская революция» (1959) Куна. По мнению Куна, коперниканство одержало верх над альтернативными системами (Птолемея и Тихо Браге) до изобретения телескопа, но это не может быть объяснено только математическим изяществом системы Коперника; важную роль могли сыграть и другие факторы, например неоплатонизм, подталкивающий людей к поклонению Солнцу[316]. Другой пример – стремление Ньютона принять идею действия на расстоянии. Картезианцы считали теорию тяготения Ньютона бессмысленной, но в Англии, где картезианство всегда принималось с оговорками и где получили признание аргументы замысла, сопротивление этой теории было гораздо слабее. Но после того как наука окончательно отвоевала себе место под солнцем, она стала в значительной степени независимой, нечувствительной к влиянию других факторов{1141}. Это вовсе не значит, что наука не формируется культурой или свидетельствами, но культура, которая ее формирует, – это в первую очередь культура самой науки. Например, Кеплер был знаком с работами Гильберта по магнетизму и поэтому мог использовать магнитную силу в качестве образца и на этой основе сформулировать законы движения планет: благодаря Гильберту Кеплер получил возможность рассматривать в качестве основы астрономии не геометрию, а физику. Ньютон в Англии мог выдвинуть свою теорию тяготения, но лишь потому, что у него уже была (в отличие от картезианцев) концепция теории: это нечто большее, чем гипотеза, но отличное от доказательства.
Бескомпромиссная интерпретация тезиса Дюэма – Куайна ведет к заключению, что наука – исключительно социальное явление или, по крайней мере, должно рассматриваться таковым, и что реальность (исток Дуная, существование Америки, фазы Венеры) не должна заботить историков и социологов. Если это действительно так, то у нас нет способа отличить хорошую науку от плохой, поскольку все теории являются (или должны считаться) в равной степени адекватными (это называется «когнитивный эгалитаризм»), и поэтому бессмысленно говорить о прогрессе в науке[317]. Я называю такую точку зрения релятивизмом[318]. Довольно долго бескомпромиссная интерпретация занимала ведущее положение в истории науки. Именно из-за тезиса Дюэма – Куайна в этой интерпретации такие важные исторические события, как крушение теории двух сфер или геоцентризма Птолемея, оставались невидимыми для тех, кто был убежден в справедливости тезиса. Его сторонники ведут себя точно так же, как философ Чезаре Кремонини, отказывавшийся смотреть в телескоп Галилея: они держатся за свои убеждения, даже когда свидетельства доказывают их неправоту, при этом просто игнорируя все, что не укладывается в их теорию.
Точно такой же релятивистский подход использовался в отношении фактов, а не только теорий, поскольку зачастую трудно отличить одно от другого. По словам Яна Хакинга, не существует согласия по измерению основополагающих величин, таких как скорость света{1142}. В доказательство он приводит тот факт, что первый человек, измеривший скорость света, получил не такой результат, которым мы руководствуемся сегодня, и на этом основании называет «ужасным» аргумент о неизбежности согласия относительно скорости света. На самом деле «ужасным» является аргумент Хакинга (что нетипично для него), и для того, чтобы это понять, достаточно взглянуть на свидетельства.
Хакинг, следуя общепринятой точке зрения, считает, что первым измерил скорость света астроном Оле Рёмер (1644–1710). На самом деле Рёмер не вычислял значение скорости света{1143}. Его целью было точное вычисление периодов обращения спутников Юпитера (затмения спутников использовались для задания стандартного времени, относительно которого измерялась долгота в различных точках на поверхности Земли). На основании небольшого числа наблюдений Рёмер сделал вывод, что, когда Земля находится на максимальном расстоянии от Юпитера, момент затмения задерживается на двадцать две минуты по сравнению с тем, когда расстояние между двумя планетами минимально. Таким образом, свету требуется двадцать две минуты для пересечения орбиты Земли, или одиннадцать минут для преодоления расстояния, равного радиусу орбиты (то есть расстояния от Земли до Солнца). Утверждение о том, что Рёмер измерил скорость света, предполагает использование этого расстояния, чего Рёмер никогда не делал (нет никаких оснований предполагать, что он считал надежной любую доступную ему величину)[319]. Непосредственное измерение скорости света было выполнено гораздо позже, в XIX в. В приведенных ниже двух таблицах сведена история этих двух видов измерений{1144}.
Время, за которое свет преодолевает расстояние от Солнца до Земли
Цифры Ньютона не основаны на независимых измерениях, а являются лучшими, по его мнению, из доступных в то время.
Кассини считал, что свет распространяется мгновенно, но, подобно Рёмеру, определил величину поправки, которую следует использовать при вычислении времени затмения лун Юпитера, и эту величину использовали другие для вычисления скорости света.
Средняя величина, поскольку орбита Земли представляет собой эллипс.
Скорость света
В настоящее время эта величина верна по определению, поскольку с 1983 г. длина метра определяется из величины скорости света, а не наоборот.
Из этих таблиц можно сделать два вывода. Во-первых, достаточно точное значение времени, за которое свет проходит расстояние от Солнца до Земли, стало доступно через семнадцать лет после результата Рёмера: одиннадцать минут. Во-вторых, точность измерения скорости света существенно повышалась до 1928 г, а затем установилась вокруг одного значения, которое в настоящее время считается почти точным; прогресс возобновился в 1950 г., и после этого измеренная величина практически не менялась[320].
«Ужасным» аргумент Хакинга является потому, что он берет одно отдельное значение, самое первое в длинной череде попыток измерить скорость света. Естественно, полученная Рёмером величина времени, за которое свет преодолевает расстояние от Солнца до Земли, является лишь грубым приближением! Но наукой занимаются не отдельные люди; как показано в главе 8, это коллективное предприятие, в котором прогресс определяется конкуренцией (и сотрудничеством){1145}. И действительно, королевский астроном Джон Флемстид отметил, что в отношениях между таким признанным авторитетом, как Кассини, и выскочкой Рёмером присутствовали «подражание» и даже неприязнь{1146}. Со временем конкуренция обеспечивала прогресс. Конечно, конкуренция несовершенна, и ученые могут выбрать неверный путь, но в конечном итоге хорошие результаты вытеснят плохие[321]. Утверждение, что инопланетяне, обладающие достаточно развитой техникой, придут приблизительно к такой же величине скорости света, что и мы, звучит вполне логично. Вопрос о величине скорости света не просто случайность, придуманная для развлечения физика-теоретика: он возникает перед всеми, кто хочет с высокой точностью предсказать расположение планет, независимо от того, является ли его целью астрология, измерение времени (как в случае Рёмера) или космическая навигация[322].
В ответ на эти аргументы релятивист сказал бы, что нет никакой причины считать, что ученые добились большей точности в измерении скорости света; они просто добились успехов в согласии, как измерять скорость света. Совершенно очевидно, что это ошибочное суждение, поскольку проверкой точности измерения скорости света служит тот факт, что в сочетании с законами Кеплера она позволяет предсказать положение планет на небе. Значение Рёмера не выдерживает проверки, а современные значения выдерживают. Тем не менее классический пример подобной аргументации содержится в эссе Саймона Шаффера «Стекольная работа: Призмы Ньютона и польза эксперимента» (Glass Works: Newton’s Prisms and the Uses of Experiment, 1989). Шаффер утверждает, что, вопреки общепринятому мнению, Ньютон своим экспериментом не продемонстрировал, что белый свет состоит из лучей разного цвета, которые преломляются по-разному, поскольку его эксперимент мог быть успешно воспроизведен только при случайных и нелогичных обстоятельствах (например, при использовании призм, изготовленных в Англии). Предполагаемое открытие Ньютона утвердилось в научном сообществе потому, что Ньютон «приобрел контроль над социальными институтами экспериментального авторитета». Его авторитет стал «огромным». Мы верим в ньютоновскую теорию цвета не благодаря экспериментальным свидетельствам, а вопреки им; мы верим в нее потому, что Ньютон успешно навязал себя научному сообществу, и затем были «поставлены» эксперименты, чтобы обеспечить требуемые результаты{1147}. Сегодня эксперименты Ньютона даются нам уже в готовом виде, чтобы их можно было воспроизводить для обучения детей в школе, но происходит это из-за оборудования, изобретенного для получения нужного результата.
Можно предположить, что Шаффер или его читатели отвергнут эти аргументы как по сути своей невероятные. Что они должны вспомнить о самых разных технических устройствах, принципы работы которых основаны на ньютоновских теориях рефракции и света: это зеркальный телескоп, изобретенный самим Ньютоном, который позволял избавиться от проблемы разного преломления цветов, что приводило к цветному ореолу вокруг контуров наблюдаемых объектов, а также цветное телевидение, которое получило широкое распространение за двадцать лет до появления статьи Шаффера и которое позволяло получить всю палитру цветов из трех: красного, зеленого и синего. Наоборот, утверждения Шаффера были восприняты как общепринятая теория науки – то есть что в ней все решают не доказательства, а власть и убеждение. Его эссе восхищались, потому что оно якобы демонстрировало, что сильную теорию можно воплотить в жизнь: можно написать историю того, что мы теперь считаем настоящей наукой (новую теорию света Ньютона), используя те же интеллектуальные мтоды, которые использовали бы для написания истории того, что считается ненастоящей наукой (скажем, алхимии). К сожалению, «поставлены» для получения нужных результатов были свидетельства Шаффера, а не Ньютона. Шаг за шагом, аргумент за аргументом, рассуждения Шаффера были опровергнуты Аланом Шапиро в 1996 г.: выяснилось, что огромное количество людей успешно воспроизвели эксперимент Ньютона, не испытав никаких трудностей и не имея никакой нужды в фальсификации результатов. Но после 2000 г. на семь цитирований работы Шаффера приходится всего два цитирования работы Шапиро, и разрыв не уменьшается, а растет – за последние четыре года соотношение изменилось на десять к двум. Ненастоящая наука вытеснила настоящую – по крайней мере, временно{1148}.
Эссе Шаффера никак нельзя назвать единичным случаем. Существует большая группа интеллектуалов, работающих в той же традиции, что и Шаффер, и утверждающих, что эксперименты невозможно просто воспроизвести. При действительно независимом повторении экспериментов, настаивают они, всегда получаются разные результаты. Для того чтобы получать «правильные» результаты, вы должны проводить эксперименты в особых условиях, и первая предпосылка для этого – обучение непосредственно у тех людей, кто успешно выполнил эти эксперименты в прошлом. В конечном счете эксперимент может быть воспроизведен в массовом порядке с помощью выпуска специального оборудования, предназначенного для получения именно такого результата – оборудование и результаты взаимозависимы. Это называется «тестированием типа черного ящика». После того как эксперимент «поместили в черный ящик», он перестает быть проверкой результата – скорее правильный результат становится проверкой надежности оборудования. Таким образом, по мнению сторонников этой аргументации, сама идея воспроизведения сбивает с толку, и в экспериментальном знании нет ничего простого и ясного{1149}. То есть формирование консенсуса вокруг результатов эксперимента является в первую очередь социальным процессом убеждения людей действовать и думать так, как вам нужно, а не беспристрастным процессом выявления объективного аспекта реального мира. Разумеется, эти утверждения сразу становятся сомнительными, как только их пытаются применить к эксперименту, который оказал большее влияние на ученых, чем любой другой, то есть к эксперименту Торричелли – а также к экспериментам Ньютона с призмами или к измерению скорости света.
Роберт Бойль сформулировал альтернативный взгляд на науку, отличный от того, что провозглашали сторонники холизма и недоопределения, а также те, кто отрицает независимое воспроизведение результатов эксперимента:
Опыт показал нам, что разного рода чрезвычайно правдоподобные и укоренившиеся мнения, такие как необитаемость тропического пояса, твердость небесной части мира или того, что кровь от сердца к наружным частям тела идет по венам (а не по артериям), обычно выросшие из потребности, при появлении новых открытий, которым они противоречат, бывают отброшены большинством разумных людей, поскольку никто намеренно не будет их защищать. Как верно говорит пословица, Rectum est Index sui & Obliqui [ «Прямая линия обнаруживает кривизну кривой»]{1150}.
Другими словами, как и в случаях с земным шаром и фазами Венеры, новая теория зачастую быстро и без всякого сопротивления добивается успеха, потому что новые свидетельства просто делают все известные альтернативы нежизнеспособными.
Будь взгляд релятивистов на науку верен, каждое серьезное изменение парадигмы сопровождалось бы ожесточенными спорами между соперничающими интеллектуальными сообществами; именно так считал Кун. В некоторых случаях так и было, но в других смена происходила тихо, и, как сказал Бойль, никто не стал выступать в защиту старых теорий. Армия отступает с поля боя после первого же удара; противник объявляет о победе, и к нему присоединяются дезертиры с проигравшей стороны. В чем причина такой внезапной трансформации? В 1507 г. Вадиан настаивал, что Аристотель не все знал и что он был обычным человеком, который мог ошибаться (в данном случае речь шла об истоке Дуная, но на кону, разумеется, стояла и теория двух сфер), и это заявление кажется очевидным, даже тривиальным, нам – но не современникам Вадиана. Почему Аристотель ошибался? По причине experientiae penuria, недостаточного опыта{1151}. Победа теории земного шара, последовавшая после открытия Америки, – это первый триумф опыта над философской дедукцией и, следовательно, начало революции[323].
Но было бы опасно опираться на подобные примеры, поддерживая слишком упрощенный взгляд на роль опыта. Можно утверждать, что опыт бывает трех типов. Иногда, как мы только что видели, он опровергает сложившиеся убеждения и сразу же предлагает альтернативу, иногда подтверждает имеющиеся теории (измерения формы Земли французскими экспедициями в Перу и Лапландии (1735–1744) подтвердили выводы Ньютона), а иногда это всего лишь один шаг на пути, который ведет к непредсказуемому результату. К третьей разновидности относятся ответы на научные вопросы, которые могли бы быть верными, но оказались неверными и все же являются важным шагом на пути к правильному ответу, а также правильные ответы, истинное значение которых проявляется медленно, в свете последующего опыта. Кун утверждал, что факт непредсказуемости результата революционного кризиса, пока этот кризис еще не закончился, означает, что его нельзя объяснять задним числом. Наоборот, зачастую в дискуссии существует лишь один путь, способный привести к устойчивому результату. И его поиск может быть похож на поиск выхода из лабиринта.
В конце Средневековья, например, венецианцы разбогатели на импорте пряностей из Азии; пряности по суше доставлялись от Красного моря в Александрию, и это означало, что венецианские купцы, покупавшие их для последующей перевозки по Средиземному морю, были вынуждены платить высокую цену. Португальцы, стремившиеся обойти венецианцев, искали морской путь к «островам пряностей» вокруг Африки и в конечном счете добились успеха. Их примеру последовали голландцы, сделавшие торговлю пряностями основой великой торговой империи. Колумб искал западный маршрут в Азию, но его последователи выяснили, что путь, огибающий Южную Америку, слишком труден и долог; для торговли пряностями открытый им западный маршрут оказался непригоден, но это с лихвой компенсировалось открытием золота и серебра в Южной Америке. В начале XVII в. французский исследователь Самюэль де Шамплен думал, что может найти водный путь через Канаду – от залива Святого Лаврентия к Великим озерам и дальше{1152}. Он возил с собой китайский придворный костюм на тот случай, если встретит китайских представителей, двигавшихся ему навстречу с востока. Его предприятие закончилось неудачей. Морские экспедиции искали Северо-Западный проход вплоть до 1794 г., но так и не нашли{1153}.
В данном случае мы имеем ряд попыток ответить на один и тот же вопрос в условиях меняющихся географических знаний: попытка найти более удобный путь в Азию стала главным побудительным мотивом для совершенствования этих знаний. С конца XV до конца XVIII в. все эти попытки терпели неудачу. Заранее знать результат было невозможно, но мы не сомневаемся – в отличие от предков, – что Колумб не доберется до Китая, Шамплен не встретит китайских эмиссаров, а поиск коммерчески выгодного Северо-Западного прохода обречен на неудачу (до наступления глобального потепления). К 1800 г. все возможные альтернативы были исчерпаны, и вопрос о лучшем маршруте в Азию был решен окончательно (по крайней мере, до открытия Суэцкого канала в 1869).
Такая зависимость от первоначально выбранного пути является правилом, а не исключением. После того как Коперник объявил, что Земля не центр Вселенной, а планета, вращающаяся вокруг Солнца, люди были вынуждены задуматься, какой может быть эта планета. Во Вселенной Аристотеля Земля поглощала свет, но не излучала его. Было легко представить, как выглядит Земля сверху, но это была бы просто миниатюрная Земля. Среди сторонников Аристотеля развернулась бурная дискуссия, как выглядит Земля, если смотреть на нее с небес, но никто не представлял ее как одну из самых ярких звезд на ночном небе. Николай Кузанский превратил Землю в настоящую звезду, но лишь ценой превращения Солнца в Землю – и почти никто не был готов последовать его примеру{1154}. Для Диггеса и Бенедетти, несмотря на приверженность теории Коперника, Земля с большого расстояния представлялась темной звездой, поскольку она получает свет, но не передает его. Леонардо, Бруно и Галилей поняли, что Земля должна быть похожа на большую Луну, если смотреть на нее с Луны, а также считали, что новолуние доказывает, что Луна освещается Землей, – Хэрриот после прочтения работ Галилея назвал это «земным сиянием», и этот термин мы используем и сегодня{1155}. Галилей придумал несколько простых экспериментов для доказательства того, что Земля отражает свет и что суша сильнее отражает свет, чем океан (вот почему так ярко светится отраженным светом Луна). Направив свой новый телескоп на Венеру в 1610 г., он обнаружил, что у нее есть фазы – доказательство, что она тоже светится отраженным светом. Более того, Венера проходит через полный набор фаз, и это свидетельствует, что она вращается вокруг Солнца, как предсказывали системы Коперника и Тихо Браге{1156}. В этот момент стало очевидным, что, если смотреть на Землю с Венеры, она будет выглядеть как яркая звезда.
Таким образом, теория Коперника ставила прямой вопрос: что представляет собой планета Земля? Астрономы обсуждали весь спектр ответов на этот вопрос. И только один из них выдержал проверку – все планеты сияют отраженным светом. Потребовалось семьдесят лет, чтобы понять это, но после того, как был изобретен телескоп, превратившийся в научный прибор, у остальных вариантов уже не осталось шансов. Ответ, который был абсолютно непредсказуем в 1543 г., стал неизбежным после 1611 г.
После того как научная проблема включается в повестку дня сообщества ученых – становится «животрепещущей», – можно ожидать, что в течение определенного времени будут изучаться разные варианты решения; иногда это весь спектр возможных ответов{1157}. На этом раннем этапе не всегда удается достичь соглашения о том, какой из ответов правильный. Но со временем формируется устойчивый консенсус – одно решение верное, а остальные нет. Этот консенсус зависит не только от риторического или политического процесса достижения согласия, но также от способности сторонников той или иной теории ответить на критику и предложить новые способы исследования{1158}. «Сильный», или «стабильный», ответ начинает восприниматься просто как верный. Это не означает, что его правильность всегда очевидна, хотя неосторожные историки и ученые часто имеют в виду именно это; просто его правильность становится неоспоримой, по крайней мере, на какой-то период времени.
Открытие антиподов непосредственно вело к идее земного шара, но система Коперника вовсе не означала, что все планеты сияют отраженным светом – для такого вывода требовалось участие телескопа. Между признанием, что трубка Торричелли является измерителем давления, и изобретением атмосферного парового двигателя не было никакого вмешательства постороннего фактора. Закон Бойля стал естественным следствием эксперимента Паскаля на Пюи-де-Дом, а атмосферный паровой двигатель – естественным следствием закона Бойля (даже при наличии серьезных технических трудностей при создании работоспособной машины). Торричелли не мог представить паровой двигатель, как Колумб не представлял Америку; путь от барометра к паровому двигателю не был простым или коротким, как и путь от города Палос-де-ла-Фронтера до Багамских островов, но он существовал и ждал, пока его откроют.
Поиск Северо-Западного прохода или попытка объяснить движение планет по образцу магнетизма были ошибочными, но полезными предприятиями. Можно привести много других примеров научных поисков, которые были обречены на неудачу с самого начала, однако их приверженцы просто отказывались учиться на опыте: попытки превратить неблагородный металл в золото или излечить инфекционную болезнь кровопусканием не прекращались больше двух тысяч лет, но ни то ни другое не получилось, и при этом не возникло полезного нового знания – в отличие от поиска Северо-Западного прохода или от новой астрономии Кеплера. Именно в этом состоит главная проблема релятивистского подхода – либо осуществить можно все, и в этом случае философский камень ждет своего часа, или некоторые вещи неосуществимы, и тогда существует внешняя реальность, которая определяет, какие убеждения жизнеспособны, а какие нет. Разумеется, «осуществить» – это туманное понятие: многие алхимики думали, что видели превращение неблагородного металла в золото, а многие врачи полагали, что вылечили пациентов с помощью кровопускания. Люди обманывают себя самыми разными способами. Представление о том, что Америка – это Азия, исчезло на протяжении одного поколения, но алхимия оказалась гораздо более стойкой.
Наивные реалисты, считающие, что наука устанавливает неопровержимые истины о нашем мире (этого взгляда сложно придерживаться, учитывая, что научные теории радикально меняются вместе со свидетельствами, на которых они основаны){1159}, предполагают, что научный поиск всегда приводит к похожим вопросам и дает идентичные ответы; релятивисты предполагают, что и вопросы, и ответы отличаются бесконечным разнообразием. Не обязательно плыть на запад, но если вы поплывете, то окажетесь в Америке. А когда вы открыли Америку, пытаясь попасть в Азию, то начинается поиск путей, чтобы обогнуть новый континент. Один вопрос неизбежно ведет к другому. Научный поиск зависит от первоначально выбранного пути{1160}.
Сторонниками теории здравого смысла эта мысль доводится до крайности. То есть если вы ищете ответ на тот или иной вопрос, то этот ответ предопределен – как открытие Колумбом Америки. Например, два столяра согласятся по поводу размеров стола, хотя один может измерять его в дюймах, а другой в сантиметрах, а марсианин и землянин придут к согласию относительно величины скорости света, хотя системы измерения у них явно будут разными.
То есть, по мнению сторонников здравого смысла, наука инопланетян – если они существуют и если они разумны – должна соглашаться с нашей наукой в тех областях, где они пересекаются. Лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг выражал именно это мнение, когда писал, что «когда мы установим контакт с существами с другой планеты, то обнаружим, что они открыли те же законы физической науки, что и мы»{1161}. Таким образом, наука – это межкультурный язык, который в принципе может освоить любая культура и который уже освоили только культуры, находящиеся на высокой ступени технического развития. Именно это допущение лежало в основе сообщения, которое в 1974 г. отправили в космос с радиотелескопа в Аресибо. Сообщение состояло из чисел, от одного до десяти, атомных чисел водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора, формул для сахаров и оснований в нуклеотидах ДНК, двойной спирали ДНК, фигуры человека с указанием ее высоты, численности населения Земли, схемы нашей Солнечной системы и изображения телескопа в Аресибо с указанием его диаметра. Предполагалось, что любой внеземной разум, способный принять сообщение, распознает математику и науку и быстро расшифрует информацию, относящуюся к Земле. Великий математик Христиан Гюйгенс открыл закон движения маятника в 1673 г.; он считал, что во Вселенной рассеяно множество обитаемых планет, и к концу жизни (он умер в 1695) убедил себя, что его закон знают во всей Вселенной{1162}.
Противоположный взгляд состоит в том, что наука формируется рядом культурных и социальных факторов и поэтому разные общества не могут произвести одинаковое знание, точно так же как в разных обществах не могут возникнуть одинаковые религиозные убеждения. На самом деле научное знание не есть неизменная истина, даже если таковой кажется. Следовательно, два разных научных сообщества всегда произведут два существенно отличающихся корпуса научных фактов и теорий, и наука – это не межкультурная форма знания, а местный консенсус, специфичный для конкретного сообщества. Закон Бойля можно сравнивать с Новым Светом – в том смысле, что он существовал и просто ждал, когда его откроют. Но сторонники культурного детерминизма с этим не согласны. Они считают, что он больше похож на фирменное блюдо – например, десерт Эскофье персик «мельба» – продукт особой, местной технологии и культуры (отеля «Савой» в 1892){1163}. Подобно тому как некоторые блюда – персик «мельба», коктейль из креветок – стали известны на всех континентах и пережили испытание временем, некоторые научные доктрины успешно распространились, в то время как другие остались тесно привязанными к своему времени и к месту происхождения.
Эта книга стремится показать, что у обеих точек зрения есть сильные и слабые аргументы. Моя критика направлена не только на релятивистов (которым уделяется больше внимания просто потому, что их взгляды получили большее распространение среди историков науки), но также на реалистов, которые не могут принять свидетельство, на котором основывается релятивизм, – свидетельство истории и антропологии, которое указывает на культурные различия, зависящие от времени и места. Обычно противники релятивизма приводят следующий аргумент: все люди обладают здравым смыслом и способностью к логическим рассуждениям и поэтому могут распознать настоящее знание, когда видят его{1164}. В сущности, наука – это здравый смысл, применяемый систематически, или, как выразился Карл Поппер, «научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное знание»[324]. На мой взгляд, объяснение науки в терминах здравого смысла является просто хождением по кругу. Не подлежит сомнению, что существует некий фундаментальный опыт и способы рассуждения, которые являются универсальными и могут считаться имеющими силу в любой человеческой культуре. В противном случае межкультурное общение было бы невозможным{1165}. Например, любая человеческая культура имеет опыт охоты на диких животных. Мы видели, что в Древнем Риме юристы считали vestigia (изначально следы, оставленные животным) одной из форм свидетельства. Таким образом, корень слова investigate (исследовать) связан с преследованием во время охоты. Новое значение слова clue (ключ), появившееся в XIX в. и означающее то, что ищут детективы, – это метафора, позаимствованная у нити Ариадны, которая помогла Тезею выбраться из лабиринта Минотавра, и эта метафора свидетельствует, что нет ничего нового в том, чтобы идти по следу и смотреть, куда он приведет; детектив идет по следу, подобно Тезею, возвращавшемуся по собственным следам. Все человеческие существа способны к умственной деятельности, требуемой для такого преследования, и исследование какой-либо проблемы, утверждают реалисты, представляет собой просто усложненный вариант той же деятельности{1166}.
Но – и очень большое но – межкультурное сходство между всеми человеческими сообществами в большинстве случаев нам ничем не поможет. Во-первых, хотя примеров универсального опыта и способов мышления может быть немного, каждая культура приспосабливает опыт и способы мышления, общие для ее членов, как местную версию здравого смысла – общего для нас, если не для других. Так, Дж. Э. Мур говорил, что здравый смысл заставляет верить во внешнюю реальность, а не в Бога-Творца или загробную жизнь, однако многие люди считают эти верования обычными{1167}. На практике диапазон убеждений, которые люди могут разделять и не подвергать сомнению, огромен. В дискуссиях о здравом смысле обычно не проводится разграничение между адекватным универсальным и локальными определениями этого понятия.
Рассмотрим такой пример: в Средние века и в эпоху Возрождения философы-схоласты следовали рассуждениям Аристотеля и полагали, что земля тяжелая и стремится вниз, а огонь легкий (мы могли бы сказать, что у него отрицательный вес) и стремится вверх. Воздух и вода могут быть тяжелыми или легкими в зависимости от обстоятельств – выше или ниже они того места, где должны находиться. Последователи Аристотеля также утверждали, что твердые тела плотнее и тяжелее жидкостей. То есть лед тяжелее воды (поскольку он «плотнее»). Почему же он плавает? Потому что лед на пруду плоский и вода сопротивляется, не давая ему утонуть. Дерево, говорили они, тяжелее воды, поскольку элемент, из которого оно изначально состоит, – это земля. Можно изготовить лодку из дерева, но только при условии, если ее дно будет плоским (или почти плоским){1168}.
В Средние века работы Архимеда были хорошо известны, но философы просто не принимали его теорию плавания тел: Архимед утверждал, что все вещества обладают весом и стремятся вниз, и философы смотрели на это как на фундаментальную ошибку. Отвергая теорию Архимеда, они считали, что руководствуются здравым смыслом, и это подтверждал их собственный опыт. Им были неизвестны значимые аномалии, когда их теории противоречили реальности. Они плавали на кораблях, ходили по понтонным мостам, ступали на поверхность замерзшего озера, и ничто не подталкивало их пересмотреть общепринятые теории. Тем не менее, как указывал Галилей, утверждение о том, что лед плавает потому, что он плоский, легко проверялось – достаточно было разбить лед на маленькие кусочки и убедиться, что они не тонут. И почему плоский кусок льда снова всплывает на поверхность, если его погрузить в воду?[325]
Если обратиться к работам философов, возражавших Галилею, то почти сразу все становится ясно: они думали, что на их стороне логика, здравый смысл и авторитет Аристотеля, хотя и придерживались разных точек зрения. Один заявлял, что лед у Галилея всплывал на поверхность потому, что внутри у него содержались пузырьки воздуха, а чистый лед тяжелее воды (что не помешает ему плавать, но помешает всплыть на поверхность после погружения){1169}. Другие указывали на изъяны в теории самого Галилея. Галилей обращался к чувственному опыту, но чувственный опыт свидетельствует, говорили они, что осадка кораблей уменьшается вдали от берегов и увеличивается при входе в порт. Ни Архимед, ни Галилей не могли объяснить этот неоспоримый факт – а последователи Аристотеля объясняли. (Большое количество воды сильнее давит на дно судна – загадка решена){1170}. Между тем они не соглашались друг с другом по главным вопросам: одни считали, что дерево тяжелее воды, другие – что легче; одни говорили, что вода ничего не весит, когда находится в предназначенном для нее месте, другие отрицали это; одни полагали, что вода расширяется при замерзании, другие оспаривали это утверждение. Однако в одном они были согласны: Аристотель всегда прав.
Между Галилеем и его оппонентами была существенная разница: все апеллировали к опыту, а Галилей выполнил целую программу исследований. Его знание было прикладным, а их знание – нет. В конечном счете разница между Галилеем и остальными заключается в следующем: они были готовы делать заявления, которые считали истинными, но никогда не проверяли (дерево тяжелее воды, осадка кораблей уменьшается, когда они удаляются от берега), тогда как Галилей проверял каждое свое утверждение. Неспособность провести проверку была отражением неспособности достичь согласия по основным пунктам. По большей части они не оспаривали то, что Галилей заявлял как вопрос факта, но ждали, что и он примет без проверки их заявления, к чему он не был готов. Например, ссылаясь на Сенеку, они сообщали, что в Сирии есть озеро с такой плотной водой, что в нем плавают кирпичи. Когда Галилея попросили объяснить это явление, он отверг его как выдумку и сказал, что никакого объяснения не требуется, на что ему с возмущением посоветовали верить «достойным доверия авторам, таким как Сенека, Аристотель, Плиний, Солин и т. д.»{1171} Другими словами, главное отличие Галилея от оппонентов состояло в том, что они были философами, а он – математиком, превращавшимся в ученого (а не математиком, как утверждали его противники, который ошибочно считает себя компетентным философом){1172}.
Бессмысленно настаивать, что Аристотель и его последователи были лишены здравого смысла или что у них отсутствовал опыт наблюдения за миром. По меркам той эпохи, и того и другого у них имелось в достатке. Отсутствовал у них интеллектуальный инструментарий – в данном случае процедура разработки тестов для подтверждения (или опровержения) теории. И отсутствие этой процедуры объяснялось тем, что ее считали ненужной. Какие могут быть проблемы, когда из неоспоримых допущений делаются необходимые выводы? Какие могут быть проблемы, если в основе лежит общий опыт, разделяемый всеми? Тут мы сталкиваемся с дилеммой. Либо представления о здравом смысле аморфны и подвижны до такой степени, что все убеждения, разделяемые сообществом, сводятся к здравому смыслу. Либо, если вы утверждаете, что во многих сообществах здравый смысл отсутствует, поскольку там существуют убеждения, которые легко опровергнуть, то получается, что существуют сообщества, в которых большую часть времени никто вообще не проявляет здравого смысла. Идея «здравого смысла» доказывает или слишком много, или слишком мало. Либо все сообщества обладают достаточным здравым смыслом, чтобы поддерживать свое существование, и в этом случае это понятие не помогает определить, какое знание считать достоверным, либо здравый смысл содержится только в тех аргументах, которые совпадают с нашими, и тогда получается, что в разных культурах и в разные периоды истории здравого смысла было очень мало.
Когда Сьюзен Хаак пишет: «Наши стандарты представления о надежном, честном и тщательном исследовании и о надежном, сильном и убедительном свидетельстве не являются внутренними для науки. Вынося суждение, где наука добилась успеха, а где потерпела неудачу, в каких областях и в какое время она проявила себя лучше, а каких хуже, мы обычно обращаемся к стандартам, согласно которым судим о твердости эмпирических убеждений или о строгости и тщательности эмпирического исследования», – она, на мой взгляд, путает две разные проблемы{1173}. Конечно, в нашем обществе некоторые стандарты исследования (в том числе подчеркнутое внимание к эмпирической информации) не являются принадлежностью только науки, а имеют более широкий характер – они сформировали всю нашу культуру, но только потому, что это обеспечила научная революция и другие серьезные сдвиги в культуре. Но было бы неверно считать, что у нас и у Аристотеля одинаковые взгляды на то, что считать обоснованным истинным убеждением и как следует приобретать подобные убеждения. Проблема вот в чем: кто такие «мы»? Современные историки или современные детективы (если воспользоваться примерами Хаак)? Или человеческие существа, у которых имеется общая для всех способность к здравому смыслу? Первая интерпретация в основном верна, но не слишком значима; вторая значима, но неверна.
Более того, представления о том, как оценивать эмпирические свидетельства, в каждом случае могут быть разными. Бойль и Ньютон верили в возможность превращения неблагородных металлов в золото, но проявляли здравый смысл при обсуждении других эмпирических вопросов. В XVI в. Жан Боден написал книгу под названием «Метод легкого изучения истории» (Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 1566), которую часто указывают как основу современного исторического анализа; он также является автором трактата «Демономания колдунов» (La Dmonomanie des Sorciers), в котором утверждает, что ведьмы существуют повсеместно, а люди регулярно превращаются в волков. И то и другое, по его мнению, не противоречило здравому смыслу. Через сто лет Томас Браун выступил против ложных убеждений (например, что у слонов отсутствуют колени), однако он продолжал верить, что жена Лота действительно превратилась в соляной столп. Кроме того, он (будучи по профессии врачом) присутствовал на судах над ведьмами, чтобы удостоверить использование сверхъестественных сил, таким образом обеспечивая осуждение обвиняемых{1174}. Браун был чрезвычайно разумным человеком, по крайней мере по меркам того времени, и мы ни к чему не придем, пытаясь утверждать, что его взгляды на колдовство свидетельствуют о том, что он не вправе выносить суждения об эмпирических вещах. Если его взгляды на то, что такое свидетельство, не соответствовали нашим, то это всего лишь доказывает, что у разных культур представления о «здравом смысле» существенно отличаются.
Чтобы понять, как появилась современная концепция здравого смысла (в применении к науке и другим видам эмпирического исследования), нужно еще раз обратиться к пересмотру Галилеем закона Архимеда. Галилей, получивший правильные результаты, был тем же человеком, что и несколькими днями раньше, когда все еще придерживался ошибочной версии. Что изменилось? Ответ прост: он приступил к выполнению экспериментальной программы по проверке и совершенствованию своих теорий. Галилей начал с одной аномалии, плавания куска черного дерева, и обнаружил другую, плавание иголки; в результате он открыл поверхностное натяжение. Галилей также решил продемонстрировать действие закона Архимеда и открыл еще одну аномалию – вода может поднимать тело, по весу превосходящее вес самой воды. Затем он не побоялся вернуться назад, снова проанализировать закон Архимеда и скорректировать его. Затем проверил новую теорию с помощью другого эксперимента. Это переключение между теорией и свидетельствами, гипотезой и экспериментом теперь стало привычным, и нам трудно осознать, что действия Галилея были абсолютно новыми. Если его предшественники занимались математикой и философией, то Галилей занимался тем, что мы называем наукой. Разница между Галилеем в начале этого процесса и Галилеем в конце заключается в том, что в конце свидетельства использовались для того, чтобы наложить еще более строгие ограничения на аргументы; свидетельства и аргументы взаимодействовали по-новому. Используя такое взаимодействие, Галилей мог обращаться к тому, что и он, и мы считаем универсальными принципами здравого смысла, хотя и его экспериментальная практика, и выводы были новыми. Но такое обращение всегда сталкивается с трудностями, когда направлено против убеждений, укоренившихся так прочно, что их считают неоспоримой истиной. Все стороны в споре всегда считают, что здравый смысл на их стороне[326]. Галилей, по всей видимости, не добился никакого успеха в своих попытках убедить философов, что он лучше их понял причины плавания тел.
В маленьком трактате Галилея о плавании тел воплотилась вся научная революция. Предмет исследования на протяжении 2000 лет обсуждался выдающимися философами и математиками. Взгляды философов и математиков, противоречившие друг другу, удовлетворяли повседневному опыту – по крайней мере, так они считали. Теория тоже не переживала кризис. До Галилея никто из компетентных математиков не сомневался, что Архимед дал полное объяснение плаванию тел, и никто из компетентных философов, сторонников Аристотеля, не оспарива точку зрения, что форма играет важную роль в том, какое тело плавает, а какое нет. Тем не менее Галилей понял не только то, что лед легче воды, но также – должно быть, это стало сильнейшим потрясением, – что тела могут плавать, не вытесняя из воды собственный вес. Все ошибались.
Мы не можем объяснить момент начала этой интеллектуальной революции просто обращением к некоему локальному, случайному событию, спору между Галилеем и философами, последователями Аристотеля (хотя такой спор действительно имел место). Изобретая гидравлический пресс, Галилей также не работал над новой практической задачей, которая была по плечу только компетентному инженеру. Он просто искал ответ на старый как мир вопрос: почему одни тела плавают, а другие тонут? И если он нашел новые ответы, то лишь потому, что использовал новые методы и разработал новые инструменты мышления. Паскаль прояснил и систематизировал новые знания, добытые Галилеем. Его ситуация была немного другой: он изучал давление в жидкостях, чтобы понять, как вес воздуха поддерживает столб ртути в барометре. (На самом деле он сформулировал понятие давления – Галилей оперировал весом, а не давлением){1175}. Новая гидравлика Паскаля является развитием его экспериментов с вакуумом, но работа Галилея над плаванием тел не зависела от первоначально выбранного пути. Она определялась не новой задачей, а новым типом практики и новым способом мышления.
Возможно, Аристотелю было бы трудно согласиться с утверждением Галилея, что при объяснении плавания тел следует учитывать размер сосуда, – но не Архимеду. Чем же отличается Галилей от Архимеда? Почему мы называем это мышление новым, если Архимед без труда понял бы его? Во-первых, Галилей принадлежал к культуре, которая допускала сомнения даже в самых авторитетных убеждениях – это было наследие Колумба. Он жил в эпоху открытий. Во-вторых, Галилей создавал новую науку, в которой все являлось – по крайней мере, в принципе – измеряемым, даже подъем уровня пруда, на который садится утка, или океана, когда на воду спускается корабль. Этот принцип повышения точности измерений заложил Тихо Браге; укрепляя взаимоотношения между теорией и свидетельствами в физике, Галилей распространял на нее практику астрономии[327]. В-третьих, у Галилея был пример Гильберта, который использовал тщательные манипуляции с оборудованием для экспериментов, чтобы установить новые и неожиданные истины. Галилей не пользовался аргументами, предоставленными ему Колумбом, Браге и Гильбертом; они были ролевыми моделями, которым ему достало смелости следовать. Они не внесли непосредственного вклада в его новую гидравлику, но новая гидравлика стала возможной благодаря интеллектуальной культуре, которую они помогли сформировать, – в частности, интеллектуальную культуру Галилея, поскольку большинство его современников с готовностью соглашались с Аристотелем и не проявляли интереса к вызывающим, неортодоксальным убеждениям. И только после Паскаля эта необычная, редкая культура получила признание и стала пользоваться всеобщим уважением.
Архимед был убежден, что реальный мир можно описать с помощью математики, даже несмотря на то что океаны и корабли не имеют форму кругов, треугольников и квадратов; он не сомневался, что геометрия Евклида сильнее силлогизмов Аристотеля. Нельзя доказать, что в любом из возможных миров математики будут лучше приспособлены к познанию мира, чем философы: это может быть установлено только успехом математической практики и требует культуры, в которой математики вправе бросать вызов утверждениям философов и получать награду за свой успех{1176}. Но Галилей был не просто вторым Архимедом; он также был ученым-экспериментатором. Однако у нас нет никаких гарантий, что математики будут заинтересованы в том, чтобы сделать следующий шаг. В XIV в. в Оксфорде интересующиеся математикой философы выдвигали гипотезу, что тела падают с постоянным ускорением, но не предприняли ничего, чтобы подтвердить теоретическую вероятность экспериментом. Пришлось ждать Галилея. Философы из Оксфорда предполагали, что цвет и температура в принципе подлежат количественному измерению и могут меняться с переменной скоростью, но у них не было способов измерения цвета или температуры – а для практических целей им не требовалось измерять скорость падения тел. Их предположения были чисто абстрактными и теоретическими; они рассуждали о любом возможном мире, но только не о нашем, реальном. Они изучали механику в теории, но не проявляли практического интереса к машинам[328].
Труды Архимеда были доступны на латинском языке еще в XII в., а в печатном виде с 1544 г.: до Галилея все математики с готовностью рассуждали о кораблях, плавающих в безбрежном океане, но никто не опускал модель корабля в модель океана, чтобы точно определить, что происходит. Самых лучших математиков полностью удовлетворял закон Архимеда, казавшийся им логически последовательным и полным. Галилей был первым, кто превратил рассказ Архимеда о том, как плавают тела, в теорию, которую можно проверить на оборудовании для экспериментов; теория оказалась неполной.
Ключевым было стремление Галилея воплотить математическую теорию в соответствующее оборудование. Он даже надеялся изготовить механическую модель, которая иллюстрировала бы его теорию приливов{1177}. Отсюда следует огромное преимущество анализа Галилея над анализом Аристотеля и даже анализом Архимеда, поскольку анализ Галилея обеспечивает более точное предсказание и лучшее управление: чтобы узнать, каков пудинг, нужно его отведать. Разумеется, затем достигнутый успех распространяется, превращаясь в здравый смысл, и мы начинаем думать, что каждый разумный человек понимает, что существует лишь один – правильный, в случае с Галилеем, – способ решения задач: переключение между индукцией и дедукцией, проведение мысленных экспериментов и реальных экспериментов, а также недоверие к теории, пока она не проверена экспериментом и пока не предприняты попытки ее опровергнуть[329]. «Здравый смысл», если иметь в виду практики, которые, как нам представляется, его воплощают, не существовал до публикации «Рассуждений о телах, погруженных в воду» в 1612 г.[330] Галилей был первым человеком, похожим на «нас» в том смысле, в каком Сьюзен Хаак пишет о «наших стандартах представления о надежном, честном и тщательном исследовании и о надежном, сильном и поддерживающем свидетельстве»{1178}. Другими словами, стремясь объяснить такой случай, как исследование Галилеем плавающих тел, мы рискуем проявить слишком много реализма, но в этом случае мы никогда не поймем ни оригинальности Галилея, ни сопротивления, с которым он столкнулся; с другой стороны, уклон в сторону релятивизма не позволит признать тот факт, что Галилей был прав, а его оппоненты ошибались.
Таким образом, мы должны понимать, что и у реалистов, и у релятивистов есть хорошие аргументы. Попробуем усидеть на двух стульях. Вместе с релятивистами мы должны признать опасность опоры на универсальные стандарты человеческой рациональности (но это не значит, что подобные аргументы всегда недействительны, – Галилей разбирался в вопросах плавания тел гораздо лучше оппонентов, и они поняли бы это, если бы занялись экспериментами). А вместе с реалистами мы должны настаивать, что настоящую науку не так уж трудно отличить от ненастоящей, если согласиться, что знания должны тщательно и систематически проверяться опытом.
Предыдущий раздел этой главы я начал с изложения двух альтернативных взглядов на науку, утверждая, что у каждого есть свои достоинства. С одной стороны, знания, которые мы в конечном итоге получаем, по всей видимости, зависят от культуры, случайны и специфичны; с другой стороны, они соответствуют здравому смыслу, предсказуемы и неизбежны. Кун пытался примирить оба этих взгляда, несмотря на противоречия между ними, разделяя революционную и нормальную науку. Результат революции, утверждал он, зависит от культуры, случаен и специфичен, но ведет к периоду стабильности, во время которого прогресс нормален. Грань, проведенная Куном между двумя типами науки, слишком тонка, но в целом его подход разумен: иногда, как мы убедились, одно открытие ведет к другому, причем путь этот (при взгляде из будущего) абсолютно непредсказуем. Между Коперником и Ньютоном произошло несколько революций, но развитие шло извилистым путем, однако путь от Торричелли до Ньюкомена был относительно прямым, и после изобретения барометра и признания экспериментов лучшим путем к новому знанию открылась прямая дорога к паровой машине. В истории науки нет простого ответа на кажущийся бинарным вопрос о выборе между абсолютной случайностью и предсказуемой эволюцией, потому что этот выбор ложный. Ответ всегда находится между двумя крайностями, и в каждом новом случае необходимо заново находить этот баланс.
Мы исследовали происхождение науки. Мы видели, что наука – это изобретенное нами занятие, в котором действуют согласованные правила. Существует множество занятий, где мы придумываем правила и меняем их по своему желанию. Раньше совершеннолетие наступало в двадцать один год, теперь в восемнадцать. В прошлом женщины были лишены права голоса – теперь они его получили. С другой стороны, есть занятия, где наша способность изменять правила ограничена факторами, над которыми мы не имеем власти.
Например, садовники создают особый микроклимат для своих растений. Если садовник бросит работу, природа возьмет свое. Таким образом, сад является одновременно природным и искусственным объектом. Несложно предположить, что закон исключения третьего требует, чтобы некий объект был либо природным, либо искусственным: так, например, рубашка сделана либо из натуральных (хлопок, лен, шерсть), либо из синтетических (нейлон, полиэстер) волокон. Но волокно вискозы одновременно натуральное и искусственное – его производят из древесины. Парусное судно использует природную силу ветра для достижения результата, который не встречается в природе. В садоводстве, кулинарии и судостроении есть много определяемых культурой вариантов, однако существуют другие вещи, которые просто неосуществимы. Растения гибнут, майонез сворачивается, суда тонут. И никакие желания не могут этого изменить[331]. Подобные занятия зависят от сложных взаимоотношений между природными и социальными факторами. Таким образом, было бы неверным утверждать, как Эндрю Каннингем, что наука есть «человеческое занятие, чисто человеческое занятие, исключительно человеческое занятие»{1179}. Да, это человеческое занятие, то не «исключительно». Поэзия и игра в слова – чисто человеческое занятие. Наука относится к тому обширному классу занятий, в которых природное сочетается с искусственным и которые ограничиваются как действительностью, так и культурой.
Особенностью науки является то, что она претендует не просто на сотрудничество с природой (как садовники, повара и судостроители), а на открытие истины, уже существовавшей до начала этого сотрудничества. Неудивительно, что история науки является трудным делом, поскольку сама наука постоянно стремится избежать своей временной специфичности, своей искусственности. Заявляя об освобождении от собственного процесса производства, наука преподносит себя как естественную, а не искусственную; следует ожидать, что в противоположность этой очевидной ошибке некоторые хотят заявить, что наука исключительно искусственное, а не исключительно естественное занятие. Но на самом деле оба этих утверждения верны, и ученые правы, заявляя, что это искусственное занятие может выявить то, что происходит в природе[332].
Некоторые просто отрицают возможность отстраниться от культуры и изучать природу так, как об этом заявляют ученые. Бруно Латур настаивал: тот факт, что бактерия, вызывающая туберкулез, была найдена в легких египетского фараона Рамсеса II, не означает, что Рамсес умер от туберкулеза. Эта болезнь была открыта только в XIX в. До этого такой вещи, как туберкулез, не существовало, и, следовательно, никто не мог от него умереть. Это не так: конечно, Рамсес II не мог знать, что умирает от туберкулеза, но тем не менее мы знаем, что его убил именно туберкулез. Историзм Латура не учитывает главную особенность науки: она занимается тем, что существует независимо от того, верим ли мы в это или нет. Бактерия, вызывающая туберкулез, была открыта, а не изобретена Робертом Кохом в 1882 г. Латур утверждает, что Рамсес II точно так же не мог умереть от туберкулеза, как не мог быть застрелен из пулемета Гартлинга (Ричард Гартлинг изобрел свой пулемет в 1861), ясно давая понять, что он не делает различий между открытием и изобретением. Но это разные вещи. Пулемет Гартлинга предполагает новую разновидность кооперации между природой и обществом, но бактерия туберкулеза не требует намеренного сотрудничества с нашей стороны, пусть даже для ее выявления и уничтожения нужны методы, которые разрабатываются в лаборатории и включают сложное взаимодействие между природой и обществом{1180}[333].
Наука как метод и как деятельность является социальным конструктом. Но наука – также система знаний, выходящая за рамки социального конструкта, поскольку она успешна и согласуется с реальностью{1181}. Однако реалисты не понимают: невозможно доказать, что это соответствие необходимо или неизбежно. Аристотель считал свой метод необходимо надежным; он ошибался. Если наш метод эффективнее, то лишь потому, что лучше соответствует реальному миру, а не потому, что мир обязан быть именно таким[334]. Тем не менее когда это соответствие установлено (в каждой новой научной дисциплине оно должно устанавливаться заново), оно обеспечивает положительную обратную связь. За пределами узких математических дисциплин (включая астрономию и оптику) эта петля впервые была замкнута в 1600 г. Следовательно, нам нужно рассматривать науку как результат эволюционного процесса, в котором за последние пять столетий настоящая наука имела лучшие шансы выжить, чем ненастоящая. Как справедливо заметил Кун, «научное развитие, подобно дарвиновской эволюции, представляет собой процесс, который скорее подталкивают сзади, чем тянут к определенной цели, которая становится все ближе»{1182}.
Проблема с релятивистами в том, что они одинаково объясняют настоящую науку и ненастоящую науку, френологию и ядерную физику – сторонники «сильной программы» открыто настаивают на их равноценности[335]. Проблема с реалистами заключается в том, что они не признают особенностей метода и структуры науки. По их мнению, научный метод является естественным, как ходьба, а не искусственным, как часы. Надеюсь, эта книга покажется реалистической релятивистам и релятивистской реалистам – именно таким был мой замысел. Она придерживается подхода, изложенного в лекции Куна 1991 г. «Проблема с исторической философией науки» (The Trouble with the Historical Philosophy of Science). В ней Кун критикует релятивистов (которые в значительной мере черпали вдохновение в его трудах), указывая, что они ошибаются в том, что принимают традиционный взгляд на научное знание как само собой разумеющийся. То есть они, похоже, считают традиционную философию науки правой в понимании того, чем должно быть знание. Сначала идут факты, а на их основе делаются неизбежные выводы, по крайней мере, в отношении вероятностей. Если наука не производит такого рода знание, заключают они, то она не может вообще производить знание. Но, возможно, эта традиция была неверна не просто в отношении методов, которыми получают знание, а в отношении природы самого знания. Возможно, знание, правильно понятое, есть продукт самого процесса, который описывают эти исследования{1183}.
Другими словами, задача в том, чтобы понять, как достоверное знание и научный прогресс могут стать и становятся результатом несовершенного, в значительной степени случайного, зависимого от культуры, чересчур человеческого процесса.
Одним из препятствий к пониманию знания (повторим вслед за Куном) является терминология, которую мы используем для обсуждения своих трудностей. Существует удовлетворительное название людей, которые настаивают на полном отсутствии такой вещи, как знание (есть лишь системы убеждений, которые выдаются за знание): это релятивисты. Но у нас нет общего термина для всех разных точек зрения, которые признают, что некоторые формы познания природы успешнее других, и поэтому прогресс познания возможен. Разумеется, можно назвать их «прогрессистами», но тогда замалчиваются все трудности, которые ассоциируются с идеей прогресса. Дело в том, что прогресс иногда останавливается, а во многих областях жизни за одним шагом вперед следуют два шага назад. Прогресс не является линейным или поступательным, и зачастую трудно договориться о стандарте для его оценки. Тем не менее он существует.
Кроме готовности признать прогресс, когда они его видят, общим для всех этих групп – называют ли они себя реалистами, прагматиками, инструменталистами, фаллибилистами или как-то еще – является признание, что природа (реальность, опыт) налагает практические ограничения на то, что может считаться успешным предсказанием или управлением, то есть природа «сопротивляется»{1184}. Эти философы не считают научное знание ни полностью определенным, ни неопределенным – оно частично определенное. Невозможно быть твердым релятивистом и признавать сопротивление природы, но можно быть конструктивистом (утверждать, что мы получаем знание из доступных культурных источников) и признавать, что природа сопротивляется. Должным образом понимаемое научное знание необходимо рассматривать как одновременно конструируемое и ограничиваемое. Хасок Чан предложил называть это двойное признание «активным реализмом»[336]{1185}.
Каждый, кто пытается занять позицию под названием «лучшее из обоих миров», сталкивается с еще одним препятствием – необходимостью конкретизировать идею о сопротивлении природы. Кун видел это препятствие, но неверно описал его. Он жаловался на тех, кто «свободно признает, что наблюдения за природой действительно играют роль в развитии науки. Но они практически ничего не знают об этой роли – то есть о том, как природа вступает во взаимодействие, которое формирует убеждения о ней»{1186}. Если вы попытаетесь понять смысл сказанного Куном, то обнаружите, что этот смысл ускользает от вас. Дело в том, что сама наука отчасти является описанием того, как природа вступает во взаимодействие, которое формирует убеждения о ней; в таком случае Кун задает не исторический или философский вопрос, а просит объяснить ему некий аспект науки.
Поэтому мы вынуждены отвергнуть формулировку Куна. Чтобы понять, как материальный мир вступает во взаимодействие, формируя убеждения, мы должны взглянуть на то, как говорим с ним и о нем. Один уровень – это оборудование: телескоп изменил способ взаимодействия астрономов с природой. Другой – это инструменты мышления: концепция законов природы, например, формирует вопросы, которые задают ученые, и ответы, которые дает природа. В диалоге между ученым и материальным миром сам материальный мир (по большей части) остается неизменным, тогда как та часть, которую привносит в диалог ученый, меняется, и это меняет роль материального мира. Способы сопротивления природы меняются вместе с нами. Отсюда потребность в исторической эпистемологии, которая позволяет осмыслить способы нашего взаимодействия с материальным миром (и друг с другом) в погоне за знанием. Главная задача такой эпистемологии не объяснить, почему мы добились успеха в получении научного знания, поскольку на этот вопрос нет убедительного ответа. Задача – проследить эволюционный процесс, который вел нас от успеха к успеху; так мы сможем убедиться, что наука действительно работает, и понять, как именно она работает.
В этой главе я уже приводил утверждение Поппера, высказанное в 1958 г., что «научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное знание». Как мы видели, в этом он ошибался. Через несколько месяцев Поппер добавил новый эпиграф ко второму изданию «Логики научного открытия», цитату из работ известного историка, лорда Эктона (1834–1902): «Нет ничего более необходимого для человека науки, чем ее история…»{1187} Что же узнают ученый и гражданин из истории науки? Ничто не вечно. Как и теории Птолемея и Ньютона, которые казались абсолютно удовлетворительными на протяжении многих столетий, дорогие нашему сердцу теории однажды сменятся другими. Кун постоянно напоминал, что одна из главных целей обучения в науке – скрыть эту истину от следующего поколения ученых{1188}. Наука воспроизводит себя с помощью индоктринации, поскольку научные сообщества работают эффективнее, когда в них есть согласие о том, что они пытаются делать.
Но Кун также понимал: тот факт, что рушатся даже самые прочные научные теории, не означает их ненадежность, а также отсутствие научного прогресса. Птолемей дал астрологам информацию, в которой они нуждались, а Ньютон объяснил законы движения планет, сформулированные Кеплером. Надежность современной науки мы демонстрируем каждую секунду каждого дня. Признание ограничений науки и одновременно ее силы требует необычной смеси скепсиса и уверенности; релятивисты перебарщивают со скепсисом, а реалисты – с уверенностью.
16. Наш постмодернистский мир
История – это не изучение истоков…
Герберт Баттерфилд. Виг-интерпретация истории (1931){1189}
Это знание [того, что случилось потом] делает невозможным для историка делать то, чего ждут от него интересующиеся историй, – рассматривать прошлое в его собственных терминах и представлять события так, как их видели люди, жившие в то время. Он обязан попытаться; точно так же он обязан делать нечто большее – просто потому, что он знает о событиях то, чего не знали современники этих событий; он знает их последствия.
Джек Хекстер. Историк и его время (1954){1190}
Эта книга называется «Изобретение науки». Она рассказывает о процессе, значение которого можно оценить только задним числом. Сходное с нашим понимание событий уже проявили Уильям Уоттон в 1694 г. и Дидро в 1748 г., но нас не может не удивлять, что современная историография по-настоящему началась вскоре после Второй мировой войны. Джеймс Б. Конант, в то время президент Гарварда и один из ведущих ученых Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы, в 1948 г. начал читать базовый университетский курс «Понимание науки» (работа Куна была прямым следствием этой инициативы). Как мы уже видели, в том же году Герберт Баттерфилд читал лекции по своей книге «Происхождение современной науки»: наука выиграла войну на Тихом океане, и историей науки заинтересовались все образованные люди.
Учитывая то, что эта книга отчасти опирается на взгляд в прошлое, многие историки поспешили объявить ее примером виг-истории. Еще в 1931 г., когда Баттерфилд критиковал виг-историю, его мишенью было представление, что история имеет цель, которая состоит в создании наших ценностей, наших институтов, нашей культуры. Он критиковал тех, кто с помощью истории оправдывал и превозносил настоящее, особенно текущие политические договоренности{1191}. Баттерфилд советовал историкам сделать прошлое своим настоящим{1192}.
Однако за последние полвека термин «виг-история» немного изменил свое значение, и в этом интеллектуальном преступлении обвинили именно тех историков, которые изо всех сил старались понять прошлое в его собственных терминах{1193}. Путаница, вызвавшая столь жаркие споры по этому вопросу, выражена в заявлении – сделанном теми, кто считал себя оппонентами виг-истории, – что «пункт наблюдения историка за прошлым должен находиться в настоящем» и, следовательно, выбор предмета для исследования «в конечном итоге не просто историографический, а политический»{1194}. Если это правда, то очень трудно понять, как историки могут избежать написания виг-истории. Но это в лучшем случае полуправда.
Историки вынуждены опираться на свидетельства, которые дошли до нас из прошлого: в этом смысле их пункт наблюдения – это сбор материальных остатков, существующих в настоящем. Историки также вынуждены писать на своем языке и использовать инструменты мышления и процедуры, отличные (если только они не исследуют историю современности) от тех, которыми пользовались изучаемые ими люди. Выбор того, о чем писать, неизбежно будет формироваться их собственными интересами и заботами. Во всех этих отношениях история пишется историком, который живет в настоящем.
Но точка зрения историка вовсе не обязательно должна быть современной. Покойный Том Майер хотел написать книгу под названием «Галилей был виновен». Однако он не имел в виду, что сам считает Галилея виновным и что мы должны считать его виновным; он хотел сказать, что, согласно установленным процедурам инквизиции, которая судила и осудила его в 1633 г., он был виновен. Цель Майера – понять процесс над Галилеем как один случай из огромного числа процессов, проведенных инквизицией, и занять позицию, исходя из которой он мог оценить, соответствовал ли суд на Галилеем принятым процедурам или был исключением. Он хотел сделать инквизиторов из прошлого своим настоящим. Вывод таков: согласно законам того времени, Галилей был виновен{1195}.
Однако идея о том, что мы должны понимать историю в ее собственных терминах, может вынудить историков искать в прошлом человека, который будет действовать как выразитель их взглядов. Иногда такой маневр оправдан, но чаще результатом становится новая разновидность виг-истории. Яркий пример этого – книга Шейпина и Шаффера «Левиафан и воздушный насос».
Гоббс различал знание о вещах, которые мы сделали сами (геометрия, государство), и знание о вещах, к созданию которых мы не имеем отношения (натурфилософия). В случае с геометрией и государством, полагал Гоббс, точное знание достижимо, поскольку ни геометрия, ни государство не существовали бы, не создай мы их. Но в случае с натурфилософией, утверждал он, существуют границы того, что мы можем узнать, изучая природу, поскольку конкретное явление могут вызывать самые разные механизмы, и когда мы пытаемся логически вывести из следствия причину, то можем лишь предположить разумную причину, которая вызвала данное явление{1196}.
Но Шейпин и Шаффер хотят превратить Гоббса в Витгенштейна XVII в., который верит, что все знание условно и сконструировано{1197}. Они приводят единственное доказательство этого утверждения, цитату из английского перевода работы Гоббса «О гражданине» (De cive, 1642), глава 16, § 16:
Кто-нибудь, пожалуй, мог бы возразить, что цари из-за недостаточной учености редко оказываются вполне подходящими лицами, чтобы толковать древние книги, в которых заключено Слово Божие, и что несправедливо поэтому, если эта обязанность будет зависеть от их власти. Но то же самое можно сказать и о священниках, и обо всех вообще людях: и они могут заблуждаться, и, если священники и природой и наукой лучше всех остальных людей подготовлены к этому, цари, однако, тоже достаточно разумно могут своею властью назначить такого рода толкователей. При этом, хотя сами цари не толкуют Слова Божия, это толкование может зависеть от их власти. Те же, кто хочет лишить их этой власти на том основании, что они не способны сами осуществлять это толкование, похожи на тех, кто стал бы говорить, что право преподавать геометрию не должно зависеть от царей, если они сами не являются геометрами[337].
Из этого они делают вывод, что, по мнению Гоббса, «сила логики… есть делегированная сила общества, использующая естественные мыслительные способности всех людей», и что «сила, лежащая в основе геометрических выводов», есть сила Левиафана{1198}. Это часть более широкого аргумента, что «решения проблемы знания есть решения проблемы социального порядка» и что «история науки занимает ту же область, что и история политики»{1199}. И Гоббс, и Витгенштейн, намекали они, понимали, что знание предполагает некую форму социального порядка, и наоборот.
К сожалению, их аргументация основана на глубоко ошибочном понимании текста Гоббса. В нем нет двусмысленности. Все мы приглашаем специалистов для выполнения той или иной работы, и нам не нужно самим быть специалистами, чтобы выбрать архитектора, строителя, автомеханика или хирурга. В случае с царем он выбирает экспертов, давая людям разрешение на то или иное занятие, – в мире Гоббса это прежде всего разрешение проповедовать. Для этого самому царю не требуется быть специалистом; достаточно последовать разумному совету. Гоббс вовсе не говорит, что царя следует считать специалистом; просто неспециалисты могут быть компетентными в выборе специалистов.
В эпоху Гоббса в Англии для работы школьным учителем требовалась лицензия, а латынь можно было преподавать только по одобренному учебнику, Lily’s Grammar. Это не означает, что все думали, будто латинская грамматика определяется королевским декретом; просто власти посоветовались со специалистами и выбрали один учебник, чтобы ученикам, переходящим в другую школу, не приходилось переучиваться по другой книге. Когда Гоббс говорит, что геометры получают право учить от царя, он имеет в виду, что царь выдает разрешение на преподавание геометрии и что делать это могут только люди, получившие такое право; он не имеет в виду, что царским указом определяются верные геометрические рассуждения. Конечно, царь может ошибиться; например, в современном мире он может придать гомеопатам такой же законный статус, как и сторонникам бактериальной теории происхождения болезней, а в XVII в. – уравнять католических и протестантских священников. Но это неверное решение не превращает плохую логику, плохую геометрию, плохую медицину или плохую теологию в хорошую логику, геометрию, медицину или теологию; оно просто даст право практиковать не тем людям.
Гоббс пишет не об истине, а о разрешении. На сайте Генерального медицинского совета Великобритании заявлено: «Для того чтобы практиковать медицину в Великобритании, закон требует от всех врачей регистрации и лицензии. Лицензия на практику дает врачу законное право заниматься определенного рода деятельностью в Соединенном Королевстве, например, выписывать медицинские препараты, выдавать свидетельства о смерти или кремации, занимать определенные медицинские должности (например, работать врачом в национальной системе здравоохранения)». Это не значит, что способность лечить больных делегируется врачам Генеральным медицинским советом, или что хорошая медицина – та, которую одобряет Совет, или что врачи не могут стремиться к усовершенствованию медицины, предлагая новые виды лечения. Просто вы не можете практиковать без лицензии. Гоббс разделял мнение Витгенштейна по поводу истины не больше, чем Генеральный медицинский совет Великобритании.
Неверная интерпретация Шейпина и Шаффера служит определенной цели: приравнивая взгляды Гоббса на истину к взглядам Витгенштейна (в их понимании), они могли превратить спор между Гоббсом и Бойлем в спор, который перекликается с современными дискуссиями о природе науки, и таким образом использовать его в процессе полемики. Гоббс у них релятивист, а Бойль – реалист. Если бы они не смогли найти в прошлом выразителя своих взглядов, то оказались бы уязвимыми перед обвинением, что они осмысливают прошлое, опираясь на наши категории, а не пытаются понять его в его собственных терминах; к счастью, Гоббс (по их мнению) использует те же категории, что и они, и поэтому прошлое и настоящее превосходно соединяются друг с другом. Таким образом, они легитимируют глубоко анахроничное понимание спора между Гоббсом и Бойлем, вкладывая собственное понимание этого спора в уста Гоббса.
Шейпин и Шаффер завершают свою книгу «Левиафан и воздушный насос» следующим утверждением: «По мере того как мы приходим к признанию условного и артефактного статуса наших форм знания, мы начинаем сознавать, что именно мы, а не реальность, ответственны за то, что знаем. Знания, как и государство, являются продуктом действий человека. Гоббс был прав»{1200}. По моему мнению, ответственность за наши знания лежит на нас самих и на реальности. Наука не похожа на государство, которое полностью создано нами, хотя разрушить ее – как и уничтожить деньги – совсем не легко. Колумб не «отвечает» за существование Америки, Галилей – за спутники Юпитера, а Галлей – за возвращение кометы, хотя эти открытия совершили именно они. У реальности своя роль. Именно это имел в виду Гоббс, когда говорил, что натурфилософия зависит как от «проявлений, или видимых эффектов» (мы бы сказали, «реальности), так и от «истинного логического умозаключения»{1201}.
А теперь обратимся к последней фразе: «Гоббс был прав». Шейпин и Шаффер никогда бы не сказали: «Бойль был прав». Они никогда бы не сказали: «Галилей был прав» или «Ньютон был прав». Это была бы виг-история. Почему же допустимо говорить о правоте Гоббса? Все просто. Гоббс не был прав насчет науки: они считали, что в отношении науки нельзя быть правым или неправым. Он был прав насчет условного характера знания. Здесь их релятивизм рушится, и они предлагают нам свою версию виг-истории. Откуда они знают, что Гоббс был прав? Потому что думают, что могут превратить его в предполагаемого Витгенштейна XVII в.
Превращать прошлое в настоящее, как советовал Баттерфилд, – это одно. Совсем другое – отвергать любой взгляд из настоящего в прошлое и настаивать, что прошлое должно преподноситься «в собственных терминах». Например, нам говорят, что «единственная ошибка в общем принципе, которую может совершить историк… это читать историю не так, как она происходила, а в обратном порядке»[338]{1202}. Как мы убедились в главе 2, это нелепое заявление – мы обязаны читать историю в обоих направлениях. У Робеспьера не было намерения приводить к власти Наполеона, но если мы хотим понять Наполеона, то должны вернуться назад и увидеть, каким образом сочетание французского абсолютизма и Французской революции подготовило почву для Наполеона. Ограничения, которые накладывал Баттерфилд на определенный вид взгляда в прошлое (целью которого является восхваление настоящего), превратились в отрицание взгляда в прошлое вообще.
Неспособность признать, что историю можно, или даже нужно, читать в обратном порядке, ведет к тому, что вне закона оказывается рад исторических вопросов. Так, Квентин Скиннер, самый влиятельный историк идей второй половины XX в., извинялся за свою новаторскую книгу «Основы современной политической мысли» (Foundations of Modern Political Thought, 1978). В 2008 г. в одном из интервью он говорил, что «ошибался… используя метафору, которая буквально призывает писать теологически. Моя книга слишком увлечена корнями нашего современного мира, тогда как я должен был попытаться представить мир, который я описывал, в его собственных терминах, насколько это возможно. Но трудность с написанием ранней современной истории Европы состоит в том, что, хотя их мир и наш мир сильно отличаются друг от друга, наш мир тем не менее каким-то образом возник из их мира, и поэтому, естественно, возникает искушение писать о корнях, основах, эволюции и развитии. Но я даже не думал, что могу поддаться этому искушению в наше постмодернистское время»{1203}. Обратите внимание, что здесь осуждается не просто любая история, которая связывает прошлое с настоящим (искушение, которому всегда следует сопротивляться), а любая история, которая имеет дело с корнями, эволюцией и развитием, то есть такая, которая написана с учетом результата.
Можно подумать, что это всего лишь оговорка (в конце концов, Скиннер давал интервью, а не писал), но она неизбежно следует из стремления представить прошлое «в его собственных терминах». Главная особенность человеческой истории состоит в том, что люди не могут заглянуть в будущее, и поэтому будущее – хоть и является результатом бесчисленных намеренных действий – остается непредвиденным для всех результатом{1204}. Никто не получает в точности то, что планировал, ожидал, рассчитывал получить. Чтобы написать историю, которая представляет прошлое в его собственных терминах, неизбежно придется писать историю, в которой процесс перемен полностью непостижим, – по той простой причине, что его невозможно предвидеть[339]. Здесь важно видеть различие между телеологической историей – идеей, что история имеет цель, – и ретроспективной историей, которая стремится изучать историю как процесс развития. У человеческой истории нет цели; но у нее есть много корней, основ, есть эволюция и развитие, и если вы их отбросите, то отбросите любую возможность понять перемены[340].
Читая историю в обратном порядке, не обязательно предполагать, что участники событий знали, куда она движется, или что конечный результат был предопределен. А. Дж. П. Тейлор («Истоки Второй мировой войны» (The Origins of the Second World War, 1961) не считал, что немецкие политики могли видеть приближение Второй мировой войны, – он пытался избежать предположения, что война стала результатом сознательного планирования, и искал лучшего объяснения. Скиннер, работая над «Основами» (если мне позволено защищать раннего Скиннера от позднего Скиннера), не воображал, что Макиавелли, Боден и Гоббс сознательно пытались заложить основы современного либерализма или современной теории государства. Дональд Келли, автор «Начала идеологии» (The Beginning of Ideology, 1981) ни на секунду не допускал, что французские интеллектуалы XVII в. предвидели современные «измы»[341]. Написание ретроспективной истории (я знаю, что некоторые историки находят это шокирующим) – абсолютно разумное интеллектуальное занятие{1205}. Историки, отказывающиеся участвовать в нем, произвольным образом и без необходимости сужают интеллектуальный диапазон истории; и действительно, история, написанная без использования преимуществ ретроспективного взгляда (если бы такое было возможно), была бы совсем не историей, а – если использовать термин Фуко – «генеалогией».
Источником большей части этих противоречий, по всей видимости, служат два явно проблемных аспекта работы историка. Во-первых, люди прошлого в основном понимали, что происходит, и разумно реагировали на события. Поэтому напрашивается вывод, что можно написать историю с точки зрения Галилея. Однако не подлежит сомнению, что Галилей никак не мог знать полного значения того, что делает. Например, Галилей, проводивший изящные эксперименты, так и не понял силу экспериментального метода и отверг работу Гильберта как недостаточно философскую. Учитывая подобные ограничения, не следует становиться на современные позиции; мы лишь должны взглянуть на Галилея с точки зрения Мерсенна, который сразу же стал повторять эксперименты Галилея, рассчитывая получить более точные результаты. (Конечно, всегда существует опасность, что мы просто превратим Мерсенна в выразителя наших взглядов, как это сделали Шейпин и Шаффер с Гоббсом, и поэтому следует проявлять осторожность.)
Второй потенциально проблемный аспект работы историка состоит в том, что некоторые важные изменения просто невидимы для участников событий[342]. Иногда люди действительно не понимают значения того, что делают, или понимают, но не излагают свои мысли письменно. Ньютон устроил скандал по поводу использования слова «гипотеза», но подобных споров не было относительно теорий, фактов или законов природы. Новая терминология была принята тихо, мимоходом, без особых размышлений. Тем не менее она знаменует появление нового способа мышления, который не изменился до наших дней. Идентификация этого способа мышления, а также того факта, что мы по-прежнему им пользуемся, является достойной задачей для историка – это можно назвать, если хотите, интеллектуальной археологией, в том смысле, что она имеет дело с изменениями, которые не были результатом сознательной и целенаправленной деятельности{1206}. Я также не думаю, что эти два типа исторического взгляда должны быть проблемными, хотя и представляются таковыми всем, кто стремится описать прошлое в его собственных терминах; и мне не кажется, что они заслуживают названия виг-истории.
Обратимся к примеру виг-истории в том значении, в каком обычно понимают этот термин. Когда сэр Джордж Кейли опубликовал свою работу «О воздушной навигации» (On Aerial Navigation, 1809–1810), анализ физики полета аппаратов тяжелее воздуха, он не мог представить современный самолет; тем не менее он изобрел изогнутый профиль крыла и то, что мы сегодня называем пропеллером[343]. Кроме того, Кейли не сомневался в возможности полета аппаратов тяжелее воздуха и сконструировал планер, способный поднять человека. Естественно, у него не было подходящего источника энергии: он пытался представить аэроплан на паровом двигателе, но трудности с реализацией такой машины были очевидны.
Мы можем с полным основанием утверждать, что Кейли заложил основы современной аэронавтики. Кейли был убежден, что совершил прорыв, но прошло еще сто лет, прежде чем значение его работы стало очевидным. Так, например, в журнале Science за 1912 г. статья «Проблема механического полета» (The Problem of Mechanical Flight) начинается так: «Научный период в авиации отсчитывается с 1809 г., когда сэр Джордж Кейли опубликовал… первую полную механическую теорию аэроплана», – а далее сообщается, что «эти труды остались незамеченными, пока их не раскопали шестьдесят лет спустя»{1207}. Что историки должны делать с Кейли? Я не вижу причин, почему они должны притворяться, что игнорируют его существование, хотя любая дискуссия о нем была бы отвергнута как виг-история. Нет ничего крамольного в том, чтобы признать значение Кейли, если только не распространять настоящее на эпоху первых летательных аппаратов. Точно так же упоминание о Кейли не превозносит современную авиацию или (например) не отрицает ее вклад в глобальное потепление. Кейли – не слишком крупная, но значимая фигура в истории науки, но нет никаких сомнений, что мы осознали его значение только задним числом.
Страх быть обвиненным в виговской или теологической истории настолько велик, что трудно найти историка, который высказывает простые, азбучные истины. К счастью, нам на помощь приходит философ Ричард Рорти. Он обрушился с критикой на замечания Стивена Вайнберга, который написал:
То, что Герберт Баттерфилд называл виг-интерпретацией истории, легитимно в истории науки, в отличие от истории политики и культуры, поскольку наука кумулятивна и позволяет точные суждения об успехе или неудаче{1208}.
Здесь Вайнберг непреднамеренно смешал три разных вопроса: кумулятивность (любая история, как и вся человеческая деятельность, кумулятивна), успех или неудача (есть много видов человеческой деятельности, которые допускают точные суждения об успехе или неудаче) и прогресс (уникальная черта современной науки и техники). Критика Рорти выглядела так:
Неужели Вайнберг хочет воздержаться от точных суждений об успехе или неудаче, скажем, конституционных изменений, которые стали следствием поправок, принятых в период Реконструкции, или пункта об урегулировании торговли между штатами во времена Нового курса? Неужели он хочет не согласиться с теми, кто считает, что поэты и художники стоят на плечах своих предшественников и накапливают знания о том, как сочинять стихи и писать картины? Неужели он думает, что при написании истории парламентской демократии или романа вы не должны, по-виговски, рассказывать историю аккумуляции? Может ли он сказать, как будет выглядеть не виговская, правильная история этих областей культуры?{1209}
История представляет собой кумулятивную запись успехов и неудач, и претензия, что она может быть чем-то иным, – странный предрассудок исторической литературы последних пятидесяти лет. (Нетрудно представить, что Рорти и Вайнберг могли бы без труда согласиться друг с другом, если бы договорились о терминах.)
Важная особенность науки Галилея и Ньютона, Паскаля и Бойля состоит в том, что она была отчасти успешной и заложила основу для будущих успехов. Они не знали, что несет с собой будущее, но у них было ясное понимание того, чего они пытаются достичь. Они были уверены, что движутся вперед, и мы не можем исключить этот прогресс из нашей истории, как не можем исключить влияние, которое они оказали на тех, кто пришел после них. Точно так же мы не можем исключить успех из истории парламентской демократии или романа, однако демократии иногда терпят неудачи, а романы становятся хуже, а не лучше. Особенностью науки является то, что этот процесс не только кумулятивный, но, по всей видимости (это отличие не распознает словарь), и аккумулятивный. Прошлое не только формирует настоящее; в науке достижения прошлого отступают (за исключением случаев цензуры, а также вмешательства религии или политики) только для того, чтобы смениться еще большими достижениями настоящего[344]. Эта необычная черта современной науки делает историю науки после 1572 г. уникальной историей прогресса, и становится неуместно писать историю науки в таком же скептическом тоне, как историю демократии или романа.
Таким образом, эта книга была намеренно написана в противовес определенным условностям, которые укоренились «в наше постмодернистское время». Я убежден, что вскоре эти условности станут такими же загадочными, как те, благодаря которым была написана виговская политическая история. Что же служит движущей силой релятивизма и постмодернизма? Некоторые считают, что это в основном политическая приверженность мультикультурализму, которая требует пересмотра при столкновении культур. В целом эта точка зрения мне представляется верной. Альтернативный взгляд заключается в том, что постмодернисты не желают признавать существования «реальности». Но и в этом случае понятие «реальности» считается само собой разумеющимся, тогда как нам нужна история меняющейся природы реальности. Я считаю, что этот второй взгляд также содержит зерно истины. Настаивать, как это делают историки-постмодернисты, на тотальной случайности, на идее, что не существует такой вещи, как зависимость от первоначально выбранного пути, на том, что мы вполне могли бы и сегодня заниматься алхимией или ездить на велосипедах с колесами разного диаметра, – значит отрицать основанную на реальности логику, которая привела к успеху определенных теорий и технологий, тогда как остальные потерпели неудачу{1210}. Наряду с политической приверженностью к мультикультурализму, благородной по своим намерениям, но чрезвычайно проблемной на практике, мы также должны признать и иллюзию, что мы можем переделать мир по своему желанию, а также не менее значимую иллюзию, что никто не может нам сказать о нереализуемости наших замыслов. Политика мультикультурализма нашла реальное отражение в постколониализме и иммиграции. Но постмодернистская эпистемология также имеет иллюзорное отражение в том, что мы можем назвать политикой исполнения желаний, согласно которой единственным препятствием для переделки мира согласно нашим желаниям являются идеи у нас в головах. Мир может быть таким, каким мы хотим его видеть, потому что он преобразуется мышлением. Когда Шейпин и Шаффер говорят, что «именно мы… ответственны за то, что знаем», они, вероятно, имеют в виду, что знание может быть таким, каким мы решим его сделать, и если нам не нравится наука, как мы ее понимаем, то достаточно лишь захотеть, чтобы она была другой.
Таким образом, внутри релятивизма прячется мечта о всемогуществе, и эта фантазия, возможно, является компенсацией за бессилие и отставание от жизни, присущее академической жизни. В 1919–1920 гг. итальянский марксист Антонио Грамши выбрал своим лозунгом «пессимизм интеллекта, оптимизм воли»{1211}. Политика последователей Фуко прямо противоположна: оптимизм интеллекта, пессимизм воли. Она провозглашает, что мы заперты в мире, созданном не нами, и одновременно настаивает, что препятствия к изменению мира создали только мы сами. Такой взгляд на политику впервые сформулировал близкий друг Монтеня, Этьен де ла Боэси. Монтень, чья преданность другу не знала границ, никогда не соглашался с этой точкой зрения.
17. «Что я знаю?»
Каким должен быть мир для того, чтобы человек мог познать его?
Томас Кун. Структура научных революций (1962){1212}
Говоря точнее, никакая теория познания не должна пытаться объяснить, почему нам удается что-то успешно объяснить… существует множество миров, как возможных, так и действительных, в которых поиски знаний и закономерностей обречены на неудачу.
Карл Поппер. Объективное знание (1972){1213}
В 1571 г. Монтень вышел в отставку с должности судьи. Ему было 37 лет – по нашим меркам это немного, а по меркам XVI в. уже порог старости. Он скорбел – все еще скорбел – по Этьену де ла Боэси, умершему в 1563 г., и его преследовали мысли о смерти. Монтень намеревался посвятить все свое время книгам – у него было огромное собрание, насчитывавшее тысячу томов. На потолочных балках своей библиотеки он написал около шестидесяти изречений классиков о тщете человеческой жизни и человеческого стремления к знанию. В сущности, эти цитаты кратко излагали содержание прочитанных им книг. У Монтеня была медаль, на которой были выбиты слова «Que say-je?» – «Что я знаю?» – и изображение весов. Весы не символизировали справедливость, поскольку были перекошены. Они символизировали неуверенность.
Новая жизнь не принесла Монтеню счастья, и он обратился к сочинительству как разновидности терапии, способу занять себя. Результатом стали «Опыты» (Essais), первый том которых, с первой и второй книгами, был опубликован в 1580 г. (Третья книга прибавилась в 1588 г., и Монтень продолжал вносить исправления в свой труд вплоть до своей смерти в 1592.) Слово «эссе» кажется нам привычным и естественным – студенты постоянно пишут эссе. Но во времена Монтеня оно имело значение «опыт» или «попытка». Монтень проверял, исследовал и изучал себя, пытался себя осмыслить. В «Опытах» он сделал важное заявление о нашем знании мира – знание всегда является субъективным, личным. Он также изобрел новый литературный жанр.
В первом издании «Опытов» особое значение имели два эссе. В середине первой книги помещено эссе о дружбе, прелюдия к планируемой первой публикации работы де ла Боэси «Рассуждение о добровольном рабстве» (Discours de la servitude volontaire), которую теперь часто называют первым анархистским текстом{1214}. В конечном итоге Монтеню не удалось опубликовать «Рассуждение», поскольку его опередили протестантские мятежники, и книга была осуждена как подстрекательская. Ла Боэси хотел понять, почему мы подчиняемся авторитетам. Его вывод: мы не должны этого делать.
Главное место (хотя и не центральное, которое отдано эссе «О свободе совести») во второй книге занимает самое длинное из всех эссе, «Апология Раймунда Сабундского», отрывок из которого, как мы уже видели в главе 9, сыграл важную роль в последующей дискуссии о законах природы. Раймунд Сабундский (1385–1436), богослов из Каталонии, написал книгу, которая предлагала рациональное объяснение христианских истин, и умирающий отец попросил Монтеня перевести ее на французский (посвящение к переводу Монтень датировал днем смерти отца, 18 июня 1568). Таким образом, происхождение «Апологии» было таким же глубоко личным, как и эссе о дружбе, и здесь мы тоже имеем дело с двумя текстами – книгой Сабундского в защиту христианства и «Апологией» Монтеня. Но в этот раз автором революционного текста является Монтень, поскольку «Апология» только кажется защитой Сабундского; при ближайшем рассмотрении выясняется, что это сокрушительная атака на все, что защищает богослов, безжалостная критика религии. Естественно, Монтеню приходилось излагать свои аргументы с величайшей осторожностью. Жертвой цензуры стала даже книга Сабундского – не за общую направленность, а за экстравагантные заявления, сделанные автором в предисловии в защиту своего труда. Сабундский связывал веру и логику, и поэтому критика Монтеня подрывала веру, показывая, что все утверждения богослова о знании преувеличены. Однако «Апология» подвергала сомнению не только разумность христианской веры, но и надежность всех утверждений философов. Дисциплины, которые мы теперь называем «наукой», формировались в XVI в. как часть философии[345], и «Апология» Монтеня была, помимо всего прочего, атакой на науку того времени.
Источники скептицизма Монтеня выявить несложно. Из-за ожесточенного конфликта между протестантами и католиками, который привел к долгой гражданской войне во Франции, к ужасным убийствам и жестокостям, любая претензия на истину выглядела фанатизмом. Гуманистическое учение (латынь была первым языком Монтеня, и он получил образование, которое было недоступно его отцу) возродило языческие верования греков и римлян, предложив реальную альтернативу христианству. Философские диспуты в средневековых университетах (между аристотелизмом Авиценны и аристотелизмом Аверроэса, между реалистами и номиналистами) выглядели ограниченными после публикации двух текстов, неизвестных мыслителям Средневековья: «О природе вещей» Лукреция, материалистический атеизм которой внимательно изучал Монтень (недавно был найден его экземпляр книги с многочисленными комментариями) и «Пирроновы положения» Секста Эмпирика (обнаружены в 1420-х гг., но опубликованы только в 1562){1215}. Открытие Нового Света наносило сокрушительный удар по любому утверждению, что существуют вещи, о которых могут договориться все человеческие существа, – выяснилось, что есть общества, где ходят обнаженными и практикуют каннибализм.
Скепсис Монтеня имеет границы. Он не сомневался, что можно сделать вино из винограда или найти дорогу из Бордо в Париж. Однажды кто-то попробовал убедить его, что древние не понимали, какие ветры дуют в Средиземноморе. Монтеня беспокоил этот аргумент: неужели они пытались плыть на восток, а плыли на запад? Неужели они отправлялись в Марсель, а попадали в Женеву? Конечно нет. Нет никаких оснований думать, что Монтень сомневался, что два плюс два равно четырем или что сумма углов треугольника равна двум прямым углам (хотя он считал парадоксальным геометрическое доказательство, что две линии могут приближаться друг к другу, но никогда не пересекаться){1216}. Он сомневался в другом: в возможности доказать истинность христианства или любой другой религии. Он сомневался, что Вселенная была создана для того, чтобы стать домом для человеческих существ, – это не более логично, чем утверждать, что дворец строится для того, чтобы в нем жили крысы{1217}. Он сомневался в существовании какого-либо морального принципа, который может способствовать всеобщему спасению, и он сомневался, что любая из наших сложных интеллектуальных систем объясняет мир. Врачи, считал он, скорее убьют своих пациентов, чем вылечат их. Почти полтора тысячелетия Птолемей казался абсолютно надежным экспертом во всех вопросах географии и астрономии, но затем открытие Нового Света показало, что его географические знания безнадежно устарели, а Коперник продемонстрировал, что есть жизнеспособные альтернативы птолемеевской космологии{1218}. Наши претензии на знания, полагал Монтень, обычно превратно истолковываются, поскольку мы не признаем своих ограничений как человеческих существ. Нам нужно помнить, что мудрость Сократа заключается в признании собственного невежества{1219}.
Монтень заканчивает (или почти заканчивает)«Апологию» цитатой из Сенеки: «Какое презренное и низменное существо человек, если он не возвышается над человечеством!» «Это хорошее изречение, – отмечает он, – и полезное пожелание, но вместе с тем оно нелепо: ибо невозможно и бессмысленно желать, чтобы кулак был больше кисти руки, чтобы размах руки был больше ее самой или чтобы можно было шагнуть дальше, чем позволяет длина наших ног. Точно так же и человек не в состоянии подняться над собой и над человечеством, ибо он может видеть только своими глазами и постигать только своими способностями». Разумеется, Монтень не мог на этом остановиться, поскольку еретические последствия этого очевидны. Поэтому он продолжает: «Он может подняться только тогда, когда Богу бывает угодно сверхъестественным образом протянуть ему руку помощи; и он поднимется, если откажется и отречется от своих собственных средств и предоставит поднять себя и возвысить небесным силам»{1220}. Была ли эта оговорка вынужденной? Читатели Монтеня разделены – и всегда были разделены – на тех, кто считает его поддержку католицизма искренней, и тех, кто считает ее просто уступкой цензуре. Свои симпатии я уже высказывал{1221}. Как бы то ни было, Монтень не приводил ни одного примера божественного вдохновения или божественного вмешательства, не сопроводив его сомнениями и описанием трудностей. Он указывал, что нас не сотворил Бог по своему образу и подобию, а наоборот, это мы творим себе богов, похожих на нас: «Словом, когда человек приписывает божеству какие-либо свойства или отказывает ему в них, он делает это по собственной мерке»{1222}. Монтень то настаивает, что верит в чудеса, то сомневается в собственной вере. В конечном итоге он обосновывает обязательство быть христианином обязательством подчиняться законам своей страны – но с точки зрения разумного человека содержание этих законов полностью произвольно{1223}.
Здесь нет нужды углубляться в эту проблему. Для нас достаточно понять, что Монтень отрицал не практическое знание своего времени – как делать вино или печь хлеб, – а накопленные знания, такие как в медицине, географии, астрономии. Монтень называл эти разные отрасли знания «науками». В том, что касается наук того времени, скептицизм Монтеня был абсолютно оправдан: ни один принцип натурфилософии, которому учили в университетах в 1580 г., не изучается в наши дни. Аргументы Монтеня против религии и общепринятых моральных принципов сегодня так же остры, как и при его жизни, но его аргументы против наук того времени неприменимы к современным наукам. В наши дни наука стала совсем другой.
По утверждению Монтеня, человеческие существа несовершенны, и поэтому человеческое знание ненадежно. Гален настаивал, что ладонь здорового врача является превосходным инструментом для определения горячего и холодного, влажного и сухого – четырех качеств, присущих нашему миру. Если пациент горячее ладони врача, значит, у него жар, – и дело с концом. В мире установлен божественный порядок так, чтобы наше восприятие горячего и холодного соответствовало реальным качественным различиям. Монтень бы с этим не согласился. У нас пять чувств, но кто знает, сколько их понадобится, если мы захотим узнать, что происходит на самом деле? Кто знает, что мы пропускаем? Разумеется, он прав: летучие мыши воспринимают мир совсем не так, как мы, и неверно предполагать, что эхолокация позволяет им узнать то, что мы узнаем другими способами, поскольку она дает им возможности, которых у нас никогда не будет{1224}. Дидро в «Письме о слепых» – работе, точно так же ниспровергающей устои, как и «Апология», – формулирует точку зрения, что слепой философ должен быть атеистом, поскольку не способен воспринимать порядок и гармонию во Вселенной{1225}. То, что мы знаем о мире, и то, что мы думаем, что знаем, полностью зависит от восприятия этого мира.
Великое преобразование, которое мы называем научной революцией и которое по-настоящему началось через год после того, как Монтень удалился в свою библиотеку, включало также совершенствование наших чувств. Магнитный компас позволил морякам воспринимать магнитное поле Земли. Телескоп и микроскоп позволили ученым взглянуть на ранее невидимые миры. Термометр заменил руку Галена в качестве средства для измерения температуры. Барометр показывал, с какой силой воздух давит на нашу кожу. Маятниковые часы позволили получить объективную меру субъективного ощущения – хода времени. Новые инструменты означали новое восприятие, а с ним пришло новое знание.
Все эти инструменты зависели – по крайней мере, отчасти – от искусства обработки стекла и предоставляли зрительную информацию. В один ряд с ними мы можем поставить механическое воспроизведение текста и изображений с помощью печатного станка, что коренным образом изменило передачу знания и сформировало новый тип интеллектуального сообщества. Труд Монтеня «Опыты», который он писал в библиотеке в окружении полок с печатными изданиями, сам служит свидетельством появления новой книжной культуры; распространяемый с помощью печатного станка, этот труд показывал каждому читателю, как осуществить собственный проект познания себя.
Обычно телескоп считают научным инструментом, а печатный станок – чем-то внешним по отношению к науке, но первые телескопы были изготовлены не учеными и не для ученых, а печатный станок изменил интеллектуальные устремления ученых, поскольку дал возможность работать не только с текстом, но и с подробными изображениями. Оба устройства появились как практичные приспособления и стали научными инструментами. Таким образом, новая наука опиралась на несколько ключевых отраслей техники, которые играли роль, как выразилась Элизабет Эйзенштейн, «агентов перемен»{1226}.
В «Опытах» Монтеня можно увидеть и другие важные последствия появления печатного станка: книга способствовала новому критическому отношению к авторитетам, а это, в свою очередь, вело к представлению, что знания необходимо проверять и перепроверять. В случае Монтеня результатом стал необычный акцент на субъективность нашего знания, его зависимость от личного опыта. Унаследованные знания больше не могли приниматься безоговорочно. Но по мере накопления новых знаний печатный станок, вместо того чтобы поощрять скептицизм, способствовал появлению нового вида уверенности. Факты можно проверить, эксперименты воспроизвести, мнения авторитетов поставить рядом и сравнить. Интеллектуальное исследование могло быть гораздо более глубоким и широким, чем раньше. Печатный станок был необходимым условием для этого нового убеждения, что знание, больше не опирающееся на авторитеты, может наконец стать надежным.
Новые инструменты и океаны печатных книг открыли новый опыт и развенчали старые авторитеты. Прежняя история науки – история науки Берта, Баттерфилда и Койре – отвергала идею, что новая наука XVII в. была в первую очередь следствием новых свидетельств; главным были новые способы мышления. Новая история науки, начиная с Куна, пыталась обосновать эти новые способы мышления в интеллектуальных сообществах: успех новых идей зависел от конфликта и соперничества как внутри сообщества мыслителей, так и между сообществами. Ставя под сомнение идею, что эксперименты можно успешно воспроизвести, поколение историков после Куна, к которому принадлежат Шейпин и Шаффер, стремилось продемонстрировать, что сам по себе опыт непредсказуем, пластичен и конструируется обществом. По их мнению (и в этом они единодушны с Куном), социальная история знания не просто один аспект истории науки; скорее социальная история знания – единственная история, которая может быть написана.
Признание недостатков постмодернистской истории науки не означает, что мы просто должны вернуться к Куну или Койре. Проблема с концентрацией на изменении парадигмы, которое их интересовало, заключается в том, что вы перестаете видеть более широкую окружающую среду, в которой происходят эти изменения: например, Кун описывает теорию Коперника таким образом, что открытие Коперника предстает как само собой разумеющееся, телескоп практически не появляется, а о языке науки не упоминается вообще. Кун воспринимал науку как данность, а при этом неизбежно пропускается процесс ее формирования, очень важный для запоздалого триумфа идей Коперника. Кун не видел, чего он не учитывает, поскольку предполагал, что наука возникла задолго до 1543 г., а также потому, что серьезно недооценил препятствия, мешавшие признанию теории Коперника, – препятствия, обусловленные подчиненным положением астрономии по отношению к философии. Такой подход может объяснить локальные изменения – как Паскаль разработал теорию давления или Бойль открыл свой закон, – однако он не способен объяснить череду опытов с пустотой от Берти до Папена (атмосферная паровая машина Ньюкомена была скорее не новым начинанием, а завершением этой длительной работы), поскольку во время этих опытов формировалась новая культура, стремившаяся разрешить интеллектуальные споры посредством экспериментов. Эта культура сама родилась из более раннего проекта, когда интеллектуальные диспуты относительно строения Вселенной стремились разрешить с помощью еще более точных наблюдений, проекта новой астрономии, основанной Тихо Браге. Когда математики переключили свое внимание с наблюдений на эксперименты, с астрономии на физику, выяснилось, что им требуются новые инструменты мышления, новый язык. Часть этого языка – гипотезы и теории – пришла из астрономии, часть – факты, а затем и свидетельства – из юриспруденции. Эта новая терминология была важна для объяснения статуса нового знания, хотя именно язык мы привыкли принимать как данность, и поэтому его изобретение осталось незаметным. Предполагалось, что либо язык приходит естественным путем, либо все необходимые инструменты мышления для естественных наук были разработаны древними греками. Как мы видели, и то и другое неверно.
Исследователи науки обычно предполагали, что следует принимать во внимание три главных переменных: опыт (факты, эксперименты), научное мышление (гипотезы, теории) и общество (социальный статус, профессиональные организации, журналы, связи, учебники). Концепция парадигмы Куна, которую он понимал как сплав практики, теории и образовательной программы, представляла собой конкретный способ взаимодействия трех упомянутых переменных. Эта фундаментальная схема могла быть поставлена под сомнение после публикации книги Хакинга «Появление вероятности» (1975), в которой автор утверждал, что мышление в терминах вероятности стало мощным интеллектуальным инструментом, который появился только в 1660-х гг.[346] Но нам должно быть очевидно, что вероятность была лишь одним из целого ряда инструментов мышления, появившихся в XVII в.: материал, из которого можно построить новую историю науки и которого не было в 1975 г.
Выделение Хакингом теории вероятностей как особого способа мышления помогло прояснить интеллектуальные альтернативы, доступные до появления понятия вероятности. Из всего, что написано Галилеем, чаще всего цитируются эти строки:
Философия записана в огромной книге, раскрытой перед нашими глазами. Однако нельзя понять книгу, не зная языка и не различая букв, которыми она написана. Написана же она на языке математики, а ее буквы – это треугольники, четырехугольники, круги, шары, конусы, пирамиды и другие геометрические фигуры, без помощи которых ум человеческий не может понять в ней ни слова; без них мы можем лишь наугад блуждать по темному лабиринту{1227}.
По мнению Галилея, единственные инструменты мышления, необходимые ученому, – это те, которые предоставляла геометрия. Это было логично, поскольку только они понадобились для астрономии Коперника и для двух новых наук Галилея, о летящих предметах и о несущих конструкциях[347]. Настаивая на их исключительности, Галилей отвергал логику Аристотеля как лишнюю. Конечно, после Аристотеля были изобретены разные языки науки, в том числе алгебры, дифференциального исчисления и вероятности.
Напрашивается вывод, что новым знанием мы обязаны новой аппаратуре – телескоп Галилея, воздушный насос Бойля, призма Ньютона, – а не новым инструментам мышления[348]. Зачастую этот вывод ошибочен: если рассматривать столетний период, то рандомизированные клинические исследования (стрептомицин, 1948) могут оказаться более значимыми, чем рентген (1895) или даже магниторезонансный сканер (1973). Новые инструменты просты и очевидны – в отличие от новых инструментов мышления. В результате мы склонны переоценивать значение новой техники и недооценивать производительность и влияние новых инструментов мышления. Хорошим примером может служить инновация Декарта, который предложил для обозначения неизвестных величин в уравнениях использовать последние буквы алфавита (x, y, z), или введение Уильямом Джонсоном числа в 1706 г. Лейбниц был убежден, что появление математических символов улучшит рассуждения точно так же, как телескоп улучшил зрение{1228}. Еще один пример – графики. Теперь мы к ним настолько привыкли, что с трудом верится, что в естественных науках их начали использовать только в 1830-х гг., а в общественных – в 1880-х гг. График является новым мощным инструментом мышления{1229}. Такое фундаментальное понятие, как статистическая значимость, впервые было предложено Рональдом Фишером в 1925 г. Без него Ричард Долл не смог бы в 1950 г. доказать, что курение приводит к раку легких.
Материальные инструменты влияют не так, как инструменты мышления. Материальные инструменты позволяют действовать: пилить дерево, забивать гвозди. Эти инструменты зависят от уровня развития техники. Отвертка появилась только в XIX в., когда стало возможным массовое производство одинаковых винтов; до этого небольшое количество произведенных вручную винтов закручивали кончиком ножа{1230}. Телескопы и микроскопы основаны уже на существовавшейтехнике изготовления линз, а термометры и барометры – на искусстве стеклодувов. Телескопы и термометры не изменяют окружающий мир, как пилы или молотки, но они меняют наше восприятие мира. Они преобразовывают наши чувства. Монтень говорил, что люди могут видеть только с помощью своих глаз; когда люди посмотрели в телескоп (что, конечно, было недоступно Монтеню), они по-прежнему видели глазами, но смогли рассмотреть то, что было недоступно невооруженному глазу.
Инструменты мышления манипулируют идеями, а не материальным миром. И предпосылки у них концептуальные, а не технические. Некоторые инструменты относятся одновременно к двум этим категориям. Абак – это материальный инструмент для выполнения сложных вычислений, позволяющий складывать и вычитать, умножать и делить. Он материален по своей сути, но результатом его работы является число, которое нельзя назвать ни материальным, ни нематериальным. Абак – материальный инструмент для выполнения умственной работы. Точно таким же инструментом являются арабские цифры. Я пишу 10, 28, 54, а не x, xxviii, liv, как в Древнем Риме. Арабские цифры являются инструментом, который позволяет мне складывать и вычитать, умножать и делить, используя лист бумаги, гораздо быстрее, чем я мог бы это сделать с римскими цифрами. Они существуют и в виде значков на бумаге, и в моей голове; подобно абаку, они преобразуют способ моей манипуляции числами. Цифра ноль (неизвестная древним грекам и римлянам), десятичная запятая (изобретенная Христофором Клавием в 1593), алгебра, дифференциальное исчисление – все это инструменты мышления, изменившие возможности математики{1231}.
Теперь должно быть очевидно, что современная наука опирается на целый набор инструментов мышления, которые не менее важны, чем абак или алгебра, но, в отличие от абака, не существуют в виде материальных объектов, а в отличие от арабских цифр, алгебры или десятичной запятой, не требуют конкретной записи. На первый взгляд, это просто слова («факты», «эксперименты», «гипотезы», «теории», «законы природы» и «вероятность»), но эти слова заключают в себе новые способы мышления. Характерная особенность этих инструментов (в отличие от тех, которые используют математики) заключается в том, что эти ситуационные, подверженные ошибкам и несовершенные инструменты позволяют получить надежное и достоверное знание. Они предполагают философские утверждения, которые трудно, а иногда и невозможно защитить, но которые эффективны на практике. Они соединяют мир Монтеня – мир веры и необоснованной убежденности – с нашим миром надежного и эффективного знания. Они объясняют загадку, почему мы до сих пор не можем сделать кулак больше, чем кисть руки, или шагнуть дальше, чем позволяет длина наших ног, но можем знать больше, чем знал Монтень. Точно так же, как телескоп расширил возможности глаза, эти инструменты расширили возможности нашего разума.
В XVII в. значение ключевых слов смещалось и изменялось и медленно формировался современный научный – или, скорее, метанаучный – словарь. Этот процесс одновременно отражал и порождал новый стиль мышления{1232}. Происходившие изменения редко становились предметом открытых дебатов в сообществе интеллектуалов и обычно оставались не замеченными историками и философами (отчасти потому, что сами термины не были новыми – типичным в этом отношении является «вероятность», – даже если их начинали использовать по-новому), но именно они изменили характер претензий на знание{1233}.
Наряду с этими инструментами мышления мы видим появление сообщества, привыкшего к их использованию: новый язык науки и новое сообщество ученых – это две стороны единого процесса, поскольку язык не может быть приватным. Сплачивал это сообщество не только новый язык, но и ряд конкурентных и коалиционных ценностей, которые нашли выражение в языке для описания научного предприятия (а не в самих научных спорах), а также в концепциях открытия и прогресса и в конечном итоге институционализировались в эпонимии. Особенностью этих инструментов мышления и культурных ценностей было их отличие от парадигм. Парадигмы появлялись и исчезали: одни просто умирали, другие оставались во вводной части учебников. Новый язык и новые ценности науки живут уже 300 лет (500, если считать их общим источником «открытие»), и нет никаких оснований предполагать, что вскоре они выйдут из моды. Подобно алгебре и дифференциальному исчислению, эти инструменты и ценности отражают приобретения слишком важные, чтобы их можно было отбросить, и они не хранятся, как музейные экспонаты, а постоянно используются. Почему? Потому что новый язык и научная культура все еще составляют (и я убежден, будут составлять) основу научной деятельности. Их появление неотделимо от появления науки.
Научная революция была единым процессом преобразований, кумулятивной последовательностью, не одной многократно повторяющейся разновидностью перемен, а состоявшей из нескольких разных типов изменений, пересекающихся и взаимосвязанных. Во-первых, существовала культурная основа, внутри которой родилась наука. Эта основа включала такие концепции, как открытие, оригинальность, прогресс, авторство, а также соответствующие практики (например, эпонимию). Философы и историки старой школы воспринимали эту основу как данность, тогда как новая школа хотела скорее развенчать или разрушить понятия, чем объяснить их значимость или проследить корни. Эта культура появилась в определенный период, и, пока ее не было, не могло существовать науки, как мы ее понимаем. Конечно, критики правы в том, что такие понятия, как открытие, противоречивы: его редко делает один человек в какой-то определенный момент. Но, подобно множеству других проблемных понятий (демократия, справедливость, превращение), они задавали и продолжают задавать рамки, внутри которых люди осмысливали и осмысливают свою деятельность, а также решали и решают, как жить. Мы не можем понять науку, не изучая историю этих фундаментальных понятий.
Эта новая основа и печатный станок меняли природу интеллектуальных сообществ, а также знания, которыми они могут обмениваться, и отношение к авторитетам и к свидетельствам, получаемым естественным путем. Потом появились новые инструменты (телескопы, микроскопы, барометры, призмы) и новые теории (закон падения тел Галилея, законы движения планет Кеплера, теория цвета и света Ньютона). Наконец, новая наука получила особую идентичность посредством нового языка фактов, теорий, гипотез и законов. Таким образом, в XVII в. в результате взаимодействия пяти фундаментальных изменений возникла современная наука. Изменения в общей культуре, в доступности свидетельств и в отношении к ним, в инструментарии, в узко определенных научных теориях, в языке науки и в сообществе пользователей этого языка – все они действовали в разном масштабе времени и были обусловлены разными, независимыми факторами. Но кумулятивный эффект привел к фундаментальному изменению природы нашего знания о материальном мире, к рождению науки.
Поскольку каждое из этих изменений было необходимо для появления новой науки, нам не следует пытаться сравнивать их значимость. Но если присмотреться внимательнее, то становится очевидным, что главная особенность новой науки – победа опыта над философией. Каждое из этих изменений ослабляло позицию философов и усиливало позицию математиков, которые, в отличие от философов, приветствовали новую информацию. Новый язык науки был прежде всего языком, который давал новым ученым инструменты для обращения со свидетельствами, или, как их тогда называли, опытом. Леонардо, Паскаль и Дидро (а также Вадиан, Контарини, Картье и все остальные) были правы: именно опыт символизировал разницу между новой и старой наукой.
Монтень тоже был прав – в том, что его современники безнадежно ошибались, когда речь шла о понимании мира. С тех пор, вопреки утверждениям постмодернистов, мы научились получать достоверное знание, хотя склонность человека к ошибкам ничуть не уменьшилась. Конечно, в глазах будущих поколений современные знания будут выглядеть неполными и ограниченными; мы даже не догадываемся о том, что будем когда-нибудь знать. Но доказать ненадежность наших знаний невозможно. Мы умеем достоверно вычислить траекторию ракеты, летящей с Земли на Марс. Мы умеем секвенировать ДНК человека и определить генетические мутации, которые вызывают, например, диабет. Мы можем построить ускоритель частиц. Мы не могли бы всего этого делать, будь наше знание полностью неверным, – любой, кто предполагает, что могли бы, должен сталкиваться с таким же раздражением, с каким Монтень отнесся к утверждению, что римляне не понимали, какие ветры дуют в Средиземноморье.
Хилари Патнем в 1975 г. заявил, что реализм – убеждение, что наука добивается истины, – представляет собой «всего лишь философию, которая не делает успех науки чудом»{1234}. Логика тут простая: наука очень хороша в объяснении того, что происходит, и в предсказании того, что должно произойти. Если научное знание истинно, то состояние дел не требует дальнейших объяснений; но если научное знание не является истиной, в таком случае такое точное совпадение предсказаний ученых с тем, что действительно происходит, можно объяснить лишь чудом. Аргумент Патнема опроверг Ларри Лодан, который не согласился с утверждением, что успешные научные теории, скорее всего, истинны, – и он был прав{1235}. Многие теории, которые мы теперь считаем ошибочными, в прошлом пользовались успехом. Я имею в виду не те, которые всегда имели недостатки, критиковались современниками, но все же получили широкое распространение: медицина Гиппократа (гуморальная), алхимия, френология. Я говорю о теориях, которые признавались наукой своего времени, были основаны на серьезных свидетельствах, давали казавшиеся убедительными объяснения и успешно использовались для предсказания: система Птолемея, флогистон (вещество, которое испускают горючие вещества при горении, – так считали с 1667 г. до конца XVIII в.), теплота (упругая жидкость, которую в первой половине XIX в. считали физической основой тепла) и электромагнитный эфир (во второй половине XIX столетия его считали средой для передачи света).
Эти случаи отличались, например, от ньютоновской физики. При помощи теории относительности Эйнштейна вы можете сконструировать мир – мир нашего повседневного опыта, – в котором законы Ньютона достаточно точно описывают происходящее. Астрофизики для расчета траектории космических аппаратов до сих пор пользуются теорией Ньютона, а не Эйнштейна: хотя вычисления в теории Ньютона основаны на взглядах, которые мы теперь считаем ошибочными, разница между ними и вычислениями, учитывающими относительность пространства и времени, слишком мала, чтобы о ней беспокоиться. Таким образом, можно считать, что физика Эйнштейна унаследовала результаты физики Ньютона и вышла далеко за их пределы. Но для теплоты или электромагнитного эфира не существовало теории-преемницы, и мы теперь не говорим, что эти теории, некогда общепризнанные, были полезным приближением к истине. Тем не менее из того факта, что мы больше не считаем эти теории истинными или даже полезными, вовсе не следует, что их никогда не ассоциировали с надежными экспериментальными практиками; подобно астрономии Птолемея, они были обоснованными в определенных границах. Аргументы Лодана направлены против утверждения Патнема, что наука добивается истины, а не против того, что признаком науки является достоверность{1236}. В 1664 г. Маргарет Кавендиш, сравнивая поиски истины с тщетными поисками философского камня, способного превратить неблагородный металл в золото, писала:
…Натурфилософы не могут открыть абсолютную истину природы, ее основы или тайные причины природных явлений, но они тем не менее нашли много необходимого и полезного. Искусства и науки улучшают жизнь человека… Вероятность близка к истине, и поиск скрытых причин объясняет видимые явления{1237}.
Конечно, достоверность – понятие неоднозначное. Достаточно привести пример врачей эпохи Монтеня. Они считали, что используют свои знания для излечения пациентов. На самом деле наиболее популярные методы (кровопускание и слабительное) не приносили никакой пользы{1238}. Естественное (благодаря работе иммунной системы) выздоровление пациентов в сочетании с эффектом плацебо выдавалось за результат лечения (все разумные, не связанные с медициной люди вроде Монтеня именно это и подозревали)[349]. До XIX в. в медицине не существовало надежных методов для оценки успеха.
Но в ту же эпоху у астрономов, придерживавшихся системы Птолемея, ситуация кардинально отличалась от ситуации у врачей, сторонников Галена. Клавий утверждал, что эксцентрики и эпициклы должны существовать – в противном случае успех предсказаний астрономов необъясним:
Однако предположение об эксцентрических окружностях и эпициклах не только объясняет все известные явления, но и предсказывает будущие явления, время для которых в целом неизвестно… Но неразумно предполагать, что мы должны заставлять небесные тела (но именно так мы и поступаем, если эксцентрические окружности фиктивны, как утверждают наши противники) подчиняться нашим фантазиям и двигаться так, как мы пожелаем, или согласно нашим принципам{1239}.
Клавий ошибался – эксцентриков и эпициклов в природе не существует, – однако он был прав в том, что способен с высокой точностью предсказать будущие движения небесных тел. Подобно Клавию, мы проверяем наши знания, применяя их на практике, и именно это отличает наши знания от большинства наук во времена Монтеня. По сравнению с философией XVI в. все наши науки являются прикладными, и все наши знания достаточно надежны, чтобы выдержать испытание реальным миром, пусть даже в форме эксперимента. Вкратце это можно выразить двумя словами: наука эффективна.
Если вы осваиваете искусство мореплавания, вас научат работать с системой Птолемея, где Земля неподвижна, а Солнце движется, но не потому, что она истинна, а потому, что облегчает вычисления. Таким образом, неверная теория может быть абсолютно надежна, когда применяется в подходящем контексте. Если мы больше не используем эпициклы, флогистон, теплоту или эфир, то не потому, что с помощью этих теорий невозможно получить надежные результаты; просто у нас есть альтернативные теории (их мы считаем истиной), которые применять так же просто и которые имеют более широкое применение. Нет никаких оснований предполагать, что когда-нибудь наша физика, подобно медицине Гиппократа, будет признана приобретенной чепухой, но вполне вероятно, что она дает – подобно эпициклам Птолемея – верный результат, руководствуясь абсолютно неверными причинами. Наука позволяет получить надежное знание (то есть надежное предсказание и управление), но не истину{1240}.
Когда-нибудь мы можем обнаружить, что часть наших самых уважаемых форм знания устарела, подобно эпициклам, флогистону, теплоте, электромагнитному эфиру или физике Ньютона. Но можно не сомневаться, что ученые по-прежнему будут обсуждать факты и теории, эксперименты и гипотезы. Эта концептуальная основа оказалась удивительно устойчивой, несмотря на то что научное знание, которое описывалось и подтверждалось с ее помощью, изменилось до неузнаваемости. Подобно тому как любое прогрессивное знание естественных процессов нуждается в таком понятии, как «открытие», точно так же дальнейшее развитие потребует способа представления знания одновременно надежного и могущего быть отмененным: используемые для этой цели термины «факты», «теории» и «гипотезы» необходимы в любой отрасли науки.
В заключение следует признать, что наше научное знание мы получили наперекор всему. Нет никаких свидетельств того, что мир была создан для нас, но благодаря счастливому случаю мы обладаем сенсорным аппаратом и мыслительными способностями, необходимыми для понимания мира, и за последние 600 лет мы создали материальные и интеллектуальные инструменты, которые нужны для того, чтобы продвинуться дальше на этом пути. Роберт Бойль спрашивал:
И как доказать, что всемогущий Бог или этот достойный восхищения изобретатель, Природа, могут демонстрировать явления лишь теми способами, которые объяснимы слабым разумом человека? Я говорю, объяснимы, а не познаваемы, поскольку могут существовать вещи, о которых мы думаем, что достаточно хорошо их понимаем, если Бог или некое более разумное, чем мы, существо озаботилось тем, чтобы рассказать нам о них, но мы сами никогда бы не открыли этих истин{1241}.
Нам пока не помогали ни Бог, ни ангелы, ни инопланетяне, однако все большее число явлений объясняются слабым разумом человеческих существ.
Наука – программа исследований, экспериментальный метод, взаимосвязь чистой науки и новой техники, язык отменяемого знания – появилась в период с 1572 по 1704 г. Последствия этого видны до сих пор – и, по всей вероятности, не исчезнут никогда. Но мы не только используем технологические преимущества науки: современное научное мышление стало важной частью нашей культуры, и теперь нам уже трудно представить мир, в котором люди не говорили о фактах, гипотезах и теориях, в котором знание не было основано на свидетельствах и где у природы не было законов. Научная революция стала почти невидимой просто потому, что она оказалась удивительно успешной.
Комментарии
Греческая и средневековая «наука»
Вся эта книга направлена против тезиса непрерывности (примером может служить работа Lindberg. The Beginnings of Western Science, 1992), но в данных комментариях я хочу изложить главные аргументы и сделать некоторые важные признания.
Утверждение, что науки не существовало до 1572 г., когда Тихо Браге увидел сверхновую, вызывает очевидные (но по большей части ошибочные) возражения. Кун считал астрономию Птолемея зрелой наукой (Kuhn. Structure, 1970): не подлежит сомнению, что в ней имелись работающие парадигмы и способность к прогрессу. Хотя некоторые ее главные положения – всякое движение в небесах является круговым, небеса неизменны, Земля находится в центре Вселенной, пустота невозможна – позаимствованы из философии (Кун в The Copernican Revolution, 1957, называет их «шорами» и «преградами»), они довольно хорошо согласовывались с опытом. Это сделало возможными не только систему Коперника, но и программу исследований Тихо Браге. Однако астрономия была особенной дисциплиной, поскольку безоговорочно принимала аристотелевское разделение на подлунный и надлунный мир. Эта граница начала разрушаться только в 1572 г., а вместе с ней – представление, что разными частями Вселенной управляют разные законы и что каждому месту должна соответствовать своя наука. 1572 г. – это действительно переломный момент.
Есть довольно серьезные аргументы в пользу того, что биология Аристотеля была наукой (Leroi. The Lagoon, 2014). Но Аристотель не заложил основ биологических исследований. В XVII в. Уильям Гарвей считал себя аристотелевским биологом, но утверждал, что между ним и Аристотелем был только один человек, который понимал, как нужно проводить биологические исследования, – его учитель (и друг Галилея) Иероним Фабриций д’Аквапенденте (Lennox. The Disappearance of Aristotle’s Biology, 2001). Точно так же можно привести убедительные доводы в пользу того, что Архимед был ученым (Russo. The Forgotten Revolution, 2004), однако его наука почти не имела влияния во времена Средневековья, за исключением тех случаев, когда ее можно было встроить в учение Аристотеля. Только в конце XVI в. математики начали догадываться, что наука Архимеда может заменить науку Аристотеля (Clagett. The Impact of Archimedes on Medieval Science, 1959; Laird. Archimedes among the Humanists, 1991). Таким образом, научная революция вдохнула жизнь в забытые аристотелевскую биологию и математику Архимеда, но вскоре отошла от своих источников: у Гарвея не было последователей, которые, как и он, объявляли о своей приверженности взглядам Аристотеля, а у Галилея не было сторонников, считавших себя, подобно ему, учениками Архимеда.
По мнению Куна, динамика Аристотеля тоже была зрелой наукой (Kuhn. Structure, 1970. 10; см. также: Kuhn. The Copernican Revolution, 1957. 77–98; Kuhn. The Essential Tension, 1977. 24–35, 253–265; Kuhn. The Road since Structure, 2000. 15–20). Кун отказывался признавать оптику наукой до Ньютона, поскольку существовали соперничающие «школы» (и, следовательно, не было «нормальной» науки), но динамику Аристотеля считал успешной парадигмой, которая в конце Средневековья была заменена теорией импульса, а та, в свою очередь, привела к новой физике Галилея (Kuhn. Structure. 1970. 118–125). Критерий здесь такой: «Последовательный переход от одной парадигмы к другой через революцию является обычной моделью развития зрелой науки» (Kuhn. Structure, 1970. 12). Но средневековая теория импульса не обеспечила такого перехода. Аристотель по-прежнему считался непререкаемым авторитетом, и, хотя теория импульса использовалась для устранения проблем внутри теории Аристотеля, самостоятельные труды по теории импульса отсутствовали (Sarnowsky. Concepts of Impetus, 2008). Теория импульса применялась для устранения некоторых аномалий и не несла с собой революцию; средневековые натурфилософы не могли даже представить революцию, результатом которой стала бы замена Аристотеля. И поскольку нормальной науки у них не было, они не сумели разрешить загадки, ставившие их в тупик. В Средние века натурфилософия существовала в двух характерных формах: комментарии к Аристотелю и собрание quaestiones, или задач, не имевших согласованного решения. Со временем к старым задачам прибавлялись новые.
Конечно, одна из причин того, что натурфилософия Аристотеля практически не встречала возражений на протяжении всего Средневековья, заключалась в том, что эксперименты проводились только в нескольких очень ограниченных областях (магниты, радуга, алхимия), а обращение к опыту никогда не предполагало измерений. Так, в объемном труде Clagett. The Science of Mechanics in the Middle Ages (1959) утверждается, что первыми настоящими экспериментами были эксперименты Галилея. Если обратиться к еще более объемной работе, A Source Book in Medieval Science (1974), то мы найдем в ней раздел, названный редактором «Эксперименты, демонстрирующие, что природа не терпит пустоты (327, 328), перевод из Марсилия Игинского (1340–1396). Но это все experientiae, или опыт: Марсилий собрал примеры явлений, которые, по его мнению, лучше всего объяснялись утверждением, что природа не терпит пустоты (например, возможность всасывать воду через соломинку). Он не проводил экспериментов. Если же мы обратимся к труду Уильяма Гильберта (On the Magnet, 1600), то найдем там не только специально разработанные эксперименты, но также (чего не было у его предшественников, например Гарцони) эксперименты, требующие измерений.
Существовала очень влиятельная интеллектуальная традиция, в рамках которой исследователи стремились показать, что средневековая философия была необходимым условием современной науки (например, Grant. The Foundations of Modern Science, 1996; Hannam. God’s Philosophers, 2009). Эта работа основана на новаторских исследованиях Пьера Дюэма (1861–1916), Аннелизы Майер (1905–1971) и Маршалла Клагетта (1916–2005). Я не собираюсь спорить с утверждением, что существованием наук мы обязаны Аристотелю и что средневековые философы открыли некоторые направления исследований; первые ученые унаследовали часть задач от своих предшественников, но их процедуры для решения этих задач были новыми, а инструменты мышления, созданные ими для выполнения этих процедур, заимствовались не из философии, но и из астрономии и юриспруденции. Ни один средневековый философ не видел прогресса в естественных науках, и ни один средневековый натурфилософ не занимался исследованиями, если понимать их как сбор новой информации. В отличие от них у Тихо Браге имелся план исследований, который он систематически претворял в жизнь на протяжении многих лет и который, по его убеждению, должен был привести к разрешению главных проблем астрономии того времени; из идеи программы исследований естественным образом вытекает идея прогресса.
Религия
Переосмысление такого важного понятия, как научная революция, включает сложный процесс повторной калибровки и оценки; темы, которые раньше казались важными, вытесняются на периферию, а значение вновь приобретают те, которые представлялись устаревшими. Вопросу взаимоотношений христианства и науки в ранний современный период посвящена обширная литература[350]. Некоторые авторы утверждают, что главной предпосылкой для современной науки была вера в Бога-Творца, поскольку она делала возможной идею законов природы, незнакомую древним грекам и римлянам, а также китайцам. Другие считают, что существует определенная близость между тем или иным течением христианства (например, пуританством) и новой наукой[351]. Я не нахожу эти аргументы убедительными, хотя они, вне всякого сомнения, интересны. Если все дело в монотеизме, то научная революция должна была произойти и в исламском, и в православном мире. Если определяющим было протестантство, то у нас не было бы такого великого ученого, как Галилей. Принципиальной здесь является идея законов природы, а не вопросы богословия: действительно, главным источником этой идеи, похоже, был Лукреций, а что касается религиозных убеждений первых ученых, то здесь можно сделать только один вывод – о невозможности обобщений. Среди них были иезуиты и янсенисты, кальвинисты и лютеране, а также неверующие (почти или совсем). Религиозные убеждения первых ученых, по всей видимости, всего лишь отражали разнообразные убеждения европейских интеллектуалов XVII в. Многие ученые, о которых упоминалось в этой книге, были глубоко верующими людьми, но общей у них была вовсе не вера. Чтобы это понять, достаточно вспомнить о Паскале и Ньютоне – первый был янсенистом, а второй сторонником арианства[352]. Общей у них была не религия, а математика, а также потребность к свободе выражения. «Me tenant comme je suis, un pied dans un pays et l’autre en un autre, je trouve ma condition trs heureuse, en ce qu’elle est libre», – писал Декарт Елизавете Богемской. («Мое положение я нахожу тем не менее счастливым, поскольку оно свободно, ибо я одной ногой стою в одной стране [Франции], а другой – в другой [Голландии]».)
Витгенштейн: не релятивист
Убеждение, что Витгенштейн был релятивистом, глубоко укоренилось в литературе по социологии и истории науки, хотя философы не пришли к единому мнению по этому вопросу (Kusch. Annalisa Coliva on Wittgenstein and Epistemic Relativism, 2013; см. также: Pritchard. Epistemic Relativism, Epistemic Incommensurability and Wittgensteinian Epistemology, 2010). В 1931 г. он писал в своих заметках: «Как это просто звучит: разница между магией и наукой может быть выражена тем, что у науки есть прогресс, а у магии – нет. У магии нет направления развития, она лежит сама в себе» (Wittgenstein. Remarks on Frazer’s Golden Bough, 1993. 141). Сам факт прогресса вовсе не означает, что я должен вовлекаться в это занятие: с каждым годом спортсмены бегают все быстрее, но это не причина, чтобы заниматься спортом. Но наука – совсем другое дело. Если наука все лучше понимает природу, обеспечивает более точное предсказание и управление, то очень трудно оставаться безразличным к такого рода прогрессу.
Фразу 1931 г. можно было бы отбросить как нехарактерную, но с точно такими же взглядами мы сталкиваемся в последних заметках Витгенштейна, «О достоверности» (1969). Рассмотрим следующий фрагмент:
131. Нет, опыт не есть основание для нашей игры в суждения. Не является он и ее выдающимся результатом.
132. Люди рассуждали о том, что король умеет вызывать дождь; мы же говорим, что это противоречит всему опыту…
Как мне кажется, Витгенштейн говорит, что нельзя основывать индукцию на опыте, точно так же как Юм показал, что нельзя судить о причинах по опыту; но даже когда мы не можем найти философское обоснование для определенной процедуры, то все равно должны использовать ее, если она необыкновенно успешна. Заявление, что король может вызывать дождь, не является «выдающимся результатом», и когда мы говорим, что оно «противоречит всему опыту», то имеем столкновение магии с наукой, в котором наука побеждает магию.
Сравните:
170. Я верю в то, что люди определенным образом мне передают. Так, я верю в географические, химические, исторические факты и т. д. Таким образом я изучаю науки. Ведь изучать в основе своей означает верить.
Тот, кто выучил, что высота Монблана 4000 м и проверил это по карте, говорит отныне, что он это знает. А можно ли сказать: мы сообразуем свое доверие с тем, как оно окупается на деле?
То есть я не могу доказать, что высота Монблана 4000 метров, но вера в это на основании авторитета карты «окупается на деле». Другими словами, социальные процедуры, с помощью которых мы устанавливаем определенную разновидность фактов, не могут быть обоснованы, но они результативны, они окупаются, и именно поэтому мы их используем.
И далее (серия заметок, связанных с идеей полета на Луну: 106, 108, 111, 117, 171, 226, 238, 264, 269, 286, 327, 332, 337, 338, 661, 662, 667:
286. Во что мы верим, зависит от того, что мы усваиваем. Все мы верим, что невозможно попасть на Луну; но могли бы быть люди, верящие, что это возможно, да иногда и случается. Мы сказали бы: эти люди не знают многого из того, что знаем мы. И сколь бы ни были уверены они в своей правоте – они ошибаются, и мы это знаем.
Если сравнить нашу и их системы знаний, то их система окажется куда более бедной.
На первый взгляд, Витгенштейн стоит на релятивистских позициях: мы говорим, что знаем больше, чем они, но они то же самое говорят о нас. Но предположим, что существует общество, в котором люди верят, подобно шаманам, что можно летать на Луну, покинув свое тело, и сравним его с миром Витгенштейна в 1950 г.: разве не будет справедливым сказать, что научные знания 1950 г., сделавшие возможной атомную бомбу, превосходят (то есть более результативны) магические знания шаманистической культуры? (см.: Child. Wittgenstein, 2011. 207–212).
С подобным суждением мы сталкиваемся еще раз:
474. Эта игра находит применение. Это может быть причиной того, что в нее играют, но не основанием.
Например, я предполагаю, что этот стол не исчезнет, если я встану из-за него и выйду из комнаты. Я не могу обосновать это убеждение, однако оно эффективно (окупается, результативно), и поэтому я продолжаю действовать так, как будто оно истинно (это причина, что в игру играют).
И наконец:
617. Определенные события поставили бы меня в такое положение, в котором я больше не мог бы продолжать старую игру, утратил бы уверенность игры.
Да и разве не очевидно, что возможность некоторой языковой игры обусловлена определенными фактами?
Возьмем языковую игру, представленную астрономией Птолемея; эта игра стала невозможной, когда телескоп продемонстрировал наличие у Венеры полной последовательности фаз. Таким образом, языковые игры не только результативны, развиваются, окупаются или доказывают свою полезность; они могут стать нежизнеспособными, если факты изменятся.
Все эти рассуждения предполагают существование определенных вдов знания, которые превосходят остальные, поскольку они действуют, они окупаются, они более совершенны, они развиваются и они не противоречат известным фактам. Мы не можем привести удовлетворительное философское обоснование для этих видов знания (в широком понимании, «наук»), но можем сказать, что они действуют, и другие культуры, заинтересованные в понимании природных явлений, их предсказании или управлении ими (все культуры заинтересованы в этом), должны быть способны признать практическую полезность нашего знания (наших карт или наших предсказаний погоды), подобно тому как коренные народы Америки смогли признать преимущества лошадей и ружей при охоте на бизона. Это антифундаменталистский, но совсем не релятивистский взгляд на науку. Из этого следует, что, когда научные взгляды отбрасываются и заменяются новыми, причина заключается в том, что новые считаются более результативными, окупающимися и т. д. Другими словами, наука развивается, и это происходит потому, что устраняются теории, которые не способны развиваться или не могут адаптироваться к новым открытиям.
Кстати, именно такой взгляд на науку изложен в данной книге, которая продолжает традицию, основанную Витгенштейном. Но тексты Витгенштейна сложны, туманны и не закончены. Их нужно читать несколько раз. Я не буду спорить с теми, кто хочет считать Витгенштейна релятивистом, но при условии, что они не станут использовать его тексты для обоснования релятивистской истории науки. Если напоминание, что сам Витгенштейн не был релятивистом в своем понимании науки, помогает убедить историков отказаться от враждебности к тому, что они называют (ошибочно)«виговской историей», тогда есть смысл обсуждать, что же на самом деле имел в виду Витгенштейн. Заявление, что практика окупается и результативна, неизбежно является ретроспективным суждением: мы можем лишь отделить хорошую науку от плохой науки, по мысли Витгенштейна, опираясь на прошлый опыт.
Мы не можем просто проигнорировать разницу между хорошей и плохой наукой, поскольку в этом случае мы отбрасываем одну из важнейших характеристик науки – ее развитие.
Вопрос, что на самом деле думал Витгенштейн, в любом случае должен быть отделен от вопроса о его влиянии: работа «О достоверности» была опубликована только в 1969 г., когда у Витгенштейна уже сложилась репутация бескомпромиссного релятивиста. Его тексты сыграли решающую роль в легитимации новой посткуновской истории науки, потому что они были ошибочно прочитаны как поддержка радикального релятивизма.
Релятивизм и релятивисты
Эта книга направлена против трех аспектов релятивизма. Во-первых, утверждается, что история должна быть написана без учета накопленного опыта. Это положение, впервые прозвучавшее в книге Баттерфилда «Виг-интерпретация истории», не оказывало существенного влияния на историю науки вплоть до 1960-х гг. Оно не может быть верным: например, мы только сегодня можем сделать вывод, что открытие Америки Колумбом сыграло ключевую роль в развитии современной науки (см.: MacIntyre. Epistemological Crises, 1977). Во-вторых, это утверждение, что понятие рациональности всегда зависит от культуры. Данный тезис исходит от Витгенштейна, но начал серьезно влиять на историю и философию науки только после публикации книги Питера Уинча «Идея социальной науки» (The Idea of a Social Science, 1958). Я настаиваю, что тезис несовместим с пониманием достижений современной науки. И третий аспект релятивизма – положение, что в науке успешные и неуспешные утверждения должны пониматься и объясняться абсолютно одинаково, о чем впервые заявил Дэвид Блур в работе «Знание и социальные представления» (Knowledge and Social Imagery, 1976). Он назвал это «сильной программой». Данное положение отрицает, что научные утверждения принимаются потому, что они лучше согласуются со свидетельствами, чем альтернативные. На мой взгляд, для истории науки это разрушительно. Разумеется, каждый из этих аспектов стал частью более общего интеллектуального движения, которое можно условно назвать «постмодернизмом». Я считаю, что постмодернизм мог бы многому научить наивных реалистов, но, поскольку наивный реализм вряд ли имеет шансы на успех среди современных историков науки, я сосредоточился на недостатках, а не достоинствах.
1. Об истине как о суждении актора (истина есть то, что вы считаете истиной) см. работы Шейпина и Шаффера: Shapin & Schaffer. Leviathan and the Air-pump, 1985. 14 (сравните с Bloor. Knowledge and Social Imagery, 1991. 37–45 и Shapin. A Social History of Truth, 1994. 4: «Для историков, специалистов по культурной антропологии и социологии знаний отношение к истине как к признанному убеждению считается максимой метода, и это справедливо»). Истина – всего лишь суждение актора для утверждений, которые неизбежно субъективны; например, утверждение: «Это самая смешная шутка, какую мне приходилось слышать», истинно тогда и только тогда, когда я так думаю. Но это вряд ли поможет сделать рациональность также суждением актора (Garber. On the Frontlines of the Scientific Revolution, 2004. 158), поскольку сама суть концепции заключается в том, что она может использоваться (и использовалась) для демонстрации, что акторы могут ошибаться и часто ошибаются. Между матом в шахматах и смертью есть разница: изменив правила игры, мы поменяем местами победителя и проигравшего, но мы не в состоянии себя оживить, изменив понятия (вера в такую возможность – одна из разновидностей безумия). Если ко всему на свете относиться как к суждению актора, то идеи истины, рациональности и объективной реальности становятся бессмысленными, и мы все можем стать бессмертными, если захотим. Но, по крайней мере, те, кто делает этот шаг, избегают действительно озадачивающих формулировок, таких как заявление Ньюмена и Принсипа, что вера Старки в философский камень была «ненеоправданной» (Newman & Principe. Alchemy Tried in the Fire, 2005. 176), – так они избегают и утверждения, что она разумна, и утверждения, что она глупа.
2. В работе Barnes & Bloor. Relativism, Rationalism, 1982. 23 формулируется главная доктрина сильной программы как «постулат эквивалентности»: «Наш постулат эквивалентности состоит в том, что все верования равны в том, что касается причин, по которым мы им доверяем. Дело не в том, что все верования в равной мере истинны или ложны, а в том, что, независимо от их истинности или ложности, их правдоподобие должно в любом случае рассматриваться как проблематичное». Саймон Шаффер настаивает, что было бы ошибкой «приписывать утверждение одной версии натурфилософии [а не противоположной] лучшему пониманию природы» (Schaffer. Godly Men and Mechanical Philosophers, 1987. 57). Однако должно быть очевидно, что не все верования одинаковы и что причины их убедительности могут быть очень разными. Убежденность Галилея, что лед легче воды, отличается от убежденности Аристотеля, что лед тяжелее воды; современная вера, что магнит не реагирует на чеснок, не равна вере древних, что чеснок лишает магнит его свойств. В этих случаях первое убеждение опирается на факты, а второе нет; одна версия натурфилософии побеждает другую именно благодаря лучшему пониманию природы. Настаивать, что вопрос обоснованности должен быть отделен от вопроса доверия, – значит настаивать, что к обоснованным убеждениям следует относиться так же, как и к необоснованным. Исследования, основанные на этой предпосылке, неизбежно приходят к заключению, что заявления в пользу обоснованных убеждений чрезмерны, поскольку этот вывод встроен в методологию.
Конечно, вопрос о том, как интерпретировать подход сильной программы, подлежит обсуждению: см. интересную полемику между Bloor. Anti-Latour (1999) и Latour. For David Bloor (1999). Я нахожу убедительным прочтение Латуром Блура. Серьезную критику см. в: Laudan. The Pseudo-Science of Science, 1981.
3. Secord. Knowledge in Transit (2004). 657. Интеллектуальный контекст, в котором была написана работа «Левиафан и воздушный насос», представлен в: Shapin. History of Science and Its Sociological Reconstructions (1982). О сильной программе см.: Bloor. Knowledge and Social Imagery (1991); другие работы Барнса и Блура: Bloor. Wittgenstein (1983); Barnes. T. S. Kuhn and Social Science (1982). Сильная программа открыто проповедует «методологический релятивизм»; этот термин означает, что «все верования должны объясняться одним и тем же общим способом, независимо от того, как они оценивались» (Bloor. Knowledge and Social Imagery, 1991. 158: то есть они идентичны согласно принципу симметрии и постулату эквивалентности).
Гарри Коллинз, основатель Батской школы, работа которого тесно связана с Эдинбургской школой, с готовностью использует слово «релятивизм»: Collins. Introduction (1981). Но «релятивизм» похож на «атеизм» XVII в.: многие на него нападают, но немногие признаются в нем, а признаваясь, по-своему определяют этот термин (Bloor. AntiLatour, 1999. 101–103). Результат – некоторая путаница относительно того, кого справедливо называть релятивистом, а кого нет. Например, люди, прекрасно разбирающиеся в предмете, неоднократно убеждали меня, что Шейпин не релятивист, и он редко использует это слово, однако совсем недавно он прямо назвал себя «методологическим релятивистом», то есть сторонником сильной программы (что не удивительно с социологической точки зрения, поскольку он с 1973 по 1989 г. был членом Эдинбургского союза исследований науки). Слова Шейпина не расходятся с делом – он объясняет свою убежденность в достоверности научного знания точно так же, как мог бы объяснять (в другой культуре) веру в колдовство: «Моя вера в науку очень велика: достаточно сказать, что я типичный представитель общей чрезмерно образованной культуры, в которой вера в науку является признаком нормальности и которая производит эту веру по мере того, как мы присоединяемся к ней и остаемся в ней». (Shapin. How to be Antiscientific, 2010. 42 = Labinger & Collins (eds.). The One Culture? 2001. 111; сравните заявление Коллинза, что те, кто верит в астрологию, совершают социальную ошибку (в Labinger & Collins (eds.). The One Culture? 2001. 258, 259); см. также описание Шейпином «постулата эквивалентности» в Shapin. Cordelia’s Love (1995) и описание «релятивистского жанра» в Ophir & Shapin. The Place of Knowledge (1991). 5, что в отношении Шейпина является самоописанием. Релятивизм Шейпина рассматривается в главе 15.
Я согласен с Брикмонтом и Сокалом (Labinger & Collins (eds.). The One Culture? 2001), что «методологически релятивизм не может быть обоснован, если также не принять философский релятивизм или радикальный скептицизм». Важно различать методологический релятивизм (принятие релятивизма как метода) и совсем другую позицию, с которой его легко спутать, методологический агностицизм, утверждение, что невозможно знать a priori, какой метод будет работать, а какой нет, – позиция, которую я буду защищать, – эквивалентное утверждению, что ex post facto можно понять, что один метод оказался результативнее другого (что отрицают методологические релятивисты): см.: Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions (1996). 173.
4. Shapin. A Social History of Truth (1994). Шейпин защищает «либеральный», а не «ограничительный» подход к истине (4). Такой подход допускает утверждение, что чеснок лишает магнит его свойств – или лишал в прошлом (для Плиния, Альберта Великого, ван Гельмонта и т. д.). В этом случае утверждение, что чеснок не лишает магнит его свойств, становится просто альтернативной истиной, а не открытием; экспериментальный метод – просто одним из способов установления истины, но не надежным способом, а политика систематизированной подозрительности Бойля – новым способом доверять другим.
Шейпин также защищает «методологическое отношение к благотворительности» (4). В «Левиафане и воздушном насосе» они с Шаффером пишут, что вслед за Геллнером предложат «благотворительную интерпретацию» Гоббса, и цитируют статью Геллнера, которая вышла в 1962 г., а также ссылки на нее Гарри Коллинза (о нем см. ниже). Фактически Коллинз прямо заявлял, что не согласен с Геллнером (Collins. Son of Seven Sexes, 1981. n. 15), поскольку статья Геллнера, по его собственным словам, была «заявлением против благотворительности» (Gellner. Concepts and Society. 1970. 48). Он заявляет, что «излишнее потакание контекстуальной благотворительности не дает нам видеть лучшее и худшее в жизни общества. Оно мешает увидеть возможность, что социальные перемены могут происходить путем замены неподходящей доктрины или этики на лучшую… Точно так же оно не дает нам увидеть использование абсурдных, неоднозначных, нелогичных и непонятных доктрин». Именно моя книга, а не «Левиафан и воздушный насос», защищает точку зрения Геллнера. И действительно, Геллнер в точности повторяет мой главный аргумент: «В последние несколько столетий наблюдался переход от социальных к чисто когнитивным концепциям: это обычно называют научной революцией. Витгенштейнианство делает невозможным задавать вопросы об этом событии, поскольку в его терминах ничего подобного произойти не может и такие вопросы бессмысленны» (Gellner. Relativism and the Social Sciences. 1985. 185). Не удивительно, что Шейпин настаивает: «Не было никакой научной революции!» (Shapin. The Scientific Revolution, 1996. 1).