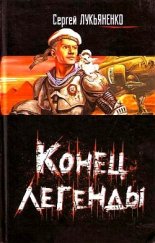Падай, ты убит! Пронин Виктор

– Сам сказал, – улыбнулась Валя.
– Прекрасное имя, – одобрил Ошеверов. – С северным отголоском. И чертовщина в нем какая-то есть – Шаман, Шайтан, Шабаш…
Из дома неслышно вышла Катя и остановилась на пороге, щурясь на неяркую лампочку. Она была в длинной цветастой рубашке – видно, только проснулась, услышав шум.
– Здравствуйте, – сказала она. – Вы к нам в гости приехали?
– О! – закричал Ошеверов. – Кого я вижу! Да это же Екатерина! Да какая большая, да какая красивая, да какая сонная! Здравствуй, Екатерина! Рад тебя видеть в добром здравии! Как поживаешь?
– Не знаю, – Катя пожала плечами. – Наверно, хорошо… У нас еще есть кот Филимон, только он прячется, не привык еще.
– А Шаман его не обижает?
– Нет, Шаман его любит, зализывает, когда Филимон израненный возвращается.
– Я смотрю, этот Филимон большой жизнелюб! – засмеялся Ошеверов. – Запирать его в дом на ночь!
– Нет, – Катя покачала головой. – У него здесь друзья, подруги, он заскучает… Хотите посмотреть? – Она метнулась в дверь и через минуту вынесла громадного сонного кота с необыкновенно длинной белоснежной шерстью. Кот, словно понимая свою значительность, был невозмутим, позволяя провонявшим бензином ошеверовским пальцам себя гладить и трепать.
– Разве это кот, – урчал Ошеверов. – Это владыка местных крыш, подвалов, чердаков. Владыка! Правда, не все его признают, – добавил он, нащупав шрам на кошачьей морде, – но с владыками это случается… Невероятный кот. Где взяли? Сам пришел?
– Нет, – Катя покачала головой. – Знакомые из Москвы привезли, у него там родня осталась – отец, мать, братья… Им тесно в коммунальной квартире, вот его и привезли. Он еще не привык. А Шаман его любит.
Понимая, что разговор идет о нем, что его хвалят, Шаман заливался радостным лаем, уносился в сад, шуршал там где-то, выскакивал на дорожку, одним махом впрыгивал на террасу и тут же снова исчезал, описывая по саду стремительные рыжие круги из шороха и лая. Но каждый раз что-то заставляло его уйти с дорожки в том месте, куда вонзалась свисавшая из космоса невидимая светящаяся линия непутевой ошеверовской судьбы.
– Первый прибыл, – сказал бы Аристарх, окажись он здесь. – Второй в пути.
– Почему ты так решил? – спросил бы его Автор, попади он тоже в шихинский сад этим вечером.
И тогда Аристарх показал бы вторую линию, которая пересекалась с первой над кирпичной трубой и уходила в землю недалеко от дуба. Она была не столь яркая, но с чистым фиолетовым отливом.
– Он скоро будет здесь и примет посильное участие во всем, что произойдет, – это слова Аристарха.
– А что здесь произойдет?
– Автор должен знать. Не могу же я тебе постоянно подсказывать. Привыкли, понимаешь, к указаниям, шагу ступить не могут! Тоже еще мыслители! Прорицатели! Властители дум!
– Ты не знаешь или тебе нельзя говорить? Или не хочешь сказать? Или возможны отклонения?
– И на эти вопросы не отвечу, – сказал бы мне Аристарх, как он говорит частенько, когда я становлюсь слишком уж назойливым. – Этого нельзя знать преждевременно, – пояснил бы он погодя. – Понимаешь, важно не само знание, а способность правильно его истолковать. Подари дикарю пистолет, чтобы облегчить ему участь, подари из самых лучших побуждений. И чем кончится? Он убьет себя. Начнет в ствол заглядывать, пальцы туда совать, кнопки и крючки нажимать… Нужно знать, что стоит за явлением, что им движет, к чему все идет. Любое знание должно быть своевременным. Много ли проку от того, что я знаю тайны испанского двора? А лет триста-четыреста назад, да в Испании… О! Я стал бы могущественным человеком. Хотя и сейчас не жалуюсь. Торопиться со знаниями не стоит, нельзя. Мы ведь скрываем от детей наши тайные страсти, скрываем от ближних нашу униженность, от любимых скрываем нищенство, зависимость. А сколько всего мы скрываем от самих себя, – грустно добавил Аристарх.
– Например? – вставил я несколько бесцеремонно.
– О! – Аристарх улыбнулся, и я понял, что лучше бы мне промолчать. – Зависть. Мы не так скрываем ее от ближних, как от самих себя, мы не признаемся в ней, даже когда для всех она очевидна… А разве мы не скрываем от себя измену жены… Случаются дни, когда для нас нужнее всего непробиваемое невежество, спасительная ограниченность, надежная тупость… А собственная наша никчемность… Разве мы не прячем ее от себя за семью замками… Разве не оправдываем стечением обстоятельств, невезением, людской неблагодарностью… О! – Аристарх замолчал, и на этот раз я не решился нарушить его печаль.
Фыркая и взвизгивая, Ошеверов умылся до пояса под яблоней и сел за стол вместе с хозяевами.
Посредине террасы.
Пить чай.
Начался дождь, редкие капли застучали по листьям, сбивая с них дневную пыль, по крыльцу, по железному корыту, оставленному у забора. С крыши потекли струйки воды, и Ошеверов, время от времени протягивая руку, подставлял под них свою крупную горячую ладонь, которая весь день сжимала баранку тяжелого грузовика. Капли разбивались о ладонь, остужали ее, мелкие брызги летели в стороны, и лицо Ошеверова говорило о неземном блаженстве, которое он испытывал в эти мгновения.
– Как я понимаю японцев, – вздохнул он.
– А что японцы?
– Вот вы не знаете по темноте своей, – без улыбки проговорил Ошеверов, – а японцы, эти потрясающие мастера икебаны, всегда у дома, под окнами сажают широколистные растения… А почему? А потому, что, когда идет дождь, капли разбиваются о листья и шуршат, рождая в душе японца неописуемое наслаждение.
– А у нас вон корыто под дождем стоит, – заметил Шихин, – тоже ничего звук.
– Пожалуй, – согласился Ошеверов. – Даже четче. Звонче. Понятней нашему неизбалованному уху.
Под шум дождя, при свете желтой лампочки Шихин и Ошеверов пили чай. Катю отправили спать, вскипятили еще один чайник, продрогнув, оделись потеплее, теснее сдвинулись к столу.
Где-то у станции оглушительно громыхнуло, сверкнула молния, на мгновение осветив сад холодным голубоватым светом. Дождь пошел сильнее, корыто у забора наполнилось и уже не звенело под ударами капель. Шаман иногда поднимался, подходил к краю террасы, долго всматривался в шуршащую дождем темноту, потом возвращался и укладывался в углу.
– Что везешь? – спросил Шихин.
– Рыбу. Мороженую рыбу. Морского окуня. Филе морского окуня.
– Ого! – восхитилась Валя. – А у нас за этим окунем такая давка… Только участникам войны да местному начальству и достается – у них отдельная очередь.
– Но им же положено вообще без очереди? – удивился Ошеверов.
– Вот те, которым положено без очереди, выстраиваются в свою очередь. И она побольше общей.
– Ладно, подарю. Плитку-вторую подарю.
– Будут неприятности? – спросил Шихин.
– Не должно. Довез хорошо, вовремя… Все в порядке, ребята, все в порядке.
– А что Салехард?
– Гори он синим огнем, этот Салехард! Я думал, они любят фотоискусство, жаждут сфотографироваться у настоящего мастера, надеялся, что от заказчиков отбоя не будет… Оказывается, им не до этого. Их милиция не может заставить на паспорт фото принести. Штрафы платят, а сниматься не хотят. Некогда. Понял? Деньгу зашибают. Давай, говорю, портрет сделаю. А он смеется. Сколько заплатишь, спрашивает.
– А где жил?
– В фотолаборатории. Среди проявителей, закрепителей и этих… осведомителей.
– Что-то унюхали?
– А! Какой-то псих донес в пожарную инспекцию. Так, дескать, и так, спит в служебном помещении. Не положено. Как бы пожара не случилось. Представляешь, я с девочкой беседу провожу, о жизни рассказываю, о себе, ее расспрашиваю, время идет, ночь… И вдруг – стучат! Представляешь?
– И что? Конфуз? – улыбнулся Шихин.
– Никакого конфуза. Я взял кочергу и гнал их три квартала. Участкового, пожарника и коменданта. Три квартала, понял? Думаю, не догоню, так согреюсь. В Салехарде, по снегу, в шлепанцах на босу ногу. Представляешь?
– А девочка?
– Девочка хорошая оказалась… Чаю за это время вскипятила, хлеба нарезала, постель приготовила… Когда вернулся, мне из бороды снег выбирала. Очень хорошая девочка. Затейница из Дома культуры. После этого скандала пришлось, конечно, сматываться в двадцать четыре часа. Девочка обещала помнить… Как она пляшет, как поет! Не говоря уже… Нет, не буду.
– А в водители надолго?
– Как получится, ребята, как получится… Пока езжу. Живу. Дышу. И крыша над головой. И пропитание. И друзей вот повидать удается. И ладно. Пусть. Там видно будет. Жизнь покажет. Авось.
Он замолчал, прислушиваясь к влажному шуму сада. При вспышках молний было видно, что дождь совсем рядом стоит сплошной стеной. Гром раскалывался с таким оглушительным треском, что казалось, будто где-то там, в ночном поднебесье, действительно что-то раскалывается вдребезги, осыпается потускневшая штукатурка, а утром из-под нее покажется чистое, обновленное небо.
– С фотографией завязал?
– С фотографией… – Ошеверов поморгал светлыми ресничками, потер тяжелыми ладонями толстые заросшие щеки, поводил головой из стороны в сторону, словно что-то мешало ему дышать. – Завязал. Нету духу, ребята. Духу нету. Фотками нельзя заниматься без азарту. Ничем нельзя заниматься без азарту. Блоху и ту не поймаешь.
– А как Зина?
– Зина? – с удивлением переспросил Ошеверов. – А кто это?
– Как кто, жена твоя!
– А… Съехала. Не то пятый, не то седьмой раз съехала. Вывезла гардероб, диван и этот… и как его…
– Холодильник, – подсказал Шихин.
– Да, и холодильник. А ты откуда знаешь?
– Сам же говоришь – седьмой раз.
– Вообще-то да… Я вот подумал – не заняться ли мне… Это… Арбузы разводить. Или роман о скифах напишу. Не знаешь, сколько за роман платят?
– По-разному. Но не так много, как за арбузы.
– Понятно. Начальству больше, подчиненным меньше.
– Какие подчиненные в литературе? – спросила Валя.
– А что, нету? Это хорошо, это мне подходит… Только вот не верю я, что где-то есть место, где ни начальства, ни подчиненных… Такого не бывает. Без начальства жизнь остановится. Начальники – это отцы наши родные. А жены – пушки заряжены. Никогда не знаешь, когда бабахнет. Живешь, как на войне, всю жизнь на войне, ребята.
Шихин даже не улыбнулся столь неожиданным колебаниям Ильи, тот в самом деле мог заняться и арбузами, и романом. С равным успехом. Но Шихин знал, что не будет у Ошеверова успеха нигде, чем бы он ни занялся. Слишком непоседлив, неспокоен, непредсказуем.
Поговорили о друзьях, оставленных в родном городе, посплетничали, посмеялись. Истории, приключившиеся с ними, пересказывались постоянно, стоило им только встретиться, выпить по стакану вина, по стакану чая. Шихин и Ошеверов еще раз рассказали друг другу, как карманники украли у Жорки Верстакова диссертацию, а потом потребовали за нее бутылку водки, и Жорка долго колебался и раздумывал, пока жена сама не отнесла поллитровку и не забрала у карманников потрепанную папку с чертежами, схемами, графиками, отражающими горное давление в пустотах. Потом напомнили друг другу, как Иван Адуев слал себе телеграммы и с днем рождения поздравлял, актерами подписывался, учеными, маршалами, все якобы его чтили и торопились засвидетельствовать и пожелать. Адуев народ собрал к столу и знай телеграммы вслух зачитывает, а от поздравления министра обороны даже прослезился, не смог до конца дочитать. Припомнили, как Васька-стукач на свою жену анонимку написал, пытаясь уберечь ее от неверности и прелюбодеяния, но его затея вскрылась, и был позор, срам, все смеялись, показывая на Ваську пальцами, любопытствовали – не чешутся ли рога, когда растут, не давят ли, не зудят ли по ночам, не стоит ли проделать в шляпе дыры для тех же рогов, нельзя ли их использовать в домашнем хозяйстве, например, кашу помешивать, или галстуки вешать, или неверной жене спину чесать? В общем, все получилось смешно и печально. Это были злые шутки, но Васька-стукач их заслужил своей неустанной совместительской деятельностью.
Однако в ту грозовую ночь старые истории не позабавили наших героев, что-то мешало им смеяться легко и освобожденно.
– Какой-то ты не такой сегодня, – не выдержал наконец Шихин. – Затейницу забыть не можешь?
– Не могу и не хочу. Но дело не в ней.
– Уж если Васька-стукач тебя не позабавил, то дело плохо. Давай выкладывай, чего там у тебя…
– Ну, хорошо… Тебе как здесь вообще… Нравится? – спросил Ошеверов.
– Ничего, жить можно.
– Не жалеешь, что уехать пришлось?
– Уехал и уехал. Делать там нечего. Ни мне, ни Вале.
– Почему… Контор полно, заводов еще больше, при заводах многотиражки…
– Понимаешь, – Шихин помолчал, – появилась какая-то… офлажкованность.
– Значит, ты это почувствовал?
– Да, – кивнул Шихин. – Офлажкованность или что-то на нее похожее. Куда ни ткнешься, везде от ворот поворот. Будто кто-то бежит впереди и предупреждает, дескать, сейчас придет заразный, поганый, дурной, гоните его, не то и вам достанется. Прихожу и по глазам вижу – он уж побывал здесь, опередил меня. Ткнулся в одну газету, во вторую, на радио, телевидение, в те же многотиражки… Глухо.
– А здесь? Ничего такого не появлялось?
– Здесь вроде… пока… ничего. Да и не до того. Дом вот надо к зиме готовить – печи перекладывать, стены конопатить, крышу латать, рамы менять… Устроился на местный заводик – какая-то ремонтная шарашка. Записали разнорабочим, но в основном наглядную агитацию рисую. Даешь ускорение, даешь усиление, даешь умиление… Но удобно – в двух шагах.
– А что на плакатах?
– Разное! – рассмеялся Шихин. – На прошлой неделе, например, родил мощного полуголого мужчину, тут же молот и гора блестящих болтов, а сам он смотрит на тебя призывно и страстно, следуй, дескать, моему примеру, производи качественные заготовки. Сегодня изобразил конструктора в глубокой задумчивости у чертежной доски. Это надо понимать так – раньше он работал не думая, а теперь под влиянием неодолимых общественных сил в душе у него началась перестройка. Начальству очень понравилось. Обещали премию выписать.
– Большую?
– Ну какую премию могут выписать разнорабочему? Вряд ли ее хватит на плитку филе, которую ты собираешься подарить.
– Подарю-подарю, не напоминай. Я ничего не забываю. Хотя кое-что и хотелось бы забыть. Как и тебе, наверно, а?
Ответить Шихин не успел. На террасу вышла Валя с большой тарелкой, наполненной вареной картошкой. От нее поднимался пар, она светилась, а если учесть, что рядом шумел дождь, сверкали молнии, было зябко и сыро, то картошка производила неизгладимое впечатление. Это было семейное блюдо Шихиных, и каждый, кто заглядывал к ним, всегда мог рассчитывать на вареную картошку. Приготовить ее несложно, запоминайте. Прежде всего требуется картошка. Ее нужно почистить, залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, в кастрюлю можно бросить укроп, лавровый лист, гвоздику, корицу, душицу – все, что найдется в доме. Важное условие – картошка должна быть немного недоваренной. Рассыпчатой, но плотной. А если еще под рукой окажется подсолнечное масло, лук, петрушка, то тут уж начинается настоящее чревоугодие. Это был именно такой случай – нашлись у Шихиных и зелень, и подсолнечное масло.
А ведь Автору хотелось показать приезд Ошеверова совсем иным. Это должен быть радостный штурм беззащитной деревянной избы с хлопками шампанского, с бараньей ногой, с ворохом дорожных анекдотов, может быть, даже с заблудшей девицей, которую Ошеверов вез с собой уже вторую тысячу километров, а у девицы свои капризы, уже запутанные отношения с Ильей, надежды на него, разочарования в нем, но и то и другое скороспелое, дорожное и потому не окончательное. И Ошеверов должен был кричать, воздевать руки, топать ногами, поднимать Шихина в воздух и кружиться с ним по саду, он должен был ловить ежей, орать на белок, явиться ему положено было днем, в солнечную погоду, и не на этом пропыленном грузовике, а на сверкающем такси, грузовик намечалось оставить при какой-то дорожной забегаловке, для Ошеверова у Автора был готов прекрасный костюм, как говорится, цвета сливочного мороженого…
И так далее.
Но вышло совсем иначе. Каким-то печальным приехал Ошеверов, на грузовике с прицепом, в замасленном комбинезоне, без девицы и без бараньей ноги, в ночь заявился, в дождь, чем-то озабоченный, за столом сидит усталый, разговаривает без подъема. Будто другой человек. Автор хорошо знал Илью Ошеверова и может утверждать, что таким вот, безутешно подставляющим ладонь под струйки дождя, Илья бывал чрезвычайно редко, если вообще бывал. И уж, конечно, он не позволил бы себе в плохом настроении, в замызганном виде явиться к Шихину. По той роли, которую он усвоил в жизни, Илье надлежало вести себя шумно и жизнерадостно, даже когда ему бывало чертовски паршиво, а ему чаще всего и бывало чертовски паршиво.
Все в этом мире взаимосвязано – дело в том, что у самого Автора день, когда писались эти страницы, оказался не из лучших. Ему пришлось выстоять не то две, не то три очереди, чтобы купить билет на самолет в Москву, а это непросто, где бы вы ни оказались. Пришлось с кем-то поругаться, а в таких случаях не удается препираться лениво и равнодушно, материшься со страстью и убеждением, с истинной оскорбленностью, исступлением и, конечно, выкладываешься полностью. До самых глубин ума и души добираешься, чтобы в долю секунды найти слова обиднее, неожиданнее, злее и одним ударом переломить ход склоки в свою сторону. Да что говорить, все мы с детства усваиваем суровые законы очередей, на всю жизнь закаляемся и можем постоять за себя, можем таким словцом под дых садануть, что человек пошатнется, за сердце схватится, и дай ему бог устоять, выжить и сохранить силы для следующей очереди. В этот день на долю Автора выпало несколько переполненных автобусов, легкая перепалка у газетного киоска, стычка посерьезнее на почте, потом лай в столовке, когда вместо обещанной и уже оплаченной курицы Автору подсунули какую-то костлявую хребтину, да еще обсчитали на полтинник, да еще вслед таким словцом между лопаток огрели, что…
Что делать, это происходит с нами каждый день, и потому мы такие, а не другие. Хотя в глубине души мы, конечно, добрее, терпимее, легко знакомимся, доверяя самое заветное, охотно прощаем чужую оплошность, мы веселы, щедры, остроумны. В душе. Но жизнь требует от нас отнюдь не лучших качеств, жизнь испытывает нас на непреклонность, мы постоянно готовы к схватке, чтобы уберечь себя от обиды и поруганья.
Вот и получилось, что когда Автор добрался наконец до машинки и, заложив чистую страницу, взмахнул руками, чтобы исполнить нечто бравурное и удалое, чтоб гудки ошеверовского грузовика слышались за несколько километров, чтобы девица в кабине оказалась прельстительной феей дорог, а не зашморганной побирушкой, чтобы под сиденьем у Ошеверова нашлись две-три бутылки шампанского, как это частенько и бывало…
Не получилось. Ошеверов безрадостно остановился у калитки, закрыл дверцу, вы слышали, как она захлопнулась? С какой-то безнадежной смиренностью. Этот звук эхом отразился на настроении Ошеверова, на разговоре, который чуть позже произошел у него с Шихиным. Не случись у Автора столь тяжелого дня, Илья никогда бы не пал до того, чтобы в день приезда, в час встречи со старым другом сообщить тому неприятность. А так – сообщил.
– Знаешь, – сказал он, когда с картошкой было покончено, – пройдем к машине… Дождь вроде кончился… Посмотрим, как там и что… Мало ли…
– Да у нас тут спокойно, – не понял Шихин. – Вот если бы ты на «Жигулях» приехал, тогда другое дело – и колпаки могли бы снять, и колеса свинтить вместе с колпаками, и щеточки-решеточки…
– Пройдем, – сказал Ошеверов, и было в его голосе что-то такое, что заставило Шихина подчиниться. Он недоуменно оглянулся на Валю, мол, сам не знаю, в чем дело, и направился к ступенькам.
Шихин и Ошеверов спустились в мокрый сад, прошли мимо царственных флоксов и углубились в чащу. От малейшего прикосновения к веткам падали крупные капли дождя, подзадержавшегося в листьях, и Ошеверов каждый раз вздрагивал – это было так не похоже на его сегодняшнее путешествие в парах бензина, в грохоте горячего мотора, в вое проносящегося мимо железа, в злом слепящем свете встречных фар.
Грузовик стоял тихо и понуро, как лошадь, которую забыли выпрячь из телеги после дальней дороги. До сих пор что-то в нем капало, вздыхало, иногда раздавался еще слышный металлический звон – ослабевали стальные жилы машины. В свете дальних фонарей тускло блеснуло ветровое стекло, изгиб кабины, ребристые шины. Мимо станции прогрохотала электричка – отсюда был виден лишь длинный ряд окон. Когда вагоны проносились мимо озера, светящиеся квадраты отразились в нем, раздвоились, и картина стала совсем уж какой-то ненастоящей. Шихин еще не привык к шуму электрички, к ночному ее виду, к ее предрассветным крикам, все это волновало его, словно зыбкое напоминание о чем-то таком, что имеет с ним давнюю таинственную связь. Он проводил взглядом огни, дождался, пока скроются за деревьями красные огоньки последнего вагона, и лишь тогда повернулся к Ошеверову.
– В Звенигород пошла, – сказал Шихин.
– Слушай, Митя… Я узнал одну вещь… Узнал на прошлой неделе, поэтому не смог сказать раньше… На тебя была анонимка.
– Не понял?
– Какой-то тип написал донос. Поэтому тебя и шуранули из газеты. Фельетон – это так, повод.
– А что на меня можно написать?
– Ты слишком много болтал.
– Ну и что? Все, о чем я болтаю, о чем думаю, о чем хочу написать… Я пишу. Я собираюсь заниматься этим в дальнейшем. И мне плевать…
– Митя! – Ошеверов нашел в темноте локоть Шихина и сжал его. – Остановись. Обсуждать тут нечего. Тут больше думать надо. Важно не то, что ты сказал, а как истолковано, подано, куда направлено. Результаты ты ощутил на собственной шкуре. Ты здесь. Я знаю несколько строк из анонимки. Они… дают повод усомниться в тебе. Понял? Я допускаю, что ты мог их произнести, эти слова, допускаю. Но близкому человеку. Случайно такие вещи не говорят.
– Что же я такого опасного сказал? Чем заставил наше государство содрогнуться от ужаса?
– Не больше того, что ты сказал сию минуту. В тебе отсутствует почтительность. А требуется именно это. В твоих словах снисхождение к государственным ценностям, понимание его слабостей, капризов, страхов и претензий. Ты произнес пять слов, и с тобой все ясно. Ты высказал пренебрежение, посмеялся над мудростью государства, над его бесконечной заботой о тебе, дураке, чтоб, не дай бог, ты не вздумал жить как-то по-своему. Ты не виноват, Митя. Это у тебя в крови.
– Значит, надо сменить кровь?
– Недавно в таких случаях просто пускали кровь.
– Помогало? – спросил Шихин с интересом.
– Не всегда. Но цель достигалась. Человек замолкал.
– Надолго?
– Да. Надолго. Слушай, Митя… Я частенько выражаюсь покрепче. Как и все мы. Но нашелся тип, который все истолковал как надо. Изложил письменно и отправил куда надо. Адрес, слава богу, известен. Этот адрес будут помнить еще не одно столетие.
– Что же это за адрес такой?
– Контора глубокого бурения. Понял? Она занимается техникой безопасности.
– Что-то о ней последнее время не слыхать… Она еще существует?
– Да, Митя, да. Если о ней не слыхать, значит, она прекрасно себя чувствует. Бумага пришла по почте. Была должным образом оформлена. И стала документом. Человек, к которому она попала, уже не мог обращаться с ней, как ему захочется. Он может считать донос дурью собачьей, отрыжкой вонючего прошлого, но он на службе. На особой службе. И обязан отнестись к информации со всей серьезностью. Если, конечно, он тоже не собирается менять квартиру на такой вот особняк в лесах, не столь близкий к столице. Следует звонок твоему редактору. Он тоже не может сказать – отвалите, ребята. Иначе усомнятся в нем самом. Прутайсов наделал в штаны. И поспешил избавиться от тебя. А подметное письмо стало не просто документом, оно стало подтвердившимся документом, по которому приняты срочные и жесткие меры. И все, падай! Ты убит. Дмитрий Алексеевич Шихин официально признан человеком, опасным для общества. В каком качестве и принимаешь меня сегодня. И ты должен оценить мое мужество и преданность тебе, охламону. Я осмелился, дерзнул и приехал, понял? На это способны немногие. Повывели людей, способных осмелиться и дерзнуть. От них избавились, как говорится, самым решительным образом. И правильно сделали! – во весь голос заорал Ошеверов, обернувшись на звук хрустнувшей в саду ветки.
– Чушь какая-то, – пробормотал Шихин. – Ну их всех к черту!
Дмитрий Алексеевич Шихин хорошо помнил, как уходил из газеты. Непочтительность не была отражена в его трудовой книжке. Он написал заявление с просьбой уволить по собственному желанию и пошел к Прутайсову подписывать. Вошел без робости, хотя раньше всегда у него была готовность получить нахлобучку, и он, покорно опустив голову, вытянув руки по швам, ковыряя пол носком, терпел редакторский гнев. О, как бесило Прутайсова это скоморошье раскаяние, бессловесное признание полнейшей своей зависимости. Ведь видел, понимал – играет Шихин и придуривается. Но когда тот принес заявление, большое лицо редактора казалось даже опечаленным, а в единственном глазу светилось что-то вроде обреченности. Наверно, это и была обреченность. Вскоре после этих событий Прутайсова самого вышибли из газеты – от неосторожности подписал письмо в чью-то защиту, потребовал чьего-то там оправдания, к кому-то снисхождения. В результате самому потребовалось снисхождение, но он его не получил и ныне заведует наглядной агитацией в парке имени Чкалова. Плакаты вывешивает, транспаранты к праздникам, лозунги сочиняет, подбирает слова, которые более других выражали бы восторг и ликование народа по тому или иному поводу. Работа осталась прежней, но престиж не тот.
Солидарность, сочувствие, порядочность – это все хорошо, да только надо знать… О, как много чего надо учитывать, прежде чем высказать свое мнение. Не учел Прутайсов, не рассчитал, не предусмотрел, циклоп одноглазый, а уж до чего был хитер, до чего осторожен! Видно, не судьба ему оставаться редактором. Да и в парке с наглядной агитацией успел что-то напутать – то ли в избытке усердия, то ли в недостатке восторженности допустил скрытую непочтительность, и дела его сейчас плохи.
А тогда, увидев вошедшего в кабинет Шихина, он поднялся навстречу, чуть ли не у двери взял из рук заявление и вернулся, сутулясь, к своему столу.
– Я все правильно написал? – спросил Шихин, остановившись на пристойном расстоянии и давая понять, что, даже уходя, он не намерен сокращать разделяющее их пространство.
– А? Да. – Прутайсов махнул рукой в пустоватом рукаве. – Я подпишу… Но дело не в этом…
– Да, конечно, я понимаю, паясничать действительно нехорошо, и я искренне сожалею, что своими поспешными и опрометчивыми словами дал повод…
– Кончай, Шихин, – поморщился Прутайсов. – Я вот о чем… Ты должен правильно понять происшедшее…
– А что, есть основания думать, что…
– Заткнись, наконец! Мы все тут неплохие ребята, ты тоже не лучше и не хуже других… Тебе бы вот только пообтереться, пообтесаться, усвоить правила игры… Но все это ты сделаешь уже в другом месте. Не здесь. А понять должен вот что… Да садись ты уже, ради бога, а то я никак не могу собраться… Садись. Вот. И убери руки с колен, хватит дурака валять. И из меня дурака не делай. Пойми, мы не всегда поступаем так, как нам хочется. Чаще мы поступаем так, как должно поступать, как нам советуют старшие товарищи. – Единственный глаз Прутайсова устремился в потолок. – Ты меня понял?
– Знаете, такое ощущение… что не до конца.
– Это ничего. Не все сразу. Поймешь. Тебе не повезло…
– Да, наверно, и это есть.
– Не перебивай. Тебе не повезло с друзьями.
– Вы хотите сказать…
– Ты устрой им… как бы это… небольшую инвентаризацию. Может быть, кое-кого следует списать за непригодностью… Ну? Понял? Да пойми же, наконец! Ну?! Понял? Не понял. – Прутайсов безутешно взмахнул руками, прошелся по кабинету. – Ты доверяешь своим друзьям больше, чем они того заслуживают, – проговорил Прутайсов, остановившись перед Шихиным, проговорил тихо, но внятно, по слогам, буравя его красноватым, воспаленным глазом. – С друзьями можно говорить о бабах, о водке, о… О чем еще? – Он задумался, приложив палец к сероватой щеке. – И больше ни о чем. Теперь понял?
– Кажется, начинает доходить.
– Слава тебе, господи! – Прутайсов облегченно упал в кресло. – Ну, тогда будь здоров. Желаю творческих успехов. Чего напишешь – приноси. Туго станет – приходи. А туго тебе станет обязательно. Приходи. Но не слишком быстро… Через полгодика, через год… Вот так примерно. Дай нам немного передохнуть. Ты вот дурачился, спрашивал, не могли ли тебя посадить… Я тебе ответил честно – могли. Понял?
– Угу.
– А теперь катись!
– Дай вам бог здоровья, – смиренно проговорил Шихин.
Прутайсов некоторое время исподлобья смотрел на него, потом пошарил глазом по столу, но, видимо не найдя ничего подходящего, сказал негромко:
– Если ты произнесешь еще хоть слово, я запущу в тебя этой корзиной! А если…
Шихин не стал дослушивать и благоразумно выскользнул за дверь, понимая, что редактор не шутил.
– Чушь какая-то… – повторил Шихин. – Ну их всех к черту! Пошли чай пить.
– А у меня и водка есть, – вкрадчиво сказал Ошеверов. – Не возражаешь?
– Нет. Не возражаю.
– А Валя не осудит?
– Авось, – ответил Шихин, направляясь к калитке.
Странное ощущение охватило его. Ночной сад, холодные влажные листья, гул поездов, самолеты на Внуково, мигающие в разрывах туч красноватыми огоньками, – все это уже не приносило радостного волнения. Во всем появилась враждебность, везде таились опасность и предательство. Хотелось долгим, бесконечно долгим зловредным молчанием обесценить собственные промашки, сбить с толку затаившиеся силы, которые ждут неосторожных его слов, чтобы тут же уличить в недозволенном и поступить с ним по всей строгости ими же придуманных законов.
– Хочется заткнуться и молчать, – сказал он.
– Многие так и поступили, – ответил Ошеверов. – И удивительно, что до тебя только сейчас доходят столь простые и очевидные истины. Оглянись, Митя! Самый безудержный болтун и пустобрех, человек, который не замолкает ни на минуту… На самом деле он молчит. Вслушайся в его треп – он ни о чем не говорит. Он не выражает своего мнения, даже если оно у него есть. Только пересказывает, ссылается, цитирует… Это не мое, дескать, это вон классик наговорил, сосед нагородил, попутчик наболтал!! Мы огораживаемся цитатами и сидим за ними, как за частоколом в круговой обороне. Даже открыв что-то свое, бросаемся тут же искать цитату, чтобы доказать – это не мы придумали, упаси боже! Мы поганые и дурные!