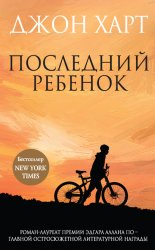Солнце за нас. Автобиография Зверь Рома

Они ушли, а я командовал съемкой. Прикольно, но сильно переживаешь, ответственности много. Плюс еще знаешь, такое чувство присутствует… Вот есть оператор, осветители, все эти люди с приборами. И тебе вроде как неудобно ими командовать. Что я им скажу? Встань сюда, встань туда? Они же знают, с какой точки лучше снимать, как вот этот кусок лучше снять — крупно? С какого ракурса? Гриф снять снизу или взять чуть повыше, где-то покрупнее… И я немножечко сначала робел: «А давайте, может быть, сейчас вот этот вот кусочек снимем?» Потом смотрю в монитор — я не хочу так! Мне не нравится. Тогда я начинал пересиливать себя: «Нет, давайте так! Снимаем отсюда. Опять не то. А вот это похоже, прекрасно! Дальше! Сейчас мы залезем наверх, снимем оттуда крупно руку. А потом отъедем, потому что здесь у нас пауза. На ней мы отвернемся, и будет круто». Я-то знаю, чего не хватает для монтажа, мы же не первый клип снимаем. Какие кусочки нужны, чтобы можно было хорошо все склеить. Потому что просто чередование — кадр средний, крупный — это скучно. Хочется какого-то движения, смазок таких крупных. Вот пальцы играют на басу. Можно в лоб снять, а можно откуда-нибудь сбоку. И на заднем плане чтобы было еще яркое пятно какое-нибудь — допустим, барабанщик… Так, потихонечку уже пошло… И знаешь, что самое удивительное? Когда проявили пленочку, посмотрели все это дело на перегоне, как раз те моменты, где я руководил, и получились именно так, как я себе представлял. А остальное как-то вяло.
Клубнику придумала жизнь. Или я? Это самый демократичный фрукт — клубника. Плюс существует еще такая любовно-романтическая составляющая. Хотя я до сих пор не понимаю, что такого эротического в слове «клубничка»? Почему не персик, не вишенка? Чем вишенка хуже клубнички? Но народ решил, что клубничка — это эротично. У нас по сценарию молодой человек видит девушку на дискотеке в людном месте. И он решается подойти. Страшно, а что делать, если понравилась очень? Подходит и говорит: «Не хотите ли потанцевать?» — «Нет, не хочу». А как девушка скажет «хочу»?! Такого же не бывает. Тогда он не теряется и спрашивает: «А чего хочется?»
Она уже заинтересовалась и говорит то, что первое в голову пришло, — клубники. Сказать «арбуз» как-то глупо — сама посуди, как бы я с этим арбузом носился по городу? А клубника — демократичная вещь, она всегда есть: и зимой, и летом. Точно, Света принесла на наше первое свидание клубнику. Правда, замороженную. Но это, увы, отношения к клипу не имеет. Прекрасно, пусть будет, все в работу! У меня же из молодости, из детства остались в памяти какие-то мечты, признаки счастья, радости, успеха, как белый костюм! И клубника оттуда тоже.
Почему сразу рыжая-бесстыжая? Рыжая — тоже милая, невинная… Это модель по имени Маша. Она из Питера, снимается в рекламе, например, в ролике, посвященном сочинской Олимпиаде: в нем она символизировала почему-то американскую спортсменку. Сниматься у нас должна была другая девушка: не рыжая, шатенка. У нас были концерты на юге, я был в Ессентуках, когда мне прислали ролики с отобранными на кастинге актрисами, чтобы я утвердил кого-то. Я посмотрел, позвонил Саше и сказал, что мне нравятся первая и пятая. Пятая была как раз рыжая Маша, а первая — другая девушка, шатенка с прямыми волосами, очень обаятельная, милая. Ее образ полностью подходил для нашего клипа. Но буквально в последний момент, когда уже позвонили этой девочке, чтобы она приезжала (она тоже не из Москвы), мы всё переиграли. Марина заметила, что девушка очень молоденькая. Лицо у нее было очень детское. А это могло бы выглядеть достаточно пошло, потому что я-то уже не мальчик. Типа развращение малолетних. Я поделился своими сомнениями с Сашей, он пожал плечами: «Юная, да. Не знаю, мне нравится». — «Саша, тебе нравятся молоденькие девочки, это понятно, но у нас же клип». И мы в отказ: звоните ей сейчас же, извиняйтесь, говорите, что не подходит. Пусть подрастет, в следующем клипе обязательно снимем. И мы пригласили запасной вариант: рыжую Машу. Ее нашли через агентство, но тот кастинг среди поклонниц, который мы устраивали задолго до того на нашем сайте, даром не прошел.
В первоначальном варианте сценария у нас должно было быть много разных барышень, причем из разных социальных групп, с разными интересами, что раскрывалось бы с помощью одежды, внешнего вида. Сразу же различаешь, кто перед тобой: девушка-гот, гламурная особа или просто богатая, студентка или какая-нибудь танцовщица r’n’b — кепочка, гольфики-чулочки… Нам прислали штук 500 анкет. Наши поклонницы — нормальные девушки, студентки, достаточно простые, интересующиеся чем-то, начиная музыкой, заканчивая какими-то науками, собирательством чего-нибудь. Самые обычные люди, которые вокруг нас. В принципе по тем фотографиям и данным можно было составить собирательный образ поклонницы группы «Звери». Но в итоге мы отказались от этой идеи, так как не справились бы технически, и придумали другой сценарий, более простой, но интересный.
Чтобы мой герой был военным, придумал сценарист Рома Непомнящий. История довольно комичная, военный какой? Ему сказали клубники — есть! Так точно! Найду любым способом. Этот парень не гламурный, не модный, не гопник, который девчонок на дискотеке задирает. Он где-то принц, а где-то вояка, который все воспринимает чересчур серьезно. Вот он в отгуле, в отпуске или вернулся на гражданку, пришел на дискотеку посмотреть, что там творится. Конечно, он хочет любви.
Моряка предложил я, потому что у него форма красивая, более благородная, праздничная, в отличие, скажем, от пехоты или ракетчиков. Море, моряк, красота, белая рубашка… Я же вообще люблю наряжаться во всякие вещи — это как игра. Если я одет строго, даже элегантно, значит, я и веду себя достаточно строго и благородно. Если я вдрызг разодет во что-то художественно порванное, цепи висят, то я, конечно, панк. Одежда очень воодушевляет. Как ты одет, так себя и ведешь, сам того не замечая. Невозможно сидеть в костюме развалившись и чесаться. Ты раз — и спинку сразу выпрямил. Два — и рукавчик поправил. Когда на тебе в клипе военная форма, у тебя красивые погоны, ты чувствуешь себя человеком организованным, серьезным. В одной сцене на мне белый парадный китель адмирала, и чувствовал я себя в нем достаточно странно — возраст-то у меня, прямо скажем, далеко не адмиральский. Ну как может человек в двадцать девять лет стать адмиралом? Зачем это нужно — другая история. Эта сцена не из жизни. Это мечта, фантазия. Когда он, прибежав в клуб, роняет клубнику, в песне наступает пауза, как бы стоп-кадр, и мы видим его мечту: звучит вальс, она — в шикарном белом платье, он — конечно же, адмирал! Кортик, все дела! Он не может быть в такой момент в форменной рубашке, а она в своей дискотечной кофточке. Это же мечта! Ах, как могло бы быть… Мы хотели снимать эту сцену в Большом колонном зале, но у нас не хватило ни времени, ни средств. Но мы выкрутились, и получилось по-другому, а-ля «Чикаго» — контровой свет, дым. Вот почему мой герой в кителе адмиральском оказался. Не потому что «хочу быть», а потому что мечта. Китель брали на киностудии «Мосфильм», как и рубашку — она оказалась со съемок фильма «72 метра» про подводную лодку, на ней была бирка с фамилией «Башаров»: мы рубашку немного ушили, а то смотрелась мешком.
Обувь я взял свою — обычные черные классические туфли, они хорошо смотрелись, и не скажешь, что это не ботинки моряка. Это итальянские туфли с деревянной подошвой, и я, конечно же, при беге отбил себе об асфальт все пятки за первые два часа съемок, после чего уже бегать в них я не мог, ходить не мог, потянул сухожилия. Дальше я бегал в кроссовках, когда камера не брала общий план. А потом я и в кроссовках уже не смог. Всего не предугадаешь.
2008
Ольга Романовна
21 февраля я стал отцом. У нас родилась Оля. Марина хотела назвать ее Зоя. Я был против. Я сразу сказал: «Будет Оля, всё». Не могу объяснить почему. Есть вещи необъяснимые. Ты их говоришь или делаешь, не зная, почему так надо, но ты уверен, что должно быть только так. Просто Оля.
Какие могут быть ощущения? Всё! Круто! Произошли хорошие изменения, мы были готовы. Мы хотели ребенка. Нет, был какой-то страх, понятно. Что теперь будет? Но так, чтобы сильные переживания — их не было. Мы ждали, готовились. Как у всех это бывает. Нам помогали, мы справились. В первый раз тяжело, оно же тебе непонятно. Ты ведь ни разу не видел, не делал этого никогда. А все новое всегда пугает. Поэтому и нас пугали некоторые вещи, но потом мы поняли, что в принципе ничего страшного в этом нет.
Внутри, конечно, были такие переживания: вместо того чтобы мне быть дома с любимой, я тут на гастролях. Но это же нормально, это работа моя. Так должно быть, и с этим ничего нельзя поделать. Нет, если совсем все было бы плохо и Марине была бы нужна помощь моя, я, конечно, отменил бы все концерты. Но такой необходимости не было. Я разгребал график, старался находиться больше дома. На время родов я все концерты отменил: мы распланировали таким образом, чтобы я не пропустил самую ответственную дату.
Страшно не было… Захватывающе. С легким волнением. Вот, это новое что-то. Не просто мы живем вместе. У нас будут дети. Мы будем их вместе воспитывать. Это навсегда. А как оно будет? Какая она будет? Только на следующий день после родов я приехал в больницу и увидел дочь и маму. Марина мне написала: все нормально, родилась девочка, приезжай за нами тогда-то.
Я узнал и сразу же всем своим написал: «Ребята, я стал папой, вечером встречаемся в „Амбаре“ на Земляном, будем отмечать». Мы собрались, я всех угощал. Я ходил по залу и всем кричал: «Я — папа! Я — отец! Я — батя! У меня родилась дочка, и я назвал ее Ольгой. Ольга Романовна. Княжна моя!» Подливали и чокались. Я всех обнимал, целовал и был счастливым и пьяным.
Я забрал Марину с Олей домой. Ну, ребенок и ребенок. Для меня нет такого понятия «красивая» для новорожденного. Она же новорожденная — что-то маленькое, опухшее. Вынули ее из конверта — да, твое. А красивая, некрасивая — я не понимаю. У меня не было никаких трясущихся рук. Спокойно. Уверенно. Ты это видишь в первый раз, поэтому необычно. Тихо, смиренно радуешься. Я вообще в этом не разбираюсь: похожа — не похожа. Потом уже, когда ребенок чуть-чуть подрос, про него уже начали говорить: «Ой, смотрите, уши папины, рот мамин, глаза бабушкины, губы и подбородок дедушкины». Я сам не обращаю на это внимания: если мне говорят, то замечаю. А так специально проводить анализ — у меня мозг почему-то под такое не заточен.
С моим отцом мы редко общаемся, по мере необходимости. Мы с ним очень похожи, как внешне, так и внутренне. Нам не надо созваниваться раз в неделю, потому что мы отец и сын. Я его просто люблю. Он меня тоже. Мы это знаем, и это не надо озвучивать. Это и так нам двоим понятно. У меня отец вообще мало говорит, и я мало тоже. Мы вместе молчим.
Я могу приехать к нему на рыбалку.
— Привет, как добрался?
— Хорошо.
— Ну что, когда поедем?
— Давай вечерком.
Едем в машине, молчим. Приехали. Ловим.
— О, клюет! Хорошая рыба! Что, поехали обратно?
— Поехали.
— Что будем есть?
— Да что-нибудь придумаем.
Вернулись домой. Поужинали.
— Спокойной ночи?
— Спокойной ночи.
Выключаем свет.
Утро.
— Ну, что, батя, я поехал?
— Да, поезжай.
Вот так мы и общаемся. Хотя я не уверен, что у него от меня есть какие-то секреты.
— Пап, где ты с мамой познакомился?
— В Донецке. Когда приехал на шахту в Горловку работать.
Вот и поговорили. Со стороны может показаться, что это прохладные отношения. Но это неправда. Мы просто так общаемся. Нас обоих это устраивает, без претензий и обид. Нет у нас недоговорок, которые бывают между отцами и детьми.
Я уверен, он вообще не задумывался, зачем я в свое время отправился в Москву. Уехал и уехал, молодец. Значит, надо было — какие могут быть вопросы? Есть отцы, которые пилят, но это не мой случай. Он, конечно, рад тому, что я стал тем, кем стал. Следит за мной. Собирает информацию. Марина что-то выкладывает на Фейсбуке, он это собирает, делает коллажи из фотографий. Раньше, когда были плакатики, кассеты, папа их собирал. У него собрался большой архив. Все, что где-либо появляется, он собирает. Следит, где мы, что мы. И молчит…
Я думаю, для него не очень важна сама музыка. Я ни разу не слышал, чтобы он напевал что-то из «Зверей». Мама слушает. А отец ни разу не сказал, какая песня хорошая, какая не очень. Он просто радуется по-отцовски в целом, что у сына так все хорошо сложилось.
Папа живет в Астраханской области, там, где Волга впадает в Каспий. Он недавно построил новый дом: старый совсем кривой был. Я ему начертил проект, ну так, схематично, объяснил, что, где и как должно быть, где перегородки, где ванная, кухня, комнаты. Говорю: «Подойдет тебе такая планировка?» — «Да пойдет, отлично! Мужикам отдам, бригаде строителей». В материалы я не лез, я же не знаю про них сейчас ничего. Имею представление, что из чего делается, что нужно, чтобы стены обшить, допустим, или кровлю сделать. Что в строительном магазине конкретной местности есть, из того дом и будешь строить.
Когда дом отца был готов, мне нужно было съездить, посмотреть, что и как. Я взял с собой Олю. А она же у меня рыбак! У нее сходства волнами проявляются — то в маму, то в папу. Оля любит собирать грибы (в них она уже разбирается) и ловить рыбу. Такую большую рыбу она до этого еще никогда не ловила. Окуня, щуку — это тебе не плотва какая-то по двести граммов. Она и судаков по четыре килограмма вылавливала — такую штуковину не вытащить одной, мы ей с папой помогали.
Еще до отъезда, в Питере, я научил ее держать спиннинг, показал, как она будет вытягивать разные породы рыб. Мы рыбачили до этого на Тенерифе. Но там совершенно другая рыбалка: ты на катере идешь и ловишь какого-нибудь небольшого тунца. Оле такая не нравится — укачивает да и скучно. Потому что ловишь не ты, а лодка. Никто ей не даст удочку в руки, чтобы она покрутила. Она очень тогда огорчилась, сказала, что это не рыбалка. Или мы там ловили прямо с пирса маленькую рыбешку. Купили лесочку, маленькое грузило, крючочки и на хлеб ловили. Забрасываем, видим, как подплывает стая этих рыбок. Достаем, смотрим, отпускаем. Оле больше нравится, когда она сама достает рыбку. Поэтому я и взял ее на Волгу — там спиннинги, удочки, донки!
За эту поездку в три дня она, конечно, круто там отожгла — с утра до вечера на рыбалке, вся грязная, вся в костре! Мамы нет рядом — угар! Коровы пасутся, в огороде ходи, вырывай что хочешь — свеклу, клубнику, укроп метровый. Воля! Она же никогда не видела такого. И конечно, рыбалка! На блесну, конечно, мы ходили на окуня и щуку, а это хищные рыбы, червяки разве что на леща какого-нибудь годятся. Я забрасывал спиннинг в нужное место, а она выкручивала. Бах! Есть поклевка, Оля, крути! АААА! Да, сейчас!.. Приезжаем домой, дедушка жарит пойманную Олей рыбу, все едят. А что, жалко? Мы же вытаскиваем ее не для развлечения. Если для развлечения, то выпускаем обратно в воду. Лишнего не берем. В азарт Оля может войти, тогда пропадет пара рыбешек. Кошкам отдаем, собакам. Их много в тех местах, чем-то надо кормить.
Стараюсь показать ей, как в жизни бывает. У нее будет свой собственный путь, и я приму любой. Мне вообще начихать, какой там будет у ребенка путь. Моя цель — научить. Мне интересно этим заниматься, наблюдать за развитием этого процесса. Дети же не для того, чтобы «надо их вырастить, а потом все как бы… Уф! Справились!»
Я дам ей свободу, насколько смогу, все зависит от ситуации — какая ситуация, такая и свобода. Выбор точно дам. А выбор и есть свобода. Мы уже сейчас даем ей выбор принимать решения, лишь объясняя, как бывает в жизни. Что такое зависть, предательство, ревность, подлость, невоспитанность. Она сталкивается с этими явлениями и не понимает, почему люди себя так ведут. Она нам описывает ситуацию, а мы раскладываем по полочкам, объясняем, как это называется среди людей. Так, допустим, подловато делать, а вот это здоровый юмор.
Оля не так давно стала понимать, кто я. Когда ей в школе стали говорить: «Твой папа — Рома Зверь». Мама говорит дочке, вот у тебя папа артист, музыкант, поет песни. Откуда ребенок знает, что это такое? Если бы ей сказали, у тебя папа — токарь шестого разряда, на заводе работает, это было бы то же самое. Вот когда уже побывала на концертах, тогда Оля начала понимать, что папа артист. Концерты ее впечатлили. У нее есть любимые песни «Зверей». Ей нравятся «страшные», где очень много шумов, пугающих звуков. Хоррор типа «Фабрики грез» или «Молний». А для «Пингвинов» она написала свой вариант текста, что-то про кроликов… Розовые кролики больше не вернутся. Розовые кролики больше не смеются. «Районы-кварталы» она не слушает…
Она у меня не принцесса, а свой парень, дружбан, молодец. У нее тоже все очень четко: дружба — это дружба. Каждое такое понятие для нее очень важно.
Рома, извини
Первый год после свадьбы мы вообще о детях не думали. Не было их в планах. Потому что мы переезжали с одной съемной квартиры на другую. Не до этого, самим бы понять, как быть. Марина все хотела работать, ей нужно было после модельной работы и окончания института куда-то устраиваться. Была у нее такая мания пойти куда-то работать — надо было почему-то ей очень. Она устраивалась в какие-то компании. Я мог спонтанно приехать и забрать ее с собой на гастроли. Она говорит: «У нас завтра выставка, а у меня ключи от нашего павильона в „Крокусе“. Не поедешь — обижусь!» Шантажировал: или я, или работа. Она, конечно, меня выбирала, писала заявление об уходе. Мне просто казалось, что она, скажем так, может поискать себя. Тем более что ей представилась такая возможность: не работать и пробовать себя, пользоваться этим финансовым ресурсом для экспериментов, познания, что может помочь открыть в себе то, что ей интересно, то, чем она хотела бы заниматься. Поэтому я был против ее неинтересных менеджерских работ. Она тратила время и силы на кого-то, вместо того чтобы тратить их на себя и на меня. Я ревновал. Я не хотел, чтобы она работала в каком-то офисе менеджером. Бред!
Эти мои переживания слышны в песне «Рома, извини». Вся та ситуация описана: нам не хватало времени друг на друга, потому что своей карьерой занимался не только я, но и она пыталась заниматься своей. Там даже немножко злобненько по тексту, так жизнь такая и есть. У нас, как и у героев песни, реальные эмоции, а в подобной ситуации они всегда жесткие. Очень искренне там всё, поэтому отклик был у людей. Я помню, мама одной моей знакомой, женщина лет сорока, спросила меня: «Ром, хорошая песня, а как звали ту девушку, которая все летала, делами своими занималась, а ты ей потом сказал, что сам теперь занят?»
Я желал, чтобы Марина проводила время со мной, а не на работе. Но при этом я хотел, чтобы она что-то для себя нашла. Любое ее начинание я поддерживал: я с тобой, буду помогать, вперед! Марина занялась 3veri и семьей.
Дальше
Залило нашу студию на «Аэропорту». Все промокло, все пропало. Затопило. Реально все похерилось: компьютеры, инструменты. Все, что на полу стояло. Это же подвал, там постоянно трубы прорывает, заливает. Многое пришлось восстанавливать, многое восстановить не смогли. После такого мы решили оттуда съезжать. Это помещение уже было не привести в порядок. Мы переехали на улицу Гастелло, на «Электрозаводскую», там в бомбоубежище обосновались. Музыканты как по подвалам шкерились, так и шкерятся. Ничего не меняется в этом мире.
Много чего было уничтожено: записи, которые были в компьютере, «уплыли» безвозвратно. Но большой ценности в самих записях не было, что стоит сесть да переписать? Без проблем! Поэтому никто не горюет об этом. Да, записывал в определенном состоянии, его не воспроизвести, в любом случае песня будет другая. Она бесконечная, понимаешь? И поэтому не имеет никакого смысла переживать. У тебя может быть множество вариантов, записанных в разных состояниях, сыгранных по-разному. Это бесконечный процесс. Поэтому вообще неважно, как было сделано тогда. Это было тогда. Но этого больше нет. Было и сплыло. Ты-то помнишь, что играл. Сыграешь чуть-чуть по-другому. Споешь немного иначе. Смысл не поменяется. Любую песню можно восстановить, она же в голове живет. Как может потеряться песня? Если ты рэпер и пишешь по пятьдесят листов в день, забыл их в метро, тогда да, потеря. Но я-то не пишу столько, у меня все хранится в голове. Существует, поет и играет. Я не могу потерять даже один-единственный звук. Потому что он уже заложен туда. Как можно потерять песню? Бля, я потерял сессию с такими звуками! Я там так пел… Что это такое? Если ты так пел, значит, возьмешь и так же споешь!
Я вот сейчас смотрю на некоторые свои тексты и думаю — как я это мог сделать? Все время кажется, что никогда не сможешь написать в будущем такие песни, которые ты уже создал. Первый альбом выпустили, вышел второй. Я думал, что никогда уже не напишу таких песен, как в первом, что второй альбом в чем-то хуже. Третий альбом записали, смотрю, какие хорошие песни на втором. Сейчас делаю четвертый, смотрю на третий и понимаю, что и там все отлично. Но внутри кажется, что что-то из меня уходит. Что та старая песня лучше новой. Потом проходит какое-то время, она, как вино, настаивается, и ты понимаешь: а ведь нормальные песни ты все-таки пишешь. Зря ты на них думал, когда их написал, что они какие-то неискренние, что не удовлетворяют тебя. Ты можешь оценить собственную песню по прошествии времени, как бы со стороны, не как автор, а как обычный человек. Ты ее отдал людям — всё, это уже не твое! Она твоя, когда ты ее сочиняешь дома, записываешь в студии. Ты к ней очень ревностно относишься, ведь только ты знаешь, что это такое. А когда ты отдаешь ее слушателям, ты начинаешь относиться к ней иначе — не твое это уже детище, общественное, принадлежащее людям. Это их жизненные события происходят в ней, с их пониманием. Ты чувствуешь это, когда твоя песня доносится из проносящейся мимо машины.
Это, сука, творчество, оно какое-то запутанное. Ты вроде чего-то пишешь, а по какой причине — понять до конца никогда не можешь. Это нужно психолога вызывать и копаться, что за внутренние процессы за всем этим стоят. Можно только предполагать, а утверждать, что именно послужило причиной, что повлияло на написание, невозможно. Иногда это может быть очень конкретный образ, конкретная картинка, но чаще я не могу понять, откуда что взялось. Вот меня спрашивают, о ком песня «Дальше». Но я и сам не знаю. Это какое-то зашифрованное послание человеку, обращение к какой-то девушке. Наверное, к Марине отчасти. Я обращаюсь к человеку, говорю, что мне дальше надо двигаться, «но песни пишутся тебе по привычке». «Но» — расставание. Неизвестно, что будет дальше — «если придумаешь, напиши мне». А пока «мне нужно вперед». Мне всё надоело… И всё справедливо.
Это всегда какой-то поиск себя. Какие-то неоправданные надежды, ты вроде бы со всеми, и все хорошо, а все равно как-то получается, что один. Кто-то тебя не понимает, кого-то ты не хочешь сам подпускать. А любовь же должна быть вечной. Но я понимаю, что такого не бывает. Хорошо бы умереть за что-то большое и светлое. Вот об этом «Дельфины», это текст Бондарева, но не суть. Только вот за любовь вообще никто не умирает, поверь мне. Ты назови мне хотя бы один случай — кто умер за любовь? Ромео и Джульетта? А сейчас кто? Любовь поменяла свой смысл. Теперь любовь — это уважение друг друга, помощь друг другу, разбирание друг в друге, ты моя половинка — знаешь весь этот поверхностный кал. Это вроде того, когда люди пишут цитаты известных людей. Никто не понимает смысла любви. Все пытаются найти ей объяснение и научиться с ней справляться.
А я за такую любовь, чтобы ни намека не было на то, что она может исчезнуть. Либо что нужно ее оберегать, делать что-то для этого. Потому что любовь должна быть просто любовью. Чтобы ты не переживал, не трясся. Это вещь, в которой ты не то что уверен, а ты даже мысли не допускаешь, что с ней что-то может случиться. Чтобы всегда находиться в этом крайне уверенном состоянии. Когда ты только-только влюбился, у тебя период эйфории, но ты все равно постоянно думаешь, что это прекрасное может закончиться. Эта мысль тебя пугает, она тебя валит с ног. Как будто ты уже заранее эту любовь проводил и готов ее потерять. Какая-то безысходность. Фатальность. А хочется, чтобы не было этой фатальности. И ты все время мечешься, беспокоишься. Страх того, что это твое чувство исчезнет, — вот что самое ужасное. Ты не можешь любить вечно. А это раздражает.
Ты любишь человека. Но потом эта любовь стихает. Она присутствует, но все спокойно. И все нормально. Ты не готов к другой любви. Ты ее боишься, стесняешься, не можешь себе позволить. Ты не допускаешь мысли, что вдруг появится человек, которого ты будешь любить еще больше. Да бог с ним потерять! Самое грустное, что ты знаешь: это возможное новое, скорее всего, превратится в точно такое же старое. И ты думаешь: а зачем мне что-то менять в своей жизни? И возникает мысль: от добра добро не ищут. И вот мучения начинаются — что делать? Ты вроде бы готов любить, жаждешь чего-то сногсшибательного, но понимаешь, что оно тоже сойдет на нет. И какой тогда смысл? Организм твой не хочет переживаний, ему комфортно и так. Он не хочет, чтобы было плохо. Но с точки зрения творчества это полезно. Вот ты и думай, что дальше! Чем тебе жертвовать: хорошим и любимым человеком или творчеством? Не бывает идеально. Так и есть. Не бывает идеальных… Мы с тобою не случайно, не случайно ты и я. Просто если люди вместе, значит, они вместе по каким-то причинам. А требовать от человека какого-то идеального отношения к себе бессмысленно, ведь все мы неидеальны. В этом и вся суть.
Этот альбом заканчивается песней «Пока» — это прощание, завершение. Мы прощались с теми «Зверями», которые звучали изо всех утюгов, с песнями веселыми. Я прощался со всем этим: когда-нибудь кто-нибудь услышит в своем телефоне песню: «Следя за тем, как я уйду из моды». Я понимал, что это неизбежно, и к этому двигался целенаправленно. Посыл такой: дальше будет что-то другое, но только не это. Потому что надо остановиться, с этим закончить. Когда мы прочухали, как этот музыкальный мир у нас устроен, я понял, что мне неинтересно в нем жить. Он не совсем честный, он неправдивый, он неискренний, что для меня является неприемлемым. Мне не хотелось участвовать в «Золотых граммофонах», каких-то вечеринках, сборищах чуждых мне людей, тусовках. «Звери» из-за того, что наши песни были доступны и понятны всем, потихонечку приобрели статус суперпоп-группы.
No more rock
Но это не совсем то, что я хотел рассказать людям. Это лишь одна сторона моего творчества, которая раскрылась ярким пышным букетом. Понятно, по каким причинам — потому что все было сделано правильно, начиная песнями, заканчивая видеорядом. Всё в десятку. Но дальше продолжать так мне уже неинтересно. Хочется показать людям то, что было, но никто не замечал, кроме фанатов. Такие песни, как «Фабрика грез» или «Трамвай». Все же знают «Зверей» по песням «Все, что тебя касается» или «До скорой встречи». Поэтому на обложке четвертого альбома написано, что мы двигаемся дальше, оставляя все, что было позади… И я действительно не знал, что будет дальше.
Нас пригласили играть на премии Russian Music Awards MTV. Мы согласились. Первый раз она прошла в 2004 году, мы там победили. Тогда в руководящем составе канала присутствовали американцы, первые церемонии были нормальные. Но с уходом Линды Дженсен (президент «MTV-Россия» в 2000–2007 гг. — Прим. ред.) начался спад в организации в качестве постановки шоу. Не тянули они уже. А потом стало вообще всё очень плохо, но нас уговорили там сыграть. Мы были номинированы как группа года, победили, кажется, «Серебро». Но не пофиг ли? Нам вообще не стоило под это подписываться. Режиссер говорит: «А давайте сделаем попурри из хитов „Зверей“, снимем все круто, придумаем сценарий». В итоге что? Опять со звуком и с остальной организацией получилась полная жопа. К тому же они вообще отменили номинацию «рок-группа». Нет такого жанра. Макс наклеил техническим скотчем на гитаре стикер «No more rock RMA». А в конце нашего выступления он ее, конечно же, разбил на сцене. Не жалко, он старенькую взял. Он захотел ее разбить и разбил. Наше выступление просто должно было так закончиться. Так все и закончилось.
2009
Фотография
Мне все надоело. Статьи, журналы, интервью. Эфир телепрограммы «Утро». Гостевой эфир «Русского радио». 20 концертов в месяц. Я решил забить на все и понять, что мне делать дальше…
Захотелось уйти… не в искусство, а в настоящее искусство. Я хотел окунуться в более глубокие, серьезные вещи и познакомиться с людьми, которые этим занимаются — чем-то загадочным, притягательным. Те, что не на виду, но для меня почему-то являются авторитетами. Мне хотелось понять, как они живут, что делают. Меня привлекали не определенные люди, а сама среда. Я хотел посмотреть, кто сейчас в этой творческой среде обитает. Не только в музыкальной, но и в театре, в кинематографе, живописи, фотографии. Прежде всего в фотографии.
Мое увлечение ею началось задолго от этого «ухода». Саша Войтинский всегда интересовался техническими новинками, он же вечно молодой у нас. Как-то раз Саша принес новый цифровой зеркальный фотик. Фантастика какая-то! Он мне так понравился. Хочу такой же, хочу фотографировать, хотя бы попробовать, что это такое. Я ведь был знаком с этим явлением с обратной стороны: меня много снимали для разных журналов. А тут решил попробовать сам. И понеслось! Фотоаппараты различные, цифровые, аналоговые… Изучал сам, к небожителям никаким не ходил. У меня были знакомые фотографы, что-то я узнавал от них. Допустим, Леша Никишин познакомил меня с «Лейкой» (немецкая фотокамера Leica. — Прим. ред.). У нас с ним была как-то съемка, а я на тот момент уже увлекся фотографией и приперся к нему со своим «Хассельбладом». Он глянул, говорит: «Круто, молодец!» Я думаю, вот есть же люди понимающие! А не эти, которые ходят и на свое цифровое говно фоткают. Вот тот человек, с которым можно поговорить о чем-то сокровенном, интересном, о котором мало кто догадывается. Меня почему-то привлекала эта среда, где можно было узнать нечто тайное, почти что сакральное. Люди искусства — это же небольшой круг людей. И попасть в него сложно, просто так ты туда не зайдешь: здрасте, я Вася, ну-ка покажите, как у вас все устроено и чем вы тут живете… Леша мне говорит:
— Я покажу тебе другую камеру, посмотри, вот это «Leica M7».
— И чего?
— Здесь есть встроенный экспонометр, что очень важно.
На тот момент эти слова я уже знал, я же занимался самообразованием, книжки читал по фотоискусству. Тем более мы с Мариной много путешествовали по Европе, посещали галереи и выставки, я знакомился с классиками европейской фотографии, начиная с Анри Брессона и заканчивая Робером Дуано. Так что я уже немного понимал, что к чему. Леша говорит: «„Лейка“ — суперкамера, удобная, маленькая, в путешествие с „Хассельбладом“ не поедешь, он огромный». Он дал мне посмотреть эту «Лейку», мне понравилось… Когда есть деньги, ты можешь позволить себе многое. А не так, что, не имея возможности купить какую-нибудь камеру, клянчишь ее, у кого она есть. У меня таких проблем не было. Я просто покупал ВСЕ. Все, что мне было нужно.
Я брал фотоаппарат, заряжал, фотографировал, проявлял, сканировал. У меня был блокнот, где я фиксировал то, что получалось. Так как в некоторых камерах не было встроенного экспонометра, нужно было все выставлять в ручном режиме. Я отщелкивал пленку в разных режимах, с разной диафрагмой, выдержкой, а потом проявлял и смотрел, что получается: где засвечено, на каком показателе изображение начинается смазываться. Исследовал методом научного тыка. И по каждому кадру делал пометки в блокноте, фиксируя положение диафрагмы и выдержки. 36 кадров на пленке, и каждый из них был прописан. Закрываешь диафрагму — соответственно, пространство резкости у тебя увеличивается, открываешь — оно уменьшается. Здесь еще есть фокус, а тут его уже нет. Волшебство! Мне очень нравилась черно-белая фотография, настолько, что я даже цветную пленку и не покупал.
Практиковался я в Москве днем или вечером, когда была возможность. Специально на фотоохоту не выходил. Иногда бродишь по городу по своим делам, замечаешь что-то интересное. О, смотри, как здорово! Несколько слоев афиш наклеенных, разорванных лоскутами — получается причудливый коллаж из лиц и букв, иногда очень страшный. Если было время, я брал камеру и возвращался туда фотографировать. Или, допустим, автобусная остановка, где сидят бомжи пьяные. Она уже сама по себе интересный объект для съемки. Такой проблемы, чтобы я на улице снимал, а меня кто-то узнал, не возникало. Я больше фотографировал в Европе. Расцвет моего познания фотоискусства как раз пришелся на мои европейские путешествия. Я ездил туда специально, чтобы снимать. Во-первых, там не дергают. Кроме того, мне тогда казалось, что у нас нечего снимать — ни архитектуры особенной, ни персонажей на улицах. Да и времени здесь всегда мало. Поэтому когда я уезжал отдыхать в Таиланд или на Бали либо в Париж или Амстердам, я всегда брал с собой фотоаппарат и там снимал людей, архитектуру. Там никто тебе не помешает и плохого слова не скажет. У нас же фотографировать достаточно опасно — могут и накостылять, выгнать и уж точно будут косо смотреть.
Меня никогда ниоткуда не выгоняли с камерой. Я скромный человек и по складу характера своего не могу залезть человеку в душу, держу дистанцию. Иногда стесняюсь не то что исподтишка, а внаглую выставить кадр. В Европе я спокойно мог себе это позволить, потому что никто не обращал никакого внимания — там культура у людей другая. Поэтому, конечно, у меня больше снимков, сделанных за границей. Потом я уже немного обвыкся, понял, что такое репортажная фотография. Она меня больше всего увлекает. И я начал уже спокойно снимать и здесь. Но люди все равно косо смотрят, это неприятно. Будто ты воруешь у кого-то душу через фотографию, знаешь, как папуасы какие-нибудь думают. Конфликты мне не нужны.
Поэтому я фотографировал чаще спящих на лавках пьяных бомжей, которые тебе слова не скажут. Их можно. А потом я понял, что не надо бегать по городу в поисках чего-то сверхъестественного. Интересное находится здесь и сейчас, где ты есть, тебе нужно лишь сесть и дождаться кадра. Я прочел несколько хороших интервью со знаменитыми фотографами репортажной съемки, в которых они говорили то же самое. Я старался выбрать хорошую точку, которая мне нравится, например, кафе, где из окна видно улицу, как солнце садится… Вот ты выставил кадр, туда попал человек, он тебя чем-то заинтересовал, ты делаешь снимок. Всё! Он будет прекрасен. В студию меня не тянуло, меня больше привлекали люди на улице… Постепенно я начал увлекаться разными видами искусств, и это меня затянуло на какое-то время.
Художники
Однажды я смотрел канал «Культура». В новостях был сюжет о выставке молодых художников, очень талантливых. Там был анонс, где пройдет эта выставка, в которой принимал участие в том числе и молодой художник Владимир Семенский. Показали несколько его работ. Прикольная живопись, необычная. Такие крупные мазки. Не то что классика академическая — Шишкин, Левитан. Все умеют рисовать натюрморты с цветочками. Каждый второй из тех, кто умеет рисовать, может так же. Для этого не нужно никаких уникальных способностей — все равно что рисовать по клеточкам. А здесь я увидел что-то необычное. Я запомнил фамилию и вбил в поиск на «Яндексе», нашел несколько работ этого художника. Мне очень понравилось. Думаю, как же мне с ним познакомиться? Что же мне, письмо написать: «Здравствуйте, я Рома Зверь, мне нравятся ваши работы»? И что? Глупо. Но других-то вариантов нет. Я нашел сайт, где был электронный адрес для обратной связи, причем не с самим Володей, а с Машей Семенской, его женой. Она его антрепренер. Маша — тоже художник, но отвечает и за организационные вопросы. Потому что Володя оказался совсем уж таким творческим ребенком, далеким от прозаических вещей.
Все-таки я решил написать. Раз мне понравилось, мало ли, человек захочет со мной встретиться? Мне хотелось посмотреть его работы живьем. А вдруг пригласит к себе в мастерскую? И я написал письмо на адрес Маши: «Здравствуйте, я увидел работы Володи в Интернете. Мне они очень понравились. Было бы интересно их увидеть». И все, подпись «Рома Зверь». Ну ведь мне надо было хоть как-то подписаться? За что-то зацепиться, все-таки имя иногда дает плюсы и привилегии, которых нет у других людей. А известное лицо работает. Бывает хорошо, а бывает и плохо. Но в этом случае оно сработало удачно. Где-то дней через пять я получил ответ в два предложения: «Здравствуйте, Рома! Мне очень приятно, что вам нравятся мои работы». Все. И все?! Я думаю, вот блин, так грубо отшили! Не хотят меня пускать в искусство! Но через неделю я получил второе письмо от Володи, в котором он пригласил меня на свою выставку. Я ответил: спасибо, конечно, приду! Я пришел на выставку, и мы познакомились.
Конечно, они там были все ошарашены. Этот мир художников — он простой, маленький. Он вообще о другом. А тут пришла звезда из телевизора, которая стадионы собирает: «Вы Володя? А я Роман». — «Очень приятно. Вот мои работы, смотрите». Я не думал, что они такие большие. Володины работы огромные. У тех нескольких картин, фотографии которых я нашел в Интернете, не был указан реальный размер. А там полотна были просто гигантские — два на три метра! Они меня поразили. Такой масштаб, такие мазки! Не вот эти — пикселями и точечками выписанные лепесточки. Тут я увидел, точнее, представил себе размер кисти. Такой масштаб! Вблизи это выглядит как хаос, мазня. Отходишь — картина, произведение. Цвет, тень, фактура… потрясающе!
После открытия выставки Володя пригласил меня: «Мы хотим отметить, собираемся к нашему товарищу-художнику в мастерскую. Если хочешь, присоединяйся». Еще бы, хочу! А я же взял с собой «Хассельблад». Можно в мастерской поснимать? Мне разрешили, я достал камеру, и все такие: «Оооооооо!» И тут я подумал: вот родные люди! Они меня понимают! Они хоть и не фотографы, но знают, что это крутая вещь, не какой-то там «Никон» с «Кэноном», а настоящая аналоговая камера. Врубаются! Меня это, конечно, подкупило. Вот они, люди искусства, и я среди них. Не то чтобы я там тихо сидел в уголочке. Володе не очень нравилось сниматься, но он позволил мне поснимать картины, я сделал несколько кадров. Мы пообщались. Но общение было довольно скованным. Володя привел Рому Зверя! Как он вообще попал сюда?! Такой вопрос читался на лицах художников. Что он здесь делает? Ему же надо в телевизоре петь… Таким образом я познакомился со многими художниками и с живописью вообще. Советской, постсоветской. Это ведь такая цепочка: начинаешь с одного, продолжаешь другим, все потом смешивается и лепится одно к другому. Раз тебе интересно, ты в это погружаешься.
Володя подарил мне буклет выставки, одна из картин в нем называлась «Вакханка», и она мне очень понравилась. Я спросил, можно ли ее посмотреть живьем, на что Володя мне ответил:
— «Вакханка»? Так я продал ее уже.
Тут меня осенило: а что, тут еще и покупать можно? Картины можно покупать?!
— И ты их продаешь?!
— Конечно! Я же художник, я продаю свои картины, я на это живу. Я же больше ничего другого не умею делать, только рисовать. Это мой хлеб.
Потом мы еще встречались, ходили вместе уже на выставку его жены Маши Семенской. Я познакомился с другими художниками, с людьми, которые около художников тусят, — искусствоведы, меценаты, галерейщики. «Реджина», Крокин. Сам господин Крокин… Частично тусу художественную, какой-то ее пласт, я узнал. Я туда зашел, и мне было интересно. С Володей мы стали друзьями. Мы часто беседовали об искусстве, о том, как художники делают что-то новое, как они общаются, как они переваривают информацию, во что она превращается. Он интересовался, как это происходит в музыке.
— А вы, музыканты, встречаетесь? Обмениваетесь идеями?
— Нет.
— Правда?
— Может, кто-то встречается на «Золотом граммофоне» а-ля Валерий Меладзе с Колей Басковым.
Они обнимутся, чмокнутся, поделятся контактами нужных людей. Эта золотограммофонская туса так живет. Они же живут не за счет гастрольного кассового заработка, а за счет связей. Туса, связи, мы свои. Мы друг дружке помогаем. А в рок-музыке нет такого понятия, как помощь. Дружат просто личность с личностью, и всё.
И вот мы с Володей часто общались на тему искусства, каким оно должно быть и где общее между изобразительным искусством и музыкой, фотографией, поэзией. Где общий знаменатель? Почему эта картина крутая и эта песня тоже, а та картина никакая и песня так себе. Мы искали эти точки, общий смысл. И мы, конечно, его нашли. И достаточно быстро.
Оказалось все просто: это искренность. Я и раньше, может, подсознательно это чувствовал. И Володя знал тоже, просто с музыкой не был связан. Мы сошлись на одном и том же: самое главное в искусстве — это искренность и открытость. Надо раздеваться. Самое сложное — это раздеться. Оголиться и показать себя, какой ты есть. Не прикрываться какой-то формой, а быть искренним. Потому что именно искренность всегда работает в любом виде искусства.
А еще мы вместе рисовали. Когда я в первый раз приехал в гости к Семенским, они предложили:
— Давай порисуем вместе.
— Но я не умею рисовать.
— То, что у тебя нет академического образования, — это ничего не значит. Рисовать умеют все. Просто все думают, что художник — тот, кто учился, а на самом деле это не так.
И я начал рисовать. Сначала это была какая-то мазня. Мы рисовали вместе. Володя говорил: «Ты начинаешь, я заканчиваю». Так и рисовали. И когда я делал первые штрихи, он поглядывал на Машу, Маша на него, и они оценивали, чем я отличаюсь, насколько экспрессивно я рисую, кто я: минималист, реалист, наивнист. Им было интересно, как я провожу линию, рисую лицо, цветок, воду, небо… Это же тоже почерк. Если в песнях я такой, то и в живописи примерно тот же. Но это, конечно, совершенно иное занятие. Мне было интересно, и я начал этим потихонечку увлекаться. Так как мы с Мариной часто проводили время в Париже, а она очень любит посещать музеи, у нас появился общий интерес. Она меня поддержала, практически заново открыла для меня театр, балет.
Вот так я начал знакомиться с искусством мировым — что было, что есть сейчас. Кто главный, кто нет. Кто крут. Мне очень хотелось все это знать. Потому что я, видать, наелся массовой культуры, лицом которой я, собственно говоря, и был. Я стал чувствовать, что новые увлечения влияют и на мое творчество. Я перестал писать простые песни. Голова моя начала по-другому работать, и я стал по-другому анализировать. Этот процесс стал чуть-чуть глубже. Мне хотелось подумать, поискать красоту во фразах, нотах, в воспроизведении этих нот. Я стал слушать больше музыки. Раньше я слушал ее очень мало. Не было такой необходимости. Что писалось, то и писалось. У меня, наверное, есть какой-то талант, я самоучка.
Акустика
В мае мы играли акустическую программу во МХАТе Горького два вечера подряд. Правильно, у всех акустика была, и у меня она должна быть. Рано или поздно все садятся за акустические инструменты. Это естественная потребность. Другое звучание песен. Есть такая культура. Нет такой культуры под бласт-бит электронных жестких бочек или баян сыграть концерт, а под акустику есть. Хотя баян у нас в этой программе присутствовал как акустический инструмент. Причем не электроаккордеон, а баян! С нами работал Рушан Аюпов, который, кстати, с Гариком Сукачевым играет. Электробаян — это большая редкость. Великолепно звучит, круто.
Мы выбрали песни, которые нам с ребятами хотелось бы поиграть в акустике, и сделали для них новые аранжировки. Поэтому у нас появились струнные, дудки, баян, перкуссия и женские бэки. Такое у нас было звучание. Но смысл песен от этого глобально измениться никак не может. Меняется лишь подача. Ну а как это возможно? Это если ты сделал кавер с другой подачей, красками, из грустной песни сделал веселую или наоборот? Мы так не делали. У нас если веселая песня, мы ее и оставили веселой. Можно сыграть ее в другом стиле. Но нельзя делать из грустной песни веселую. Это глупость. Вот, допустим, «Брюнетки и блондинки». Веселая? Можно сыграть как блатной шансон, но она все равно останется веселой, она не может быть грустной. Мы пересматривали аранжировки, но не коверкали смысл. «Дожди-пистолеты» такими и остались, только появилась другая эстетика. «Просто такая сильная любовь» забойная, но неожиданно хорошо легла в танго. Это стилизация. Но разве она стала грустной? Это кавер, переработка. Ироничная вариация. Песня не потеряла смысл. Она хоть такой, хоть сякой, если послушать текст, не потеряет своей ироничности. Ни при какой аранжировке вообще. Хоть самую серьезную, самую грустную музыку напиши. Но когда ты поешь «выпускные кончатся минетом» — какая тут серьезка, о чем грустить? Хочешь, чтобы она стала другой? Поменяй слова! Мы лишь сделали на некоторые песни дружеские шаржи.
Аранжировками мы занимались вместе с ребятами на репетициях. Сначала определили, какие песни можно сыграть в акустике. Какие песни сыграть нельзя, но мы все же хотим. Глупо играть тех же «Брюнеток и блондинок» на акустике — ту-ду-ду-ду! Будет странно и смешно. Она же такая вся жужжащая. Тогда как? Сделать другую аранжировку. Сделали. Не пошло? Да вроде нет… Составили список, стали думать, какой инструмент больше подойдет к той или иной песне — струнные, духовые, баян, перкуссия. Потом уже встречались с приглашенными музыкантами и репетировали. Такой был процесс.
Крым
Летом 2009 года я ездил в Крым к друзьям-художникам на Фиолент. Такое словосочетание прекрасное — «друзья-художники», правда? Володя и Маша Семенские, Миша Новокщеный, Александр Воцмуш… — там их целая деревня, поселение, бывшее садовое товарищество, которое называется «Муссон». Туда много приезжает людей из этой тусовки — галерейщики, художники, их друзья-товарищи. Володя с Машей давно купили в этом товариществе домик и летом там живут. Вот и меня пригласили:
— Приезжай в гости, отдохнешь, порисуем.
— А где я там жить буду?
— У нас там сдаются домики, есть соседка тетя Алла, она всегда сдает домик нашим друзьям.
И я поселился в этом домике у тети Аллы, дамы в возрасте. Не знаю, кто какие домики снимал в Крыму, но этот был типичный южный домик с удобствами на улице — деревянным туалетом. Тетя Алла устроила некую лаунж-зону за домом на участке с растущими фруктовыми деревьями, цветами. Там она сделала небольшой фонтанчик, выложенный голубой плиткой. Фонтанчик был с моторчиком — действительно водичка капает, электрический шнур в воде… Старое кресло под навесиком. А еще там была прекрасная ванная «комната» на улице среди деревьев, недалеко от туалета, к которой вела тропиночка. Старая ванна, бак с водой, умывальник, зеркало на дереве висит. Рядом с ванной кафелем выложено, а вокруг земля. Такая интересная жуть. Я даже это фотографировал.
Сам домик двухэтажный, но небольшой, с маленьким балкончиком. А соседом через забор у меня был Миша Новокщеный. Эти два участка расположены на краю скалы. Они стоят прямо над обрывом в море. Это, скажем так, первая линия. И с моего балкона открывался вид на море — красота неземная. Здорово, когда тебе ничто не загораживает панораму. Утречком я заходил к Мише. Миша собирался очень долго. Он все делает долго, такого склада человек — все забывает, теряет, он больше, чем другие, рассеян, где-то в метафизике своей обитает. Это все знают и все улыбаются. И вот я заходил к Мише, и пока это все раскочегарится, я рассматривал его работы, инструменты. Надо же чем-то себя занять в паузу — скучно ничего не делать.
Гитару я с собой не брал. А зачем она мне там? Я же рисовать туда ехал. У меня была установка: я еду в Крым к художникам, смотреть, как они живут и творят, а еще их фотографировать (взял с собой «Хассельблад», «Лейку» и цифровик). Собственно говоря, этим я там и занимался — привез потом много интересных фотографий из Крыма. В основном мы рисовали. А еще ходили на море, плавали с Мишей на Тигровый камень, где водятся мидии. В ластах и масках мы доплывали к этому месту — оно недалеко от берега, метрах в 200–250. Рвали этих мидий, потом дома я их чистил, готовил в вине по-нормандски. А Миша, не чистя, просто кидал на гриль — раскрывай и ешь.
Вечерами устраивали пленэры, писали с натуры. С моделей и предметов. Играли в такие вещи, как «дорисуй»: ты начинаешь, другой продолжает, третий заканчивает. Смотрели кино. Пили вино. Так и проводили дни. Ну и, конечно, творчество быта: я захотел украсить участок тети Аллы светом. Мы чуть ли не через день ездили в Севастополь в строительный торговый центр. Там я покупал разные лампочки и светящиеся шнуры, переноски и всякую хрень для иллюминации — все это барахло. Мы каждый раз выходили с доверху нагруженной тележкой, а ребята у входа смотрели на меня сочувствующе — ну, может, надо ему, а чё нет? И я вечерами украшал светом территорию. А то выходишь из дома, и темно, жуть! Ничего не видно, где там туалет. Поэтому я все там оформил, украсил деревья святящимися шнурами, по земле их проложил, дорожки разметил… Потом украшать у тети Аллы стало уже нечего, и я перекинулся на Мишин участок. Купил огромный дискошар. У Миши шашлычница на улице стоит: небольшой навесик, а под ним мангальная печка. Там у него висела просто лампочка. Я говорю: давай сюда повесим дискошар, он будет крутиться, и на участке станет красиво. И мы снова поехали в город, купили дискошар, а еще софт-бокс — это что-то вроде тряпки, которая рассеивает мягкий свет. В фотостудиях стоят такие. Я купил какой-то недорогой софт-бокс. Он и освещал красиво, и фоткаться можно было. Я сделал фотосессию ванны тети Аллы с диско-шаром… Ну, скучно же все время рисовать, бухать, фотографировать и сидеть на пляже. Тете Алле все очень понравилось. Но Миша потом половину декора забрал себе на участок, у него там очень красиво — персики, елочки. Он любит копаться в земле, покупает разные растения, пихточки, следит за всем. Он потом этими световыми причиндалами очень красиво украсил свою беседочку.
Еще мы расписывали Мише забор. Я рисовал какие-то веселые каракули. А потом мы рисовали кто что хочет, чтобы украсить наш импровизированный дискобар — Мишину мангальную. Я изобразил что-то с едой в стиле итальянских плакатов 50-х годов. Красные выцветшие цвета. Бутылка вина и стейк. И надпись «Фиолентпродукт». Повесили это творение Мише в мангальную. Мы все время развлекались. Допустим, ребята садились с натуры рисовать девушку, а я ходил и фоткал этот процесс, сам не рисовал, больше наблюдал за ними, я-то не художник. Мне было гораздо интереснее созерцать процесс их работы.
Это крымское путешествие дало мне больше какой-то свободы, чем навыков рисования. Я получил информацию, которая мне могла бы пригодиться. Мне было интересно там всё. Особенно наши долгие разговоры с Володей на темы творчества, в целом искусства. Каждый раз эти беседы приводили нас к слову «искренность». Ее нельзя никак оценить. Искусство — это способность вызывать ответные чувства. А чем ты можешь вызвать чувство? Либо шоком, либо искренностью, когда ты говоришь с кем-то о себе. Это не полотно и не песня с тобой говорит, а художник или автор. Не надо это разделять. Авторы, как и художники, бывают так себе, бывают хорошие, бывают гении. У всех великих творцов, если взглянуть на историю изобразительного искусства или музыки, есть то, о чем мы вели эти бесконечные ночные беседы в Крыму. Без этого ничего невозможно. Человек может иметь скверный характер, он даже может быть извращенцем или психически больным, но он будет творить, потому что ему это надо делать. Он не может это делать неискренне. Даже то, что Моцарт писал на заказ так легко, левой ногой, он делал искренне. А кто-то в муках сидит и что-то рожает. Но это уже не важно, это лишь технология.
Сейчас искусство шагнуло дальше полотна. Художник задает направление развития человечества вообще — всего того, что происходит с людьми. Это он показывает им новые грани и новые возможности. Это он определяет — не президент, не токарь, не пекарь, а художник придумывает то, чем будет жить человечество в будущем. Это серьезный вопрос, который больше относится не к искусству и даже не к политике, а вообще к мироустройству. Потому что художники — это те, которые знают больше и воплощают эти знания в реальность. И они, конечно, влияют на все. Видишь, до чего договорились!
2010
Серфинг
Мы идем на лодке по океану. Сейшельские острова. Над моей головой огромное, огромное небо. Оно все светится. Млечный Путь. Туманности. Очень красиво. Жутко красиво. Я никогда не видел столько звезд. Когда нет никакого светоотражения и ничто не мешает их наблюдать. Никогда не видел такого неба. Просто фантастика. И рыбы летучие, которые выпрыгивают из воды и летят. Волшебный мир. Хотя чего там — даже под воду не спускался, в космос не улетел. Внутри только восторг. И как бы все это запомнить? Вместить в свою память это нечто необъятное. У тебя угла зрения не хватает, чтобы рассмотреть это небо. У женщин, может, еще и хватит, а у мужчин нет. Легкое покачивание. Штиль. Я трезвый…
Что? Когда? Нет, тогда мне работать не хотелось вообще. Не хотелось, и все тут. Ничего не хотелось: ни писать песни, ни выступать. Ни фига. Хотелось отдыхать. Заниматься другими вещами: ходить по музеям, кататься на велосипеде, фотографировать… Жить для близких. Готовить еду, в конце концов. Выпить водки, половить рыбу. Что угодно. Только не работать. Я находил радость в других вещих. Когда я в первый раз встал на доску без помощи инструктора и учителя. Когда я сам забрался, встал и поехал на хорошей уже волне. Я понял, что могу теперь САМ. Я не боюсь! Я бог! Я стоял и всем махал: вы видели?!! Я спрыгнул, вернулся на берег и все еще спрашивал: нет, ну вы видели? Я один, без Вани поехал, без инструктора! И мне хлопали все сёрферы вокруг.
Мы много путешествовали с Мариной, решили посмотреть, что за остров такой Бали. Слышали отзывы разные: кому-то нравится, кому-то вообще нет. Потом мы поняли, в чем суть этого места. Кто стоит на доске, увлекается йогой, тому там кайфово. А те, кто любит пляжный отдых «все включено», — это вообще не их остров. Им в Турцию или Таиланд дорога, но не на Бали точно.
Мы приехали, увидели волны и больше ничего. Сняли виллу, в придачу к которой нам дали кучу рекламных проспектов и рассказали, что есть на острове, куда можно поехать и чем заняться, что посмотреть. Среди проспектов оказалась реклама русской сёрф-школы TakeOff. Мы решили попробовать. А чего страшно-то? Ты же видишь, люди катаются. Думаешь, круто — встал и поехал. Страшно стало немного позже. Мы пришли на урок, познакомились с ребятами. Сначала на берегу прошли теорию. Потом зашли в воду, и нас в пенке покатали. Нормально, весело, вроде неплохо. Потом уже подальше пошли. Начали уже отталкиваться, вставать.
Воды я не боюсь, но плавать по-взрослому научился недавно. Раньше незачем было. Я ходил заниматься в спортклуб, иногда плавал в бассейне, у меня спина больная, нужно ее расслаблять. Но плавал я там, как все бабушки в чепчиках — руками от себя отгребал, вертикально столбиком. Я вообще не любил плавать, потому что уставал быстро, а уставал из-за отсутствия техники. Там меня все время доставал тренер: «Роман, а вы не хотите научиться правильно плавать?» Я рявкал в ответ: «Нет! У меня нет времени!» Так продолжалось долго. Я лежал на воде, расслабляя спину. Но он все равно подходил и подходил. Молодец! Потому что однажды я сдался: «Ладно, черт с тобой! Давай попробуем разок!» И он довольно быстро меня научил. А тут еще и серфинг, как раз пригодилось.
Волна… Это преодоление себя. Та, что раньше казалась огромной, сейчас кажется не такой уж и страшной. А вначале я думал, что обоссусь от страха, даже отгребал иногда от волн. Мой инструктор Ваня говорит: «Нам нужно добраться вон в ту точку… Стой! Ты куда?!» — «Не, я лучше тут поплаваю, посмотрю».
Реально страшно. Я все время отплывал от мощных сетов — это когда приходит одна большая волна за другой. Все кричат: «Аут!» Это значит, нужно уходить в океан, чтобы тебя не накрыло. И я все время в этом ауте сидел, потому что очково. Но постепенно мне стало поспокойнее, улыбка на лице: думаешь, вот небольшая волна, и чего ты боялся? Нормально. Но в самом начале она казалась чем-то невероятно огромным. Дело в том, что ты же сначала лежишь на доске, не стоишь. Когда стоишь на досочке, аккуратненько съезжаешь, смотришь: два метра волна, ничего страшного. Плавно идет, ты проехал потихонечку. А теперь ляг и посмотри на эту штуку двухметровую. Очень страшно! Нужно найти место, чтобы хорошо стартануть, нужно быть на самом пике, иначе волна тебя накроет и перевернет или пройдет мимо, и ты не успеешь на нее встать. То есть тебе нужно подогнаться под волну в место, где самый пик ее обрушения. И я, даже зная, что нахожусь в правильной позиции, все равно отгребал назад и выходил за аут. Страшно было: «Нет-нет, не поеду, блядь!» Вот это самое прикольное — преодолевать. Потом уже думаешь: ну и чего там страшного было? И так все время.
Выходишь с ребятами на берег и счастлив, что все живы. Это адреналин. В моей жизни его достаточно, мотоциклы я не вожу, с крыш не прыгаю, паркуром и бейсджампингом не занимаюсь. Только серфинг. Раньше такие же ощущения приносили аттракционы, когда летишь на какой-нибудь гусенице в Луна-парке. Но это другое, это отдыхательно-развлекательное, а серфинг — это спорт.
Париж
Затыки в работе бывали и раньше, и тогда я уезжал в творческий отпуск. За новыми эмоциями, впечатлениями, информацией — за вдохновением. Вот, уехал в Париж на месяц. Снимал там квартиру у знакомых, иногда тусил вместе с нашей подругой Сарой, ходил с ней в бистро, но большую часть времени я сидел на чердаке в центре квартала Марэ, пил вино, бренчал на гитаре и курил.
Изредка я тусил там с русскими знакомыми. А когда один, я был крайне скромным и тихим, меня было незаметно в городе. Гуляя по Парижу в одиночестве, я иногда даже стеснялся зайти в магазин и купить сигарет, пообедать в ресторане, который мне понравился. Обычное стеснение. Там, где я с местными был немного знаком, вот туда я и приходил поесть или что-то купить. Может, отчасти это и языковой барьер, но ведь всегда можно жестами все объяснить. Дело в какой-то моей интровертности. Стремно подойти и чего-то спросить, узнать цену. Даже до таких мелочей доходило. Что-то понравилось в витрине, а зайти и спросить не решаюсь — ладно, обойдусь. И дальше пошел. Я не такой: «Эй, девочки парижские! А не хотите ли с русским парнем вечерком откушать на набережной шампанского?» Я просто ходил, смотрел, представлял себе что-то, думал. Мне бы и хотелось с кем-то пообщаться, но было не с кем.
До этого я, конечно, бывал в Париже. В первый раз, когда мы приехали туда с концертом. От организаторов нам помогала девушка Рената, она родом из Риги, в свое время перебралась в Париж. Привезти-отвезти, транспорт, поселение в гостиницу — обычная работа администратора. Помню, после концерта она привозила нам пиво на своем мотороллере. А вообще Рената работала в парфюмерном бутике в квартале Марэ, его хозяин родом из Москвы. Леша — настоящий профессионал своего дела, разбирается во всех тонкостях, знает современных парфюмеров, а не тех, чьи духи лежат в duty free. Он сотрудничает больше с мастерами, у которых есть свои маленькие предприятия, которые делают свои нишевые ароматы, изредка работая по приглашению больших домов. Скажем так, парфюмерия haute couture. У меня несколько ароматов. Допустим, есть такой парфюмер Оливье Турбано, он создал коллекцию с ароматами камней. У меня есть «Турмалин» и еще какой-то очень тяжелый. Да, запах, конечно, сильная вещь, что тут говорить!
Так как Рената работала в этом магазине, я зашел туда и познакомился с Сарой. Сара — парижанка, француженка, которая очень хорошо говорит по-русски, изучала язык в институте. Тогда ей было лет 17. Потом начала работать в модных домах, начиная Yves Saint Laurent, заканчивая Lanvin, — она владеет русским, а русских клиентов в Париже много. Я пригласил ее к нам на концерт, мы подружились. Позднее, когда приезжали с Мариной на День музыки, тусили все вместе. Но это уже было в последующие приезды во Францию. Сара, кстати, приезжала к нам в гости в Москву. У нас бывали веселые посиделки с шампанским, мы долго учили ее произносить русское «ы», в конце концов научили. Сыыыыыр! А у нее все время какой-то сиииир получался. Сара, какой сир!
А тогда это был мой первый раз в Париже. Впечатления — хорошие. Эйфелева башня торчит отовсюду. Елисейские Поля, Риволи, Лувр, Нотр-Дам, Монмартр… Мы с ребятами, конечно, все обошли, сходили в кабаре «Crazy Horse». Картинка совпала с ожиданиями. Разочарования не было. Поэтому в Париж мы стали ездить часто, раза три в год.
Когда я решил провести там творческий отпуск, я обратился к Саре: «Давай найдем мне квартиру в Марэ, где-нибудь недалеко от бутика». Оказалось, что как раз в тот момент Рената, которая поблизости снимает жилье, на какое-то время уезжает и ее квартира будет пустовать. Там я поселился на этот месяц. И расслабился. Иногда было лень даже спуститься за едой. Как? Очень просто: сидишь в квартире, пьешь вино, куришь траву, играешь на гитаре. Просто пойти и купить еду лень, а уж в ресторан пойти тем более. Заказать пиццу — не мой вариант, я и в Москве таким не занимаюсь. Ничем не питался, шампанским. Нет, я питался… Я жил в очень старом еврейском квартальчике еще 1300-х каких-то годов. Там на углу улицы Рози и еще какой-то улочки есть две лавочки, где делают самый вкусный фалафель на свете. Два заведения друг против друга на одном пятачке. Местные знают, что если хочешь съесть вкусный фалафель или шоарму (они так шаурму называют), надо идти туда. Там всегда стоит целая очередь, а на выходных человек до пятидесяти бывает. Очень вкусно! Стоит пять евро. Я выглядывал в окно, смотрел, есть ли очередь. Если народу было мало, спускался, брал этот фалафель и поднимался обратно в квартиру.
Когда мне было скучно, я шел в парфюмерный бутик и глазел там на происходящее. Туда приезжала с учебы Сара, мы начинали отмечать. А вечером закрывался магазин, приходило много местных русских, и мы всей компанией шли ужинать или просто выпивать на набережной Сены с видом на Нотр-Дам. Конечно, я там не просыхал. Но ты же понимаешь, когда находишься в регионе, где делают алкогольный напиток, ты не можешь его не употреблять. И переносится это гораздо легче. Если бы я пил столько шампанского в Москве, точно бы умер. А там другой воздух, другая вода, другая еда. Поэтому наутро голова особо не болела. Чудесно! Ты выпиваешь бокал белого винца за обедом, и уже через два часа никакого хмеля нет, ты можешь пропустить еще стаканчик. Что мы и делали: начинали часа в два-три дня, а к двенадцати ночи расползались, бывало и позже, по-разному, смотря какие компании собирались. В основном были девочки.
К Леше в бутик часто приезжают сами парфюмеры, чтобы представить свои новые коллекции. Они рассказывают о своих ароматах, гости пьют шампанское. Так что у меня была возможность наблюдать за очень известными мастерами. Ну и вообще за разными интересными людьми. Допустим, Гальяно мог зайти. Гальяно как Гальяно, ходил по бутику, искал свечку, которая пахла бы, как старые книги. Наверное, что-то нашел. Ничего такого блистательного в этом не ощущалось. Понятно, Париж. Было не буднично, но естественно и красиво. Это просто иная культура, очень старая. И ты сам хочешь выглядеть органично этой среде. Хочешь ходить в такой же одежде, так же непринужденно сидеть на набережной и спокойно пить вино с багетом или клубникой, потому что никакая полиция к тебе не подойдет, ни у кого даже не возникнет вопроса. Ты впитываешь это в себя и впитываешься в это сам. Расслабляешься и тем самым что-то приобретаешь, начинаешь понимать, как живет другой народ, о чем там шутят, какой быт…/p>
В бутик приходили и русские экспаты. Среди них был прекрасный человек по имени Саша: он хорошо готовил, у него была своя поваренная книга, он великолепно разбирался во французской кухне. Знал такие соусы, которые даже не все французы знают. Настоящий фанат кулинарии. Саша рассказал мне несколько рецептов французских блюд, и я их там у себя в квартире готовил. В основном по рецептам с вином. Ну, там соусы разные. Для соуса ведь немного надо, стаканчик. Пока готовишь, бутылочку и выпиваешь. Но ведь так готовят все нормальные люди, правда?
В Париже я впервые попробовал луковый суп. Я ненавижу лук. Но все едят этот суп, и я понимаю, что, видимо, в этом есть что-то такое, что заставляет людей есть этот чертов луковый суп. В принципе я ем любые первые блюда, борщи, например, я употребляю бульон и другие ингредиенты, а лук просто откладываю. Поэтому я предположил, что легко смогу съесть гренку с сыром и запить бульончиком, что я и сделал. Мне очень понравилось. Но лук я по-прежнему не ем.
Я немного учил французский в начальных классах, потом переехал в другой город, там французский не преподавался, английскому меня тоже не захотели учить, сказали, с тобой все понятно, поздно. Есть учителя, которые плюют на свои обязанности. Поэтому французский был у меня только первые три класса. С Сарой мы учили друг друга: я объяснял ей смысл каких-то русских слов, оборотов, которые она в институте никогда бы не услышала. А она учила меня необходимым фразам в быту. Как заказать белого вина в ресторане? Je voudrais du vin blanc, s’il vous plait, monsieur.
Из Марэ я практически не выходил, никаких прогулок бессмысленных не было. Мне и Марэ хватало всегда — там есть все и все рядом. Переходишь Риволи, метро «Сен-Поль» и попадаешь на остров. А там тоже все есть. Кабаре, где можно музыку вечером послушать. Время от времени мы приезжали в другие районы Парижа, ведь так много ресторанов и хочется разной еды. Либо я ехал в какие-нибудь особенные места. Допустим, захотелось посетить кладбище Пер-Лашез. Съездил, посмотрел, побродил, пофоткал. Или на Монмартр, где все вангоги жили, погулять по тем квартальчикам. Словом, отдельные вылазки у меня случались. Есть у меня в Марэ любимое место — набережная Орлеан, остров Сен-Луи. Там неподалеку продают самое вкусное мороженое в Париже. Мы приходили вечером на набережную, когда она вся усеяна людьми. Сидят, ноги свесили и винишко попивают. У меня куча фотографий отсюда. Отличный вид на Нотр-Дам. Самое прикольное место в городе.
Так что мой творческий отпуск в Париже был то уединением, то общением и погружением в другую культуру. Новых песен я там так и не написал, может, наброски делал. Но припомнить их я не могу. Мне кажется, «Никуда не надо» написана под впечатлением от моей парижской жизни. А иначе откуда такая песня могла у меня взяться? В Париже я прожил, наверное, месяц. Этого времени оказалось достаточно. Надо было возвращаться в Москву, к работе. Тем более я понимал, что особо творчество там не идет. И чего тогда ждать? Надо дальше что-то делать. Париж я пофоткал, потусить потусил, на гитаре побренчать побренчал. Все, хватит.
Протест, совесть и медные трубы
Я вообще максимально ограничиваю общение с людьми. Наверное, чему-то в ущерб, но мне так удобнее. Мне же хочется о хорошем думать, верно? И когда я с ними не сталкиваюсь, я о них думаю хорошо. И мне от этого спокойнее живется, увереннее. Но когда все же приходится общаться, я вступаю в конфликт, мне начинает очень многое в людях не нравиться. Мне не нравится культура общения людей между собой, точнее, бескультурье. Сталкиваюсь с этим в магазине. На улице. В банке. В ресторане. В гостинице. В кинотеатре. Я чаще в музеи и театры хожу, там пока все хорошо… Есть много вещей, которые мне не нравятся, но я не хочу ничего доказывать и бороться, тратить свои силы. Меня расстраивает низкий уровень понимания себя в обществе у нашего среднестатистического человека, его нежелание что-то сделать для улучшения жизни вообще. Я с таким человеком могу столкнуться, допустим, в каком-нибудь госучреждении, куда пришел за справкой для ребенка. И тут же происходит конфликт. Потому что они сидят и «никого не трогают», а я пришел их трогать. Но я всего лишь прошу то, что положено. Но их реакция: «Нет, чой-то так просто? У нас тут иначе заведено. Ишь ты! Решил тут сейчас все перестроить! Реформатор, что ли? Гайдар?» И плюс еще лицо мое известное. Сразу говорят: зазнался, звездная болезнь, смотрите, что себе позволяет… Но что-то должно же измениться когда-нибудь? Вообще не бывает тупиков безвыходных.
Революцией ты ничего не решишь. Это в головах. В головах революция должна произойти. Я не верю в какой-то особый русский путь: наш человек такой, и это не изменить. О чем говорит русская культура? Вообще, примеры русской культуры где? Здрасте — Чайковский! Давай спросим, кто слушал Петра Ильича и может отличить второй фортепианный концерт от первого? Это наша культура? Достоевский с Гоголем, Пушкин с Толстым? Это бывает только в школе, когда человек вообще не понимает, что он читает. Зачем? Вопрос! Видишь, как много вопросов у меня к этому миру. Но, наверное, так и должно быть сейчас. Как и то, что мне это не нравится, не вдохновляет. А вдохновляет какое-то движение, результат. Это и радует — когда ты видишь изменения. И хочется быть полезным своим творчеством.
У «Зверей» никогда не было социальных текстов, мои песни про любовь. Ну и что, что я вырос? Любовь-то осталась. Пусть людей, кроме любви, волнует куча проблем, меня тоже. Но петь надо о том, что ты хочешь, что тебе приятно. Мне петь что-то социальное — нечестно? Это почему? Вовсе нет, просто мне не хочется. Это то, что параллельно идет. Я наблюдаю, участвую, но не пишу об этом. Ну да, рок — протест. Рок-н-ролл — это музыка. Достаточно подвижная, танцевальная, зажигательная. Чтобы молодежь танцевала, крутила частями тела — вот это рок-н-ролл. Все, что сопутствует ему, — это другая история. А история русского рока и история российской музыкальной культуры — третья. О чем мы вообще будем говорить?
Нет, я не последняя инстанция, что ты! Это только мое мнение. Я ни на что не претендую, я эту фазу прошел — медные трубы. У меня был тяжелый период. Точнее, я его сам пропустил, а Марина заметила. Это происходило после «Олимпийского» и чуть дальше, в течение нескольких лет. Сейчас вроде не жалуюсь. Но тогда, она мне рассказывала, я часто мог загнаться в быту: «Я звезда, типа не трогайте меня, я прав и лучше знаю!» Так я мог сказать и Марине. Она дословно мне мои «выступления» не пересказывала, но я примерно могу догадаться, как мерзко это выглядело со стороны. В каком-то пьяном угаре я легко мог что-то ляпнуть. Про какой-то успех, про особенный статус. Но я этого не помню, пьяный был в такие моменты. Мне за это очень стыдно и перед Мариной, и перед другими людьми, кто на себе испытал мои загоны. Теперь я, конечно, не позволяю себе подобного. Я считаю, что хорошо справился с медными трубами. Но это я так думаю, а ведь кто-то может не согласиться?
Сейчас я стыжусь вещей, которых люди даже не думают стыдиться. Допустим, если я сижу в самолете, а мой сосед грубо разговаривает со стюардессой. Не я хамлю, но почему-то стыдно становится мне. Это вроде бы безвредный повод, но не для меня. К некоторым вещам я отношусь гипертрофированно, с перебором. Мне почему-то все время страшно опозориться. А как опозориться, даже непонятно. Как можно сейчас опозориться? Чтобы сфотографировали голым с другой женщиной? Но если это произошло и фотка сделана, значит, был какой-то посыл?
2011
«Музы»
Мне вообще не хотелось больше делать цветные классические обложки с изображением группы. Сколько у нас ни было фотосессий, всегда так: у музыкантов странное выражение лица, каждый смотрит кто куда, Макс всегда сторонится, и только один Миша улыбается. Я решил, пусть «Музы» будут вообще без лиц. «Музы» без ничего. Белый квадрат с двумя словами «ЗВЕРИ МУЗЫ». Это связано еще и с моим увлечением фотографией и изобразительным искусством. Обложка с лицами напоминала бы мне аляпистые CD-сборники типа «Все хиты этого лета». Мне не нужно с помощью какого-то изображения донести дополнительную информацию, отвлекая людей от главного. Лицо я свое на обложке не хотел. Нет уже такой необходимости его рекламировать. Да и слишком примитивно — и так понятно, что это «Звери». Самым простым решением было ЧБ, графика. Вот такой концепт придумал я, а потом подбирались шрифты и компоновка, чтобы оформление было нейтральным, но при этом со вкусом. Можно ведь было написать и жирными большими черными буквами во весь желтый квадратик, да? Так пишут обычно на уличных афишах.
Музы… Музы накрывают меня, я накрываю муз. Нет, накрываю не как ладонью бабочку, а в значении настигаю, одолеваю. Они накрывают меня, а я даю обратку: они меня — я их. Музы приходят, уходят, а я остаюсь. Ты все равно остаешься тем, кто ты есть, ты — то, что заложено в тебе изначально. Надеюсь, «что ты понимаешь меня», зачем «мы уходим на дно» — уходим с экранов цветных мониторов, от того, чем когда-то были «Звери». Фраза «Солнце за нас» — это Бондарев. А моя идея такая: когда ты не играешь в игры с совестью своей (а в моем понимании совесть — это и есть бог), когда ты уверен в том, что ты делаешь, в своей правоте, тогда неважно, кто против, пусть даже все. И даже если в итоге окажешься не прав, нормально — это жизнь. Если человек искренне верит во что-то, он уже победитель, считай. Смысл в том, что неважно, кто и что тебе говорит, неважно, кто с тобой за, пусть даже никого не будет — ничего страшного. Солнца в моих песнях действительно много. Это же свет. Солнце светит ярко, луна — нет, звезды где-то мерцают и падают. А солнце вот здесь, рядом с тобой. Я — солнечный человек.
«Кнопки» — очень древняя песня. Это какой-то бой с тенью у меня. Я все время с женской тенью борюсь. Вот и здесь все тот же бой, только уже конкретный, контактный. «Хочу тебя»? Видишь, я не перестал писать «песни самца», как Войтинский предрекал. И «Мики» такой же. Это о собирательном образе девочки-тинейджера, которая грезит о каком-то волшебном принце. Где насобирал… На гастролях, видимо. Но я-то для такого уже старый. Поэтому «я согласен все это слушать, как ты напеваешь эти песенки в душе. Ты любишь музыку электронную. А мне непонятно, что в ней прикольного…». Но? «У тебя на маечке злобный Микки-Маус. Он сегодня будет валяться у твоей кровати…» А вот эти строчки — «Вместе с сигаретами, вместе с телефоном, фантиками, кольцами и моим бурбоном…» — почему-то у меня ассоциируются с Майком Науменко, с таким легким донжуанством, был в этом такой свежий понт. Помнишь «Прощай, детка, детка, прощай!»? Моя сладкая N…
Да я и не спорю, таких легких песен стало меньше. Ну как почему? Ты сама же все понимаешь, почему сейчас такого нет. А зачем было бы? Сейчас все другое. Нет в этом необходимости. Было бы хуже, если бы я писал сейчас только такое. Это говорило бы о моем неразвитии, о топтании на месте. Мне нужен вызов, вызов как реакция. Поэтому «Никому». Это не мой текст, Вити Бондарева, но его слова подошли под мое состояние: «Никому не прощай, нас никто не прощает».
Друзья и коллеги
Я открытый и добродушный человек, легко все принимаю, что мне говорят, я людям верю. Поэтому я не хочу с ними общаться, они врут все время. Я хочу быть с теми, с кем у меня даже мысли не возникало бы, что мне говорят неправду. Я просто не хочу быть обманутым. Мне это приносит большую боль.
Когда-то я мог приехать к Саше Войтинскому. На тот момент мы были очень близки, интересны друг другу. Мы делали общее дело без оглядки. В таких условиях люди хочешь не хочешь подружатся. Я и сейчас могу ночью к Саше приехать и сказать: «Меня осенило». Это относится к творчеству, но переживания и есть часть творчества, причем неотъемлемая. Вся наша жизнь — творчество, и ты в ней художник. Так что мой гипотетический приезд к Войтинскому — тоже творчество. Это то, что происходит со мной и влияет на конечный продукт моего творчества. И то, что может быть толчком для создания этого продукта — неважно, песня ли это, фотография, фильм, картина. Где-то ты это осознаешь, где-то неосознанно творишь, но в конечном счете это все творчество. Все подчинено ему. Для меня приемлемо такое определение: жизнь есть творчество. А кто-то считает, жизнь — это тяжелый труд. Или развлечение, любовь, продолжение рода — что угодно. Просто в моем понимании жизнь есть твой творческий путь — что сделал, то сделал.
Являюсь ли я другом кому-то сам — интересный вопрос. Возможно, являюсь, сам того не понимая. Я просто не могу не доверять людям. Любое обращение за помощью, за сотрудничеством, за разговором — пофиг за чем, любой контакт со мной — я всегда отношусь к человеку, как к себе. Я принимаю его равнозначным себе, для меня он является нормальным, хорошим человеком. А потом, когда начинает что-то происходить или не происходить, я понимаю, насколько он хороший или плохой.
Тяжело за других говорить. Тут за себя иногда не можешь сказать ничего. Но как они меня видят, мне жутко интересно было бы узнать. Как воспринимают близкие люди, соратники, друзья-товарищи? Какой я для них? Я только примерно могу представлять, а для объективной картины они сами должны рассказать, кто я для них, какого я цвета, какие ассоциации со мной возникают, за что любят, каков мой портрет их глазами? Может, человек занял у меня денег и годами не отдает. Вот он считает меня другом, потому что я терплю и не прошу вернуть. А он для меня уже не друг — вот такой парадокс.
«Звери» для меня в основном соратники. Когда ты много времени проводишь с человеком, вы получаете с ним общий опыт. Исходя из этого общего опыта мы можем называть себя друзьями, но в целом мы коллеги. У нас есть субординация, у всех есть свои увлечения, взгляды на жизнь, мировоззрение, свои заморочки. Мы не встречаемся в свободное от работы время. Дни рождения отмечаем иногда вместе.
Отсутствие друга для меня не такая большая проблема. Просто мне часто бывает одиноко. Мне хочется поговорить с кем-нибудь, кто понимал бы меня и разделял мои позиции по поводу всего. Хотелось бы побольше разговоров о творчестве, искусстве. Это и есть жизнь. Не хватает общения с такими людьми, которые вдохновляют и дают тебе информацию, толчок, заставляют тебя думать, придумывать что-то новое.
Я заметил, что люди из поп-музыки добрее рок-тусовки. Это видно даже по радиостанциям. На гастролях перед концертами ездим по эфирам. Допустим, информационный спонсор концерта «Европа плюс». Заходим где-нибудь в Ростове-на-Дону в их офис: девочки-секретарши улыбчивые, кофе-чаек-печеничко. Светлое помещение, стены красивыми плакатами украшены, все бегают, работают. А теперь «Наше радио»: обычно мрачный подвал, а даже если и не подвал, то всегда угрюмость, везде прокурено, никто тебя не встречает, никому ты не нужен. Сидит какой-нибудь ведущий и самовыражается. Нажимает на кнопку, включает, выключает. Больше никого. Его все достало. Он великий, а ему приходится тут работать, потому что приехала группа «Звери» и нужно эфир провести. Когда на «Европу плюс» приезжаешь невыспавшийся, они тебя сами подбадривают, ты чувствуешь, как у тебя и настроение, и состояние улучшаются. А «Наше радио» как будто бы соки из тебя пьют.
Мне нравится, с каким достоинством ведут себя многие взрослые поп-артисты. У нас был случай с Валерием Меладзе. Это было еще в то время, когда мы ходили на «Золотые граммофоны». Было шоу в Ледовом, в Питере. «Звери» делили гримерку с братьями Крестовскими и Меладзе. Это был как раз единственный случай, когда мы были пьяными на мероприятии. Правда, мы там и не играли. В чем сошли с поезда из Москвы, в том и вышли на сцену за наградой. Я в пальто, Костян в пуховике и с чемоданом кожаным. А там же Алла Борисовна… И вот мы под фонограмму весело походили пьяные по сцене. Не то что пьяные, просто я сказал: «Ребят, давайте сейчас выйдем на сцену, а потом уже выпьем спокойно в гримерке». Ну и выпили. К тому моменту, когда в гримерку зашел Меладзе, Макс Леонов разливал водку уже по полу, ему башку немного снесло: он мазался жидким мылом из рукомойников, показывал некий стриптиз — безобидные наши развлечения, которые абсолютно никому не приносят ущерба. Валерий, у которого в общей гримерке была небольшая отдельная комнатка, поздоровался со всеми: «Здравствуйте, я Валера. Я хотел бы с вами познакомиться, выпить попозже, а сейчас я должен сесть на грим». И тут Максим Викторович сморозил: «Загримироваться под Годзиллу?» Он это не со зла, конечно, просто это такой обычный наш звериный язык. И меня тогда очень удивило, что Меладзе не обиделся, адекватно отреагировал на подпитых людей. И музыканты из «Uma2rman» тогда быстро нашли общий язык с музыкантами «Зверей» и бухали вместе, а вот у братьев Крестовских, видать, тогда было такое настроение. Сидят, бормочут типа «Хватит пить, а то в переходе играть будете». К Марине с вопросами докапывались: «Девушка, вы кто, что вы делаете в гримерке?» Зато потом мы с Крестовскими хорошо задружились, какой-то Новый год праздновали все вместе в Красноярске на гастролях. Мы попросили предоставить нам в гостинице холл — у них там стояли колонки, микшерский пульт, усилитель. Крестовские притащили гитару, я свою, взяли два микрофона, и все вместе пели. Я подыгрывал Вове, Вова — мне. Все передавали друг другу гитары… А потом, когда нужно было уже ехать в аэропорт, нас забрали прямо из холла, где мы тусили до самого утра. Отличный был Новый год у «Зверей» и «Uma2rman».
2012
Германика
Вообще, женщины-режиссеры… Начнем с того, что их меньше, чем, скажем, балерин. Мужчин-режиссеров гораздо больше. Да, this is the man’s world — мир мужчин. И поэтому присутствие в этом виде искусства любой женщины уже интересно. Мне не так важно, кто в театральной программке будет значиться — Вишнева или Лопаткина. Обе хороши. А женщина-режиссер — это редкость. Но я ни в коем случае не хочу принижать роль балета. И мужского шовинизма по отношению к женщинам-режиссерам у меня нет. Он у меня в быту проявляется. Женщина не может заниматься мужскими делами. Она может, но зачем, если мужчина есть?
Есть такие вещи, за которые должен отвечать мужчина. Я не против, если есть желание и потребность, — пожалуйста, делай.
А женщины-режиссеры… Она же женщина? Лера? Я и говорю о том, что это редкость, Лера — редкость. Это не определенный женский тип, это определенный образ мышления, поведения. Если ты сможешь организовать вокруг себя команду, ты и есть режиссер кино. Значит, ты обладаешь теми качествами, которые позволят тебя заразить всех своей идеей, и все будут на нее работать. Ты знаешь, как ее воплотить. Ты ее видишь, чувствуешь, понимаешь, как надо делать. Это и есть режиссер. У Германики это все есть.
Я познакомился с Лерой давно, когда она снимала «Все умрут, а я останусь». Она обратилась за помощью к Войтинскому — ей нужно было получить разрешение использовать песню группы «Звери» в своем фильме. Тот посмотрел фильм и ответил Лере отказом. Ему не понравилась картина. Он ведь у нас такой моралист. Саша — правильный плюсик. В фильме как раз есть много про мораль, но то, как оно преподносится, ему и не понравилось. Потому что он сам не без греха. Но при этом очень любит учить других людей, как надо жить. В то время у Саши в жизни происходили интересные катаклизмы. Он отходил от музыки, был начинающим режиссером, а тут режиссер Лера Германика, с дредами бегает девка, просит песню для своего фильма. А он же пожил, академик рекламы. И Саша прочел ей лекцию о ее же кино, понимаешь? Лера поняла, что здесь ничего не светит, и решила выйти на меня. Я попросил показать хотя бы отрывки, где будет использоваться моя песня. Я посмотрел: «Классный фильм, берите!» Я не думаю, что Саша обиделся на то, что я предоставил ей право использовать трек после его отказа. Это же моя песня, мое решение. Мы даже не говорили с Сашей о Лере долгое время. Он года четыре от нее шарахался. Я говорю: «Саш, да нормальная она!» А он: «Фу!» — и смотрел презрительно.
Познакомился я с Лерой уже год спустя, после премьеры фильма. Когда ее картина неожиданно стала получать призы на кинофестивалях и все заговорили о Валерии Гай Германике. Она собиралась повезти фильм на очередной фестиваль в Крым. Во-первых, она хотела со мной познакомиться, а во-вторых, что-нибудь замутить вместе в качестве промо, чтобы я сыграл на премьере. Из серии: вот кино и его режиссер, а вот саундтрек и его автор. И вот мы с ней встретились. Я подарил ей свою книгу, она подарила мне свой фильм, который я целиком к тому моменту еще не видел. Я посмотрел и, как бы это сказать… немного прифигел. Абсолютно другой эффект оказался, нежели от тех отрывков. Нет, я ни в коем случае не пожалел, просто я понял, в каком контексте она взяла именно «Районы-кварталы». Никто бы не стал танцевать под другую песню, а под эту плясали все. Я понял, что она взяла мой трек не потому, что я сам такой рок-звезда, не для привлечения дополнительного внимания. А чтобы в кадре у нее все выглядело естественно. Только поэтому. Люди отказывались у нее плясать на съемках под H.I.M., или что там еще было популярно на тот момент? В этой сцене на дискотеке они расслаблялись и начинали естественно жить в кадре именно под «Районы». И Лере было все равно, чье это творчество — Ромы Зверя или дяди Васи. Она как режиссер сделала выбор. Моя песня была для нее всего лишь инструментом.
С фестивалем в Крыму у нее ничего не вышло: организаторы оказались какими-то левыми, все обломалось. Но с Лерой мы стали общаться на почве какого-то взаимного интереса друг к другу. Лера тогда была в поиске, скажем так. Ей хотелось… она только входила в этот мир шоу-бизнеса. И ей нужно было все. А тут Рома Зверь. Германика же гречку ела в подворотне, как я в свое время — ни денег, ничего. Ей во что бы то ни стало нужно было найти выход на этот мир известных людей, мир связей, денег. Надо было имя свое зарабатывать. Тем более что тогда фильм пошел по фестивалям, о ней заговорили. И Лера нашла во мне какую-то опору, друга. Положилась на меня и все время со мной шла. Я помогал ей всем, чем мог. Проблемы с любовью опять же…
Она же тогда любовь очень искала, мужика. Она хотела найти себе парня-музыканта, чтобы жить с ним и любить его. Поэтому она решила знакомиться с музыкантами. Познакомилась практически со всем русским роком. Я ей говорил: «Лера, ты не там ищешь!» Я пытался ей объяснить почему, но было невозможно. Она мучилась, страдала: «Рома, что мне делать, он опять пьяный, я не могу тянуть это все. Я его люблю, а он, скотина, не понимает, опять нажрался, вокруг него тараканы, пауки и мухи, спаси меня, приезжай!» Или сама заваливается пьяная в соплях и плачет: «Меня не любит никто, все скоты!» Я был ей как подруга рядом во время этих походов в поисках мужчины, любви, тепла обычного. Ее никто не любил, не воспринимал как женщину. Да она и выглядела тогда достаточно странно и вела себя так же. Подростковая фигня — эй, ты чё, дебил, бля, козел! А мне прикольно, я люблю таких, для меня женщины — друзья самые настоящие. С ними здорово!
Германика казалась оторванной панк-телкой, которая была крайне свободна, потому что у нее ни хрена не было. Ее позиция была воинствующая, она очень агрессивно вела себя. Особенно по отношению к мужчинам. Пребывая в поиске, достаточно смело и дерзко общалась со всеми представителями мужского пола. «Эй, мальчик, налей мне шампанского. Да ты трус, слабак!» — бросала она людям в лицо. Слишком много агрессии, которая была для нее как защита. Вряд ли она понимала, что таким поведением мужчин не заинтересовать. Она пыталась обратить на себя внимание эпатажем. У нас часто случались посиделки, попойки в «Жан-Жаке». Было несколько моментов, когда мы сидели в кафе, туда приходили люди, здоровались с ней (какие-то кинокритики, режиссеры), и она могла легко любому сказать в лицо все, что она о нем думает. Ее побаивались, она была очень скандальная.
В том-то и дело, что глубоко внутри она и белая, и пушистая, и ранимая, а весь этот эпатаж — обыкновенная защита. А лучшая защита — это нападение. Германика на самом деле тонкая. Она могла заплакать в любую секунду, сказав, что любви нет, а она принцесса, и ей хочется настоящей большой и чистой любви. Светлой, платонической, чтобы прикасаться друг к другу, стихи читать… Вся эта ее внешняя агрессия была лишь защитой. Она была готова обосрать любого, послать вслух на хуй. Когда у нас случались загулы и она на кого-то наезжала, мне нередко казалось, что сейчас мне наваляют. Потому что я с ней и, значит, должен отвечать за ее слова. Реально было очково, уже порой жилы тряслись, думаю, все, надо сейчас «розочку» бить и на хуй сваливать отсюда. Но все это проглатывали и просто млели от недоумения от такой ее резкости, и прокатывало. Но патовые моменты случались, я сидел и думал: «Лера, ну что же ты делаешь! Зачем?» Вроде неплохой человек, а она его с говном смешивает. А все сидят и не знают, что делать. С одной стороны, это очень прикольно, у нас же все лживые и двуличные, никто никому никогда не скажет такого в лицо. Даже если это правда. Все друг другу улыбаются, а потом за глаза говорят: «Да он же говно полное!» А она прямым текстом выдавала — это, видать, всех возмущало, но никто не мог ничего с этим поделать. Может, кто-то и обижался. Но она жестко троллила, оскорбляла людей.
И меня оскорбляла. А как же! А так: «Ты мой мальчик, малыш, ты мой плюсик. Такой позитивный, хороший. Ты плюсик, Ромочка». Меня это не особо трогало, потому что я и без нее знаю, плюсик. Но просто когда тебе человек повторяет это несколько раз подряд, это было немного… Я понимал, что она меня троллит и мы может друг другу говорить все что угодно, потому что у нас очень теплые, близкие отношения, и со мной это не особо работало. Она знала меня как человека, ей было важно иметь такого друга. Потому что я, как ни крути, действительно плюсик и умею дружить, люблю это делать и готов помочь в любую секунду. У нас не было такого, чтобы: «Ой, я сейчас занят». Если у нее была проблема, она могла мне позвонить и сказать: «Рома, мне плохо, приезжай». И я приезжал. И она приезжала. Такая была дружба.
Однажды, пару лет назад, после очередной попойки в «Жан-Жаке», мы приехали ко мне домой. Было достаточно поздно. Что-то там пили. Она мне все плакалась, что все не так и все не то. Я говорю: «Лера, давай я тебя пофоткаю». Я зарядил фотоаппарат, она чего-то мне там параллельно рассказывала, я отщелкал пару пленок. Просто мне хотелось ее запечатлеть именно такой, какой она была в тот вечер, сделать портреты. Она была расслабленная, пьяная, возлежала на диване… Утром она проснулась в гостиной, я говорю: «Лера, у меня сегодня премия „МУЗ-ТВ“». А она такая: «О! Я очень хочу пойти, я никогда там не была! Можно мне с тобой?» Я подумал, почему бы и нет? Пошли! Она в чем была, в той одежде и пошла. Она просто не снимала ее с прошлого дня. А в холодильнике стояло шампанское… Был примерно час после полудня. Мы бухнули на старые дрожжи и стали собираться на премию в «Олимпийский». Я нарядился в какой-то пиджачок… Перед мероприятием мы заехали в магазин, где купили еще две бутылочки просекко по 375 мл, небольшие, чтобы было удобно с собой носить. И к шести часам вечера приехали вместе на ковровую дорожку. Там были «Звери», которые несколько офигели, увидеть нас таких: «О, Лера!» А еще с нами был Моня, Лерин пес. Он с нами ночевал — Германика же с собакой не расставалась. Прямо перед дорожкой мы выпили еще одну бутылочку. И там уже были с ней совершенно косые. Два таких теплых персонажа. Это был единственный раз в жизни, когда я выступал на сцене пьяным. «Звери» играли попурри на премии «МУЗ-ТВ». Я даже слова в «Дождях-пистолетах» забыл. Я был настолько угашенный, что Макс мне даже медиатор дал — свой собственный я выронил из рук и даже не заметил. Но это все Германика. Это все она!
Как-то я Леру провожал после очередной вечеринки, поехал к ней домой на «Аэропорт». Я смотрю из окна машины: «Лер, что-то странно, у меня тут студия была недалеко… О, мы туда поворачиваем. Это же прямо здесь!» Оказалось, ее пятиэтажка стояла рядом через дворик с детской площадкой. И она жила прямо напротив нашего подвала, который впоследствии затопило. Но мы ни разу с ней так и не столкнулись, не знались еще тогда. Но постоянно бывали в одном и том же месте. Помнишь, я тебе когда-то рассказывал, что часто возвращаюсь в одни и те же места, но по другим причинам? Вот это тот самый счастливый случай, я — лаки!
Кино
У меня не было минимум двух лет, чтобы пойти учиться во ВГИК или на Высшие режиссерские курсы, меня бы оттуда выгнали за плохую посещаемость. Потому что все же гастроли, работа. Как я мог пойти на дневное отделение к кому-то в мастерскую? Обучение киноискусству — серьезное занятие, а для меня это было все-таки как хобби.
Да и если честно, я не собирался становиться режиссером. Мне просто было интересно, и я решил этому посвятить часть своего времени. Посмотреть, потяну ли я, дано ли мне. Если дано — здорово, я бы этим позанимался. Если нет — значит, буду заниматься чем-то еще. Меня учила Германика, преподавала мне частным образом. Но репетитор из нее, конечно, вялый, так себе. Она говорила: «Посмотри это, это и это. Вот тебе задание, сделаешь — приходи». А я ничего не понимал, делал не то, приходил, и она возмущалась. Она не объясняла — учитель она, конечно, никакой. Это я сейчас понимаю. Для нее это элементарные вещи, все равно что я бы ее обучал написанию песен. Хотя и такое бывало. Она что-то писала, приносила мне.
— Лер, ну это не песня, это какое-то вольное изложение мыслей.
— Нет! Ты ничего не понимаешь!
— Лера, это правда не песня, это какая-то декламация под музыкальное сопровождение. Ты просто читаешь под музыку стих.
Мы друг друга обогатили. Конечно, она меня научила многому, открыла глаза на многие вещи. Вообще на кино, на режиссуру. Теперь я прекрасно понимаю, каким будет мое кино, если я буду снимать. Кино же делается по определенным законам. Это портрет человека, который его создает. Сценарному мастерству я тоже учился частным образом у Тимура Газиева (кинодраматург, преподаватель Высших курсов кино и телевидения ВГИК. — Прим. ред.) и других мастеров, которых мне посоветовала Лера, которые могли бы преподавать мне теорию с практикой по индивидуальному плану.
Я все время тыкаюсь в разных направлениях, пытаясь понять, где бы я еще мог сделать что-то нужное и ценное для людей, помимо музыки. Может, что-то талантливое. С режиссурой оказалось не очень, у меня анимационное мышление. Но даже то, что я извлек какую-то информацию благодаря своему интересу, — это уже хорошо. Я разбираюсь в себе, узнаю свои сильные и слабые стороны, думаю, где могу что-то сделать, в каком направлении развиваться, а куда мне лучше не лезть.
И вообще я же не режиссер. Я музыкант. В музыке я как рыба в воде, она для меня проста и доступна. Я ее не боюсь. В кино меня пугают количество людей, волокита, продюсеры, деньги, ответственность, долгий производственный процесс. В музыке все просто: мысль пришла, ты ее — раз! — и записал, песня готова. Я гораздо быстрее получаю результат, когда все зависит только от меня. Хотя бывает, что одно другому не мешает — вон, Гарик Иванович Сукачев и кино снимает, и песни поет. И нормально.
2013
Мастерская
Я не могу работать дома. Когда-то в самом начале мог. Сейчас мне нужно даже не творческое путешествие, а творческая точка, где можно остаться одному. Это проблема концентрации. Даже если тебе что-то приходит в голову, открывается связь, ты не можешь ее зафиксировать, потому что ты занят приготовлением пищи, просмотром утренних новостей. Я не могу переключаться из состояния в состояние, в этом доме я живу другой жизнью. Она все равно меня переключает обратно в эту реальность, и я уже не думаю о том, что можно что-то записать. И тогда я уходил в мастерскую, когда она была. Мастерская на Николоямской улице рядом с домом.
Дело в том, что в какой-то момент у меня настал кризис: я не понимал, из-за чего. Что делать дальше? У меня не было рабочего места. Может, я и уезжал в эти творческие отпуска, чтобы побыть одному, чтобы никто не отвлекал. Кажется, это Марина проявила инициативу: «А чего ты себе не купишь квартиру небольшую и не сделаешь себе там мастерскую, чтобы не ездить по каким-то местам? Сидел бы там и работал». Это была прекрасная идея — как я сам раньше до этого не додумался?! И я купил квартиру недалеко от дома: так повезло, прямо рядом. Неплохая светлая, двухкомнатная. Там я и сделал мастерскую. В одной комнате оборудовал фотостудию, где разместил свои фотоаппараты, натянул задник-фон, поставил мольберт, купил краски. Там я рисовал, там мы смотрели кино на большом экране. А во второй комнате у меня была музыкальная студия: гитара, микрофон, компьютер с музыкальным софтом, колонки — оптимальный минимум профессионального студийного оборудования. Я сделал звукоизоляцию. Ремонт, конечно, рабочие делали, но я им объяснял, что и как мне нужно, следил за исполнением. Стены были голые — действительно мастерская. Там я и работал.
Но, даже находясь в мастерской, я нуждался в паре часов, чтобы настроиться, выйти из бытового состояния. Я мог ходить целыми днями по комнате, ничего не делая. Пока не пристроюсь в какой-то угол, не почувствую, что здесь можно работать, открыть блокнот… Я долго открывал блокноты в разных комнатах. Сидел, тупил, ничего не делал. Попью кофе, посмотрю на фотоаппараты, порисую, включу компьютер. Возьму гитару, повешу на место. Похожу, подумаю. Кто-то придет… Туда приходили брать интервью — мастерская служила мне еще и офисом. Я решал там дела. Нужно подписать документ — мастерская. Даже там я не мог уединиться настолько, чтобы хотя бы один день никто ни разу меня не дернул, не пришел ко мне в гости.
Частенько приходила Оля, и мы с ней рисовали. У нее неплохо получалось. Надо просто много рисовать, это же практика обычная. Мы освоили цветовую гамму — каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Я показывал, как можно рисовать, какие есть способы. Мы все время с ней творим. Мы срисовываем. Мы рисуем из головы. Мы смешиваем краски. Оля сама может рисовать все что угодно. Я могу что-то добавить или закончить ее рисунок, а она — мой. Я начинаю, она продолжает. Мы играем в такие игры. Оля раньше рисовала много животных, сейчас и абстракции всякие любит. Наивнизм такой детский. Он у нее естественный, поэтому то, что она делает, нельзя назвать этим термином. Это и есть детский рисунок. Но она уже может беспредметку делать, понимая, что она рисует, а не просто какие-то закорючки.
Мы рисуем на холстах. Она никогда у нас не рисовала на обоях. Зачем? Если у папы в мастерской весь пол застелен бумагой. Точнее, фоном, как в фотостудиях. Я растянул этот ролл-ап — получился холст размером четыре на три метра. И вот она этот пол полностью разрисовывала чем угодно, всем, что знает. А в мастерской же есть все: краски, кисти, мастихины, холсты — пожалуйста, рисуй. Когда ты в ограниченных пространствах работаешь и у тебя мало места, есть только маленький холстик и гуашка, пи-пи-пи акварелькой по бумажечке — это все, что тебе можно. Хотя так тоже прикольно. Но хорошо, когда ты понимаешь, какими объемами можешь рисовать, какие краски смешивать. Как поверх одной краски наложить другую и что из этого получится. Вот в Испании как-то идем после рыбалки и видим художественный магазин. Я их очень люблю, и Оля тоже. Мы заходим, покупаем какие-то кисточки, аэрозоли прикольные, которые меняют цвет. Интересные гаджеты, которыми можно рисовать. Фломастеры по керамике — кружку, тарелку дома потом разрисовали. А просто на бумаге карандашом рисовать — это скучно… Оле нравилось в мастерской, потому что много всего и можно все размазывать — размах огромный, рисуй что хочешь и где хочешь. Она часто говорила мне: «Давай пойдем порисуем!»
Оля достаточно быстро рисует, экспрессивно. Поэтому ее можно назвать экспрессионистом. А еще она заканчивает свои работы в очень неожиданных местах, в которых я, допустим, или какой-то художник не закончил бы никогда. А она рисует, рисует, потом — раз! — и все! Я говорю: «Оля, смотри, какой кусок у тебя пустой, тут вообще ничего нет». — «Все, эта работа закончена! Давай другой лист!»
А когда я рисую, часто порчу свои работы. Мне хочется сделать здесь и сейчас, быстро, тоже экспрессивно. Но я могу испортить, вместо того чтобы отойти, постоять, посмотреть и подумать. В конце концов закрашиваю все к чертовой матери, и у меня получается загрунтованный холст — либо белый, либо черный.
«ЗВЕРИ» лучшие
Мой творческий отпуск закончился. Мы с ребятами уехали в Питер и занялись записью нашего сборника на студии «Добролет». Сначала хотели назвать его незамысловато «The Best», а потом за три недели до даты презентации альбома Лера Агапова сказала: «Давайте как в номинации про лучшую рок-группу — „Звери“. Лучшие».
Этот альбом не просто компиляция песен из разных альбомов. Мы выбрали 25 композиций и записали их в новом звучании, максимально приближенном к тому, как мы играем вживую на концертах.
Здесь эффектов нет, мы все играем руками без добавления чего-либо вроде электронных барабанов, синтезированных звуков и прочего. Слава играл на пианино, на электропиано Nord, синтезаторе Korg MCC10 и Rhodes piano. Все они — клавишные аналоговые штуки. Эта пластинка без украшательств. Обычная студийная работа, без использования виртуальных звуков и инструментов. Обычно у нас они присутствуют: и шумы, и сложные цифровые заморочки, фильтры. Но для бэста все специально было сыграно с одним звуком — все отобранные 25 песен в одной студии.
Обложку оформляли мои друзья — художники Володя и Маша Семенские. Они занимались каллиграфией: вписывали тушью в этот квадрат слова, опускали бумагу в воду, тушь растекалась, лист доставали на просушку. И так много, много раз. А потом из вариантов тридцати удачных мы выбрали один самый лучший. У меня остался весь рабочий материал — целая кипа листов. На презентации мы их в рамочках дарили людям. Так что все эти размытия не на компьютере сделаны. На фотографиях внутри буклета — да, а на обложке вручную. Красный цвет уже добавили потом, сначала у нас все было монохромное. У «Зверей» всегда присутствовало это цветовое сочетание — красно-бело-черное. Альбом «„Звери“. Лучшие» можно повесить на холодильник, в его обложку вшиты магниты — это была коллективная идея. Самым сложным было найти фабрику, где вручную согласятся вклеивать фрагмент пленки. Люди покупают этот альбом не только как сувенир, но и для использования по прямому назначению — послушать, не все ведь знают, что появились какие-то новые варианты песен, другой звук.
Несмотря на то что все можно послушать на iTunes, все равно есть какая-то магия от физического носителя — тактильно ощутить альбом очень приятно. Вещь! Нам было важно, чтобы эту пластинку можно было почитать, пощупать, прикоснуться, положить на полочку. Ну или на холодильник повесить.
«ЗВЕРИ» другие