Русские тексты Гаврилов Юрий
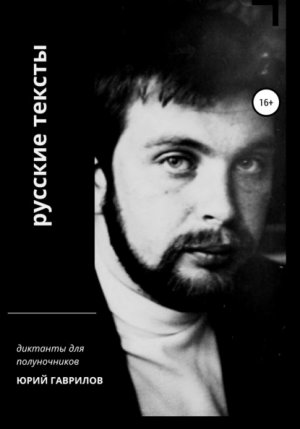
«Я около Кольцова, как сокол, закольцован», – стон Мандельштама в воронежской ссылке.
Гоголь Николай Васильевич
(1809–1852)
В Москве есть три памятника Гоголю – Н. А. Андреева, «от правительства Советского Союза», надгробие на Новодевичьем кладбище, и каждый из них не случаен.
При эксгумации во время перезахоронения из Данилова монастыря Гоголь лежал в гробу на боку. Захоронили живым, впавшим в летаргический сон, или перевернули, поднимая гроб?
Розанов намекал, что Гоголь – черт.
Чертовщина Гоголя неразрешима: ни Манилова, ни моста через пруд, ни Коробочки, ни уж, конечно, сапожника, который «хоть бы в рот хмельного», ни, тем паче, Ноздрева в реальной жизни быть не может, потому что не может быть никогда. А они есть! Приходилось лично знавать многих, а уж Ноздревых на Руси, что маньяков в Америке, пруд пруди.
Страшный, будто памятник работы Андреева, он, затюканный ничтожным попом, ржевским протоиереем Максимом Константиновским, напуганный смертью жены Хомякова, близкого ему человека, сидел и смотрел, как сгорают тетради второго тома «Мертвых душ». А вокруг него неслись в веселом хороводе и жалобно выли Вий и Городничий, Хлестаков и Дама приятная во всех отношениях, Ноздрев в обнимку с губернаторской дочкой и Подколесин с Кочкаревым…
Булгаков с безукоризненным пробором, Салтыков в окладистой бороде, Зощенко с Веничкой на руках, Ильф верхом на Петрове кружились медленно в скорбном молчании.
Гоголь принимал молодых литераторов, как генерал нашкодивших губернских секретарей, обходя их строй и милостиво протягивая каждому два пальца, вылитый монумент «от правительства Советского Союза».
Он начертал «Выбранные места из переписки с друзьями», где поучал всю Россию, как ей дышать, из прекрасного далека, попивая тухлые минеральные воды в Риме. «Переписка» так изумила читателей, что один назвал ее «артистически рассчитанной подлостью», а другой – «великой оклеветанной книгой».
Будучи высоконравственным христианином, он боялся женщин, не любил их, никогда не был женат, но зато создал «Рассуждение о Божественной литургии».
А еще он сказал, что со словом надо обращаться честно, и никогда иначе не поступал.
Пушкин, слушая забавные истории Гоголя, смеялся до упаду, а потом промолвил: «Боже, какая грустная наша Россия…»
На его надгробии выбиты слова библейского пророка Иеремии: «И горьким моим словом посмеются».
Выходит, и пророки не лыком шиты.
Написал я последнюю фразу о пророках, но смутное сомнение не оставляло: а все ли здесь так?
Дело в том, что во многих источниках стих из Иеремии приводился в двух вариантах: «посмеюся» и «посмеются», что означает два разных смысла, а этого быть не может.
Чего проще: надо заглянуть в Ветхий Завет. Сказано – сделано: нет таких слов у Иеремии!
С молодых лет страдая хроническим занудством, которое при желании можно принимать за дотошность или даже добросовестность, я прочитал всего Иеремию, включая «Плач» его – нет такого стиха!
Читаем указанное место, глава 20.8: «Ибо только начну говорить я, – кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношении мне и повседневное посмеяние».
Даже самый вольные перевод (а предложивший этот текст в том виде, в котором он выбит на памятнике славянофил, поэт П. С. Шевырев был плохим переводчиком и большим путаником) вопля Иеремии не может превратить «слово Господне» в «горькое слово» и далее по тексту.
Обнаружив столь произвольное отношение к источнику, я решил посмотреть, а что еще начертано на могильной плите, и впал в недоумение.
Судите сами: «Муж вразумливый престол чувствия» Притчи 12.23.
Что сие значит, какого такого «чувствия престол»! Хватаю притчи и читаю: «Человек умный скрывает свое знание, глупый же кричит о своей глупости».
Как утверждают знатоки древнееврейского языка, переводчик попросту спутал слово «скрывать» со словом «престол», а знания произвольно перевел как «чувствие», и получилась абракадабра.
Сама ссылка на могильном камне Гоголя на этот стих является недопустимым, непристойным намеком: то ли Гоголь был умен и скрывал то, что знал, то ли на весь свет кричал о своей глупости. Каково?
Третья надпись гласит: «Правда возвышает язык» Пр.14.34. Ну, уж с этим-то все в порядке. Если под словом «язык» понимать литературу, то это – прямо о Гоголе.
Не тут-то было!
«Правда возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народа». Нет, не о литературе это и не о Гоголе.
Как можно было так обмишуриться: три надписи – три ошибки, даже – выдумки! Как можно было не озадачиться «престолом чувствия». Точно черт (любимый персонаж молодого Гоголя) под руку толкал. И имя этого черта известно: самомнение (Шевырев был профессором Московского университета) и верхоглядство.
Настоящая чертовщина – это перезахоронение останков Гоголя 31 мая 1931 года.
В 1922 большевики закрыли Новодевичий монастырь, монашек – кого посадили, кого разогнали, а в монастыре устроили Музей раскрепощения женщин.
Еще в 1904 году при Новодевичьем было открыто новое кладбище, туда и было решено перенести с Даниловского кладбища (монастырь передавали под колонию для несовершеннолетних, а впоследствии он подлежал сносу по варварскому плану реконструкции Москвы Л. М. Кагановича) прах Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова.
Руководил разорением Даниловского некрополя молодой коммунист Аракчеев, безбожник школы Минея Губельмана (Емельяна Ярославского), то есть – бес.
Не утруждая себя созданием официальной комиссии, не пригласив судмедэкспертов, фотографа, киносъемку 31 мая 1931 года Аракчеев вскрыл могилу Гоголя.
На зрелище были приглашены знакомые Аракчеева, случайные московские литераторы, архитектор Барановский, которому нашлась работа.
Склеп оказался неожиданно могучим сооружением непростой конструкции – долбили ломами целый день.
Когда подняли гроб и стали его вскрывать (сгнили только боковые доски), жена архитектора Марья Юрьевна заплакала, и один чекист из числа подчиненных Аракчеева сочувственно сказал другому: «Смотри, как вдова-то убивается…»
Взрезали толстую металлическую фольгу, и мародеры кинулись растаскивать содержимое: литератор Лидин отрезал полу сюртука, Аракчеев украл у покойника сапоги, на редкость хорошо сохранившиеся, кто-то срезал пуговицы, некто, кого не хочется называть, взял себе на память ребро Гоголя.
В тот же вечер по Москве пошли гулять слухи, один соблазнительнее другого: мерзавец Лидин уверял, что в гробу не было черепа (спустя несколько лет он же клялся, что череп был, но лежал на боку.
Эта молва аукнулась в «Мастере и Маргарите»; а много лет спустя Андрей Вознесенский, для которого в то время святотатство было вторым, после восхваления Ленина, душеспасительным занятием, писал, содрогаясь от собственной смелости: «Гоголь, скорчась, лежит на боку, ноготь подкладку порвал сапогу».
Кто-то вспомнил, что в 1909 году, по случаю установки памятника Гоголю на Пречистенском бульваре (работы скульптора Андреева) проводилась реконструкция могилы писателя и что, якобы помешавшийся на собирательстве, купец Бахрушин, основатель театрального музея, подбил рабочих украсть для его коллекции череп Гоголя, так же как ранее Бахрушин будто бы похитил из могилы череп актера Щепкина.
Разумные доводы мало кого убеждали: скульптор Рамазанов, который снимал посмертную маску с Гоголя, утверждал, что на лице были выраженные следы разложения. Кроме того, снять маску с живого человека невозможно. Положение покойника в гробу может поменяться при перевозке, перекоса при опускании в могилу, из-за давления грунта на гроб (таков был случай Гоголя).
Ноготь, на боку, без головы – куда как интереснее.
А сапоги пришлось вернуть, закопать под памятник – призраки замучили.
Гончаров Иван Александрович
(1812–1891)
«Вы знаете, какой я дикий, какой я сумасшедший; я больной, затравленный, не понятый никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами… Судьба не дала мне никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и сам не знаю, куда денусь», – из письма Гончарова, ко времени написания коего он был и знаменитым писателем, и солидным чиновником.
Склонный к простудам, отечный, вследствие сидячего, по необходимости, образа жизни, болезненно мнительный, он всегда мечтал забиться, «спрятаться куда-нибудь в угол»; всякие знаки внимания он воспринимал, как насилие над собой, и тогда он издавал глухие стенания: «пощадите, простите». Писатели решили отметить его литературный юбилей, он впал в панику и согласился принять, разумеется, у себя дома, ближайших сотрудников по «Вестнику Европы» со строжайшим условием, что не будет произнесено никаких поздравительных речей.
Горячечной фантазией Гончарова на многие годы стало убеждение, что другие писатели, и, прежде всего Тургенев, обкрадывают его в литературном отношении, воруя у него положения и героев (Марк Волохов – Базаров; Татьяна Марковна «Обрыва» – Марфа Тимофеевна «Дворянского гнезда»).
Когда Тургенев приезжал в Петербург, Гончаров переставал появляться в обществе: «Чеченец ходит за рекой» и «Сказал бы словечко, да волк недалечко», – объяснял он свое поведение. Он стал объектом злых насмешек «Обличительного поэта» (Д. Минаева): в стихотворении «Парнасский приговор» некий русский писатель, «вялый и ленивый, как Обломов, приносит богам жалобу на собрата:
- Он, как я, писатель старый,
- Издал он роман недавно,
- Где сюжет и план рассказа
- У меня украл бесславно…
- У меня – герой в чахотке,
- У него – портрет того же;
- У меня – Елена имя,
- У него – Елена тоже,
- У него все лица также,
- Как в моем романе, ходят,
- Пьют, болтают, спят и любят…
Гончаров отозвался кротко: «с такой натурой, как моя, нужна не крапива смеха и не грубые удары всевозможных бичей».
И такой человек, «вялый и ленивый», первым из русских писателей совершил двухлетнее кругосветное путешествие: из Петербурга до Японии на военном фрегате «Паллада», из Японии в Петербург – через Сибирь – и это в 1854 году!
Он написал два тома путевых заметок, жанр самый модный в то время, это все знают, все читали… Менее известен другой факт: на стоянке в одной из гаваней Японского моря командующий русской экспедицией адмирал Путятин получил известие о войне, объявленной России со стороны Англии и Франции.
Адмирал под секретом сообщил Гончарову, что, так как парусная «Паллада» не может ни сражаться с винтовыми пароходами противника, ни уйти от них, он в случае встречи с неприятелем решил сцепиться с ним абордажными крючьями и взорвать оба корабля.
Гончаров был человеком штатским, он мог сойти на берег без нарушения присяги, без бесчестья, но он остался и на последнем переходе не выказывал ни малейших признаков волнения.
Герцен Александр Иванович
(1812–1870)
– Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться! – взывал затравленный Мандельштам. А барин изволили выехать за границу, еще в 1847 году, навсегда.
А Александр Иванович читали Гегеля как алгебру революции, чем до смерти, узнай он об этом, напугали бы законопослушного немца.
Во второй, новгородской ссылке Герцен был под полицейским надзором… у самого себя – такие вот шутки николаевской бюрократии.
В Москве, в сороковые годы, в гостиной на зеленых диванах аксаковской гостиной сидя, Герцен разжег самый великий русский спор; нескончаемый, страстный, философский, жизненный и бессмысленный: славянофилы – западники.
Причем главный славянофил начал с издания журнала «Европеец», а главный западник кончил надгробным памятником, обращенным лицом к России.
Он слышал мерные залпы в поверженном революционном Париже – это расстреливали пленных повстанцев.
Он, единственный в эмиграции, не поверил Нечаеву, золотушному бесу русской революции.
Герцен стал издавать «Колокол» с девизом «Зову живых!». Боже, как читали «Колокол» в России, как везли его туда, как прятали, как хранили!
Царь запретил высылать Герцену доходы с имения – деньги шли на революционную пропаганду, Герцен пожаловался на царя банкиру Ротшильду, кредитору российского императора: «Барон! Вы даете взаймы революционеру. Император Николай не признает священного права частной собственности!..» Ротшильд принял сторону Герцена.
«Мещанство – окончательная форма западной цивилизации», – и западник поверил в русскую крестьянскую общину. Но тот, кто верит в Россию, – тот умножает скорбь. Здесь причины духовной драмы.
Откройте любой том «Былого и дум» – это биография Европы и России, трагедия обманувшейся мысли, крушение последних надежд, в том числе и наших; здесь кипят страсть и кровь, а не холодная сукровица заокеанских боевиков.
Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814–1841)
«Гнилостное брожение – Лермонтов» – блистательный Тынянов.
Лермонтов описал себя дважды, и оба раза невпопад. Первая попытка – «Демон», и то, что гений Лермонтова, в полную силу вспыхнувший в нем лишь за четыре года до смерти, был «вольный сын эфира», сомневаться не приходится, но Лермонтов никого не любил, как Демон Тамару. Сказать: «Нет, не тебя так пылко я люблю», – Михаил Юрьевич мог с полным правом любой женщине.
Он равно презирал и женщин, и мужчин и всегда был готов бросить кому угодно в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью», что многим почему-то не нравилось.
Лермонтов – Печорин, здесь действительно сходства много, кроме одного – в жизни Грушницкий убьет на дуэли Печорина; деталь, конечно, но немаловажная.
Не зная, куда выплеснуть переполнявшую его желчь, он оболгал свое поколение, хотя и понимал: лишь один его поэтический гений оправдывал существование современников. Для справедливости заметим, что в то время, пока Печорин скуки ради губил людей, русские моряки плавали к берегам Антарктиды, Лобачевский создавал неэвклидову геометрию, Росси строил великолепные дворцы и целые улицы, а Михаил Юрьевич Лермонтов писал «Героя нашего времени».
Одинокий, «и некому руку подать», ощетинившийся против всего мира поэт лишь Бога признавал равным собеседником, а попросить о милости считал незазорным только у Пречистой Девы.
Он был счастлив лишь в те мгновения:
- Когда волнуется желтеющая нива
- И свежий лес шумит при звуке ветерка…
- ……………………………………….
- Тогда смиряется души моей тревога,
- Тогда расходятся морщины на челе, —
- И счастья я могу постигнуть на земле,
- И в небесах я вижу Бога.
Но, создавши зловещую притчу о трех пальмах, Лермонтов и Богу не затруднился представить счет:
- Зачем так горько прекословил
- Надеждам юности моей.
В своей богоборческой «Благодарности» Лермонтов просит смерти, что ж каждому дается по вере его.
Лермонтов безжалостно и неумно издевался над майором Мартыновым, однокашником и соседом по койке военной школы; Мартынов в отличие от Дантеса всю жизнь сожалел о содеянном.
В коротком замыкании лермонтовского гения есть неразгаданная тайна, как в непонятной власти над душой таких, казалось бы, простеньких строк:
- Есть речи – значенье
- Темно иль ничтожно,
- Но им без волненья
- Внимать невозможно.
- Как полны их звуки
- Безумством желанья!
- В них слезы разлуки,
- В них трепет свиданья.
Как сумел разгадать он это своим озлобленным сердцем? Вот уж воистину: над вымыслом слезами обольюсь.
Тургенев Иван Сергеевич
(1818–1883) —
Добролюбов Николай Александрович
(1836–1861)
Тургенев был барин по рождению и воспитанию, но он еще играл барина, великосветского льва, аристократа – ему это льстило.
В салонах он рассказывал, что публикует свои повести в «Современнике» без интереса, даром, а сам всегда забирал деньги вперед.
Тургенев невзлюбил Добролюбова и Чернышевского сразу и всерьез; он говорил, что они семинаристы (для дворян это было ругательное слово), что они кутейники, протухли лампадным маслом, тащат в изящную словесность мертвечину…
Но они были интересны ему как художнику, особенно Добролюбов.
Тургенев давал «литературные обеды», попасть на которые было мечтой всякого журналиста. Тургенев пригласил на обед Добролюбова: «И вы приходите, молодой человек». А Добролюбов не пришел! Тургенев подумал, что Добролюбов обиделся формой приглашения, и обратился к нему нарочито вежливо. А Добролюбов не пришел! Тургенев, в присутствии Добролюбова, пенял Панаеву: «Вот, Иван Иванович, нынешняя молодежь равнодушна к авторитетам, не то что мы, когда начинали…» И пригласил Добролюбова на прогулку, но тот отказался.
Они были чужие – иначе одевались, иначе говорили, иначе общались между собой. Даже Панаев, во всем послушный Некрасову, и тот морщился. Самым возмутительным было то, что они никогда не сплетничали, не рассказывали, что печатают свои статьи в «Современнике» бесплатно, работали по 14 часов в сутки и к приличным людям никуда не ходили, а шушукались между собой, как заговорщики.
Добролюбов так засел Тургеневу в печенки, что Иван Сергеевич начал писать роман «Нигилист», и как тут было не свалиться в злую карикатуру. Но Тургенев, сам впоследствии послуживший прообразом карикатуры, был не только светский фат, но и художник, он «Записки охотника» написал…
Попенку Добролюбову была дана лекарская фамилия Базаров, Базарову – добролюбовское презрение к авторитетам и равнодушие к красоте. Но каким-то непостижимым образом Тургенев разгадал тайну Добролюбова – ведь тот был таким ущербным, потому что не жил никогда, не любил, не дышал полной грудью. И как только Базаров вдохнул опьяняющей смеси настоя трав, краснолесья, аромата духов Одинцовой, запаха смерти, исходящего от дуэльного пистолета, он задохнулся, но познал и жизнь, и слезы, и любовь…
А Добролюбов задохнулся под тяжестью честного труда и чахотки. Он, Добролюбов, был фигурой риторической, силой своего таланта Тургенев изваял из него фигуру трагическую и навсегда прописал в русской литературе.
Некрасов Николай Алексеевич
(1821–1878)
Некрасов, вдоволь помыкавшись в юности по петербургским углам, хлебнувши горяченького до слез, разбогател на альманахах и «Современнике», зажил барином и два раза в неделю ездил в Английский клуб – посидеть за ломберным столиком.
Со временем Некрасов пристрастился к этому занятию, стал заядлым картежником и вел уже игру азартную, то есть такую, в которой ставки не ограничены.
Азартная игра была запрещена уставом клуба, но, разумеется, существовали способы обойти эти ограничения, а иной раз Некрасов сочинял банчишко на несколько сот тысяч рублей у себя дома. По правилам игры упавшие на пол карты, а каждая талия игралась новой колодой – прежнюю смахивали со стола, и она, а также оброненные деньги, считалась собственностью прислуги. Однажды слуга Некрасова поднял с пола запечатанную пачку в тысячу рублей – свое жалование за четыре года. «На счастье», – сказал Некрасов, это были его деньги.
Как все игроки, Некрасов был болезненно суеверен. Однажды он отказал в трехстах рублях сотруднику журнала Пиотровскому, объяснив, что давать ему деньги накануне большой игры, значит, обречь себя на проигрыш. Пиотровский пригрозил самоубийством, но Некрасов стоял на своем, хотя сами по себе триста рублей для него ничего не значили. На другой день стало известно, что проситель застрелился; Некрасов был потрясен, он оплатил все долги Пиотровского, устроил ему достойные похороны и все твердил, что и представить себе не мог, чтобы из-за такой ничтожной малости человек пускал себе пулю в лоб.
Однажды некий начинающий беллетрист, скучая с Некрасовым вечер – поэт был серьезно болен и на время оставил игру – предложил перекинуться в банк.
Сначала, по мелочи, Некрасову везло, но когда ставка выроста до 1000 рублей, карта издателя «Современника» была убита.
Поэт был страшно удручен, он решил, что удача отвернулась от него, но, тщательно разглядев колоду, заметил, что карты были краплены длинным ногтем прозаика; Некрасов повеселел и вновь пустился в игру, строжайше запрещенную ему докторами.
Кроме карт Некрасов страстно любил женщин, Белинского и русский народ; и то, и другое, и третье – совершенно искренне. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его сочинения.
Достоевский Федор Михайлович
(1821–1881)
Все, кто любил творчество Достоевского и с глубоким уважением относился к личности писателя, в 1978 году с нетерпением и неким трепетом ожидали выхода в свет 18 тома полного собрания сочинений Федора Михайловича.
Дело в том, что впервые широкая публика могла познакомиться со следственным делом Достоевского по процессу петрашевцев, членами кружка социалистов-фантазеров, легкомысленных читателей Фурье и Сен-Симона. Напуганное европейской революцией 1848 года правительство отнеслось к Петрашевскому со товарищи с непомерной жестокостью, «шумим братец, шумим» было высочайше соизволено наказать смертью. Среди приговоренных к расстрелу был и Достоевский. Он пережил незабываемое – эшафот, оглашение приговора, расстрельный столб, завязанные глаза, – все это изменило его жизнь, мировоззрение, творчество.
О Достоевском при жизни ходило много темных слухов; в его произведениях с опасной навязчивостью возникает болезненная и уголовная тема насилия над маленькой девочкой (Свидригайлов, Ставрогин); Федор Михайлович был страстным игроком и знатоком погибших, но милых созданий, отнюдь не похожих на Соню Мармеладову.
Все грехи были отпущены Федору Михайловичу его читателем за беспощадный, мучительный гений, но вдруг, о, ужас, недостойное поведение на следствии, минутная слабость страдающего эпилепсией человека, немыслимо самолюбивого, мнительного, молодого, только что феерической удачей открывшего свой литературный счет.
«Все прощает Бог, лишь иудин грех не прощается…»
Декабристы, как известно, давали следствию излишне откровенные признания, умолял о пощаде несчастный Полежаев, показывали друг на друга и петрашевцы.
Ну а уж в 1978 году стукачи цвели махровым цветом, приличные люди относились к ним с чувством гадливой брезгливости.
Никто, от сердца отлегло, никто не вел себя на следствии и суде так благородно, так прямодушно, так достойно, с таким щепетильным понятием о чести, как Достоевский.
Федор Михайлович давал показания только на себя, не юлил, не каялся, не просил пощады и ни слова не промолвил о своих товарищах в опасном и невыгодном для них смысле.
Получив в Тобольске из рук жен декабристов в подарок Евангелие, Достоевский на четыре года водворился в «Мертвом доме», чтобы выйти с каторги ясновидцем духа, гением мировой литературы.
Островский Александр Николаевич
(1823–1886)
Островского называют «Колумбом Замоскворечья» – и это справедливо. Героями дворянской литературы были, естественно, дворяне: на ее страницы попадали мужики, контрабандисты, дядьки Савельичи, убогие французы, разбойники Казбичи, собачки Муму, дворовые обоего пола и даже Пугачев, но не купцы. Гоголевские, из «Ревизора» – не в счет, они – лишь доказательство безобразий городничего, они из ряда: унтер-офицерская вдова, церковь, которая начала строиться и сгорела, купцы…
Но до Островского в русской драматургии не было не только весьма своеобразного и колоритного сословия, не было, как это ни странно, и денег. Дворянские деньги – ненастоящие, легко приходят, легко уходят, не на деньгах ломаются дворянские судьбы – на словах, мыслях, чувствах, страстях.
У Островского кредитные билеты – живые, они кровью потеют… Ну что изменили бы в судьбе Обломова еще триста душ? Но дайте Ларисе Огудаловой наследство в полмиллиона – и вместо одной из самых изумительных русских драм получим пошлый брак с фатоватым Паратовым, и поэтичная, страстная Лариса с радостью пойдет под венец и наденет капот.
Вместе с деньгами в драмах Островского появляется женщина. Экая, скажете вы, невидаль, вон их сколько: Софья Павловна, Мария Андреевна, Марья Антоновна, а если эти не нравятся, возьмите хотя бы госпожу Простакову…
Все не то: до Островского женщина никогда не была главной героиней, центром литературного действа, разве что «Бедная Лиза».
«Гроза», «Бесприданница», «Последняя жертва», «Без вины виноватые», – и здесь надо остановиться, ибо список выйдет слишком длинен; от «Грозы», которую два остроумца определили как мещанскую трагедию до «подлинного луча в темном царстве» – психологической драмы «Сердце не камень», символа веры Островского: излечить самодурство, грубость нравов, невежество могут только любовь и совесть.
До Островского драматургия была продуктом штучным; отвлекаясь от основных занятий, Пушкин и Гоголь как бы говорили: а вот еще трагедию – комедию можно написать. «Горе от ума» и «Борис Годунов» не скоро попали на сцену, и «Ревизор» был в премьере сыгран вкривь и вкось. Островский создал целый мир, театр своего имени, который живет и сегодня становится страшно (в полном смысле этого слова) актуальным. Перечтите хотя бы «На всякого мудреца…» или «Волки и овцы» – подумайте, есть ли в жизни другие роли, кроме хищника и жертвы.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
(1826–1889)
По поводу знаменитого восклицания Фамусова «забрать все книги бы да сжечь!» Салтыков-Щедрин мудро заметил, что книги не сжигать надобно, но в ступе истолочь и карт игральных понаделать.
Окончив без всякого блеска Александровский (Царскосельский) лицей, он пошел тернистым путем греха, т. е. утонул в пучине светских развлечений, странным образом сочетая рассеянный образ жизни с либеральным свободомыслием, службой в канцелярии и занятиями литературой.
Он очень смешно изображал кружок Петрашевского, пустые, бесконечные словопрения о том, довольно ли одной любви или же любовь потом, а вначале должно все разрушить. Но начальство решило, что Салтыков маскируется, и в Вятку он был сослан именно «за соприкосновенность» к петрашевцам.
Все, что необходимо Ювеналу, у Салтыкова-Щедрина присутствовало: он был умен, желчен и язвителен от природы, но сердце имел мягкое и потому тайно тяготел к юмору, что угадал беспощадный и проницательный Писарев в блестящей и хулиганской статье «Цветы невинного юмора».
Сатира Салтыкова-Щедрина оставляет странное и двойственное впечатление: Салтыков-Щедрин остроумен и зол; то ли жизнь русская мало переменилась, то ли писатель нашел некую общую формулу ее, но если внимательно прочитать «Историю одного города»; то местами возникает ощущение, что написано это сегодня, если не завтра: «Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства»; «новому правителю уже по одному тому должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и глуповская восторженность, и глуповское легкомыслие».
На той же странице упомянуто «каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие».
А заповеди градоначальника номер шесть: «Натиск и притом быстрота, снисходительность, притом строгость. И притом благоразумная твердость». Так и тянет добавить: и притом укрепление вертикали власти.
Двойственность же состоит в том, что глуповцы Салтыкова в трех соснах заблудились, глуповцы же в реальности вышли к берегам Тихого океана; глуповцы Щедрина, «знали, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли» – это про Разина и Пугачева? Не сходится.
Однажды дочь Салтыкова-Щедрина, Лиза, получила двойку за сочинение. Михаил Ефграфович надел вицмундир, нацепил ордена и отправился в гимназию: «Как это так! Сочинение писал я!» Но двойку не исправили, крепкие порядки были в школе при проклятом царизме.
Толстой Лев Николаевич
(1828–1910)
В 19 лет он написал правила для самого себя на все случаи жизни: поставил целью изучить весь курс юридических наук, практическую медицину и часть теоретической, языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский; изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое, изучить историю, географию, статистику, математику; написать диссертацию; достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи, написать правила нравственного поведения, получить некоторые познания в естественных науках и составить сочинения из всех предметов…
Он оставил и предметы, и университет и стал артиллерийским офицером, воевал против горцев на Кавказе и против западных союзников на бастионах осажденного Севастополя.
Офицер опубликовал «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы» и стал знаменитым русским писателем.
Он женился по любви, прожил с женой 48 лет, родил в браке 14 детей.
Он стал педагогом, открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне, работал на голоде; болел, лечился кумысом; наставлял правительство, написал более 10000 писем, стал философом, «Буддой и Шопенгауэром», – ядовитый Розанов.
Он стал, благодаря изданию своих сочинений невиданными для России тиражами, богатым человеком, крупным землевладельцем…
И отрекся, освободился, по Бунину, от всего: науку он признал ненужной и совсем не тем, «Чем люди живы», военную службу – бездельем и развратом; он призывал к полному безбрачию, восстал против церкви, был и отлучен, и предан анафеме – такой чести не многие удостоились! Он отказался от своего сословия, от имущественных прав; он не признавал государства, правосудия, бессмертия души. Он утверждал, что помнит себя с момента рождения: как тужился, пытаясь выбраться из пеленок.
Всю жизнь он освобождался от пелен; а еще он пахал, тачал сапоги Фету, мучил близких тем, что выламывался из принятых форм бытия; он чудил: не признавал Шекспира, сожалел, что никогда не сидел в тюрьме, а незадолго до смерти начал изучать древнееврейский язык.
Он писал: «Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть все большее и большее подчинение этим формам и потом опять освобождение от них…»
Завершая освобождение, он ушел в промозглую ночь, без денег, в старом пальто, больной немощный восьмидесятидвухлетний человек, он преодолел все и самого себя, и умер в Астапове, которое теперь, конечно же, называется просто «Лев Толстой».
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828–1889)
Канувший в Лету римлянин Теренциан Мавр утверждал: книги имеют свою судьбу. Это изречение прямо относится к произведению Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях».
Попович из провинциального Саратова еще до поступления в университет знал языки: древнегреческий, латинский, древнееврейский, английский, французский, немецкий, польский, читал по-арабски, говорил по-татарски; мог часами на память цитировать авторитетных ученых по любому гуманитарному предмету.
В 34 года он был изъят из жизни по ложному доносу, вина его не была доказана, но его подвергли гражданской казни, семилетней каторге и двенадцатилетней ссылке в Вилюйске, городе, где лучшим зданием была тюрьма, а зимой заваливало за семьдесят. Жена, пустая и развратная, не последовала за ним в Сибирь, бросила; быт его был таким, что разве что на гвоздях, как литературный герой его Рахметов, он не спал, его пытались выкрасть народовольцы Лопатин и Мышкин – но тщетно.
Николай Гаврилович умер в родном Саратове, в бреду связно диктуя из Вебера, немецкого историка, 12 томов «Всемирной истории» которого он перевел.
Такова судьба автора, а вот судьба книги: она была написана за три с половиной месяца в Петропавловской крепости, что само по себе должно было насторожить цензуру. Но цензор принял «Что делать?» за семейный роман(!), а сны Веры Павловны за научно-популярные агитки. К несчастью, он не дочитал рукопись до конца и не знал, что Чернышевский говорил, что «искусство должно быть учебником жизни».
Некрасов, редактор и издатель «Современника» сам повез тяжелый пакет с единственным экземпляром в типографию, рукопись выпала из саней, Некрасов был близок к умопомешательству. Мелкий чиновник нашел роман и по объявлению принес его в редакцию «Современника», так «учебник жизни», учебник социализма увидел свет.
«Эта книга глубоко перепахала, перевернула меня», – признавал Ленин, свернувший шею России, да так, что вернуть голову в нормальное положение мы так и не можем.
Лишенная каких-либо литературных достоинств книга отравила, погубила несколько поколений самых честных, самых нетерпимых к общественным язвам и самых нетерпеливых российских юношей. Чернышевский породил веселого хулигана Писарева, кулачного бойца Зайцева, Стасова – эту грудную жабу русского искусства, пошляка Луначарского и Леопольда Авербаха с чудовищным РАПП'ом.
«Что делать?» и «Как закалялась сталь» – это один роман в двух частях, и богатая мысль о том, что литература должна стать винтиком и шпунтиком пролетарского дела – это Ленин у Чернышевского списал.
– Что делать? – удивлялся Розанов. – Летом варить варенье, а зимой пить с ним чай!
- Его еще покамест не распяли,
- Но час придет – он будет на кресте;
- Его послал бог Гнева и Печали
- Царям земли напомнить о Христе.
Может быть, поверить Некрасову?
Лесков Николай Семенович
(1831–1895)
«Праздник жизни – молодости годы, я убил под тяжестью труда», – эти слова Некрасова Лесков с полным основанием мог отнести на свой счет.
Не закончив по семейным обстоятельствам гимназию в родном Орле, Николай Семенович поступил сначала на казенную службу, потом на частную; и та, и другая заключалась в постоянных разъездах.
К тридцати годам Лесков стал глубоким знатоком быта и психологии русского народа; накопил неисчерпаемый запас наблюдений, сюжетов, запоминающихся характеров.
А главное – будущий писатель просто купался в русской языковой стихии; он досконально знал, как говорят на Волге, на Украине или в Новороссии люди разных сословий, чинов, национальностей.
Социальный охват прозы Лескова настолько широк, что с ним может соперничать только Чехов.
Если Н. А. Островский открыл Америку в купеческом Замоскворечье, то Лесков – «мелочи архиерейской жизни» (сам происходил из небогатой полу-духовной, полу-дворянской семьи), мир мещан, тульских мастеровых, степных кочевников – всего не перечислить.
В 1861 году Николай Семенович поселился в Санкт-Петербурге и занялся журналистикой.
И на этом поприще с ним случилась драматическая история, переломившая его жизнь.
Лесков придерживался вполне «прогрессивных», как тогда говорили, взглядов (заметим, что слово «прогресс» запрещалось употреблять в печати: оно считалось опасным для неокрепших умов); его ближайшими друзьями были А. И. Ничипоренко, член «Земли и Воли», умерший в 26 лет в Петропавловской крепости, и агент Герцена – журналист Артур Бенни.
В конце на редкость жаркого мая – начале лета 1862 года в Санкт-Петербурге и других городах империи случились страшные пожары. Обывательская молва обвиняла в поджогах нигилистов, поляков и студентов.
Лесков опубликовал в «Северной пчеле» статью, где в жесткой форме потребовал от полиции либо предъявить доказательства вины студентов, либо самым определенным и официальным образом опровергнуть ложные слухи. Сходную по содержанию корреспонденцию «Пожары» намеревался напечатать в своем журнале «Время» Ф. М. Достоевский, но она была дважды запрещена цензурой.
Кто и как прочитал эту статью Николая Семеновича – неизвестно, но в демократических кругах пошли разговоры: Лесков – агент правительства и обвинил студентов в поджоге по наущению полиции.
Лесков тщетно пытался оправдаться: он устно и письменно умолял прочитать его статью и убедиться, что никакого доноса она не содержит, и ровно наоборот – написана с целью защитить студентов от облыжных обвинений.
Мог ли Чацкий убедить фамусовское общество в том, что он – не сумасшедший?
То-то…
Но там-то были ретрограды времен Очакова и покоренья Крыма!
Демократы времен Добролюбова оказались ничем не лучше.
Униженный и оскорбленный Лесков уехал в Прагу, затем в Париж и вдали от родины пытался осмыслить то новое в жизни общества, что Тургенев назвал «нигилизмом», Лев Толстой – заразой, Достоевский – «Бесами», Гончаров – «Обрывом», а Писемский – «Взбаламученным морем».
Нигилистов было много что несколько тысяч на стомиллионную империю, но опасность они несли смертельную.
Они говорили от имени народа и действовали, по их мнению, на его благо, но народа, подлинного, а не придуманного, не знали; и народ их не знал и не хотел.
Нигилисты готовы были навязать свою волю огромной стране под личиной свободы и демократии; их идейным потомкам это удалось – сначала в октябре 1917-го, потом, под другими знаменами, в декабре 1991-го, и оба раза это обернулось трагедией.
Николай Семенович вернулся в Россию с романом «Некуда» (1864) и сразу прославился – благодаря истерике Писарева Лескова прочла вся читающая Россия.
Самый знаменитый, самый талантливый тогдашний бес заклеймил Лескова как последнего реакционера и мракобеса.
А, между тем, роман прочтен тем же самым образом, что и злополучная статья о пожарах.
Яркая фигура В. А. Слепцова (Белоярцева в романе) застила глаза революционно-демократическим критикам.
Автор «Современника» и большой практик модного «женского вопроса» Слепцов организовал Знаменскую женскую коммуну – меблированные комнаты для женщин, бежавших от тирании мужей, и девушек, удравших из семьи в поисках знакомств с «новыми людьми».
По городу пошли гулять соблазнительные сплетни про оргии в коммуне…
«Эмансипе» не смогли вести самого простого общего хозяйства – дело кончилось конфузом.
Что, собственно, и описал Лесков, деликатно опустив разухабистые слухи о коммунальных, то есть общих женах.
Но «Знаменка» была любимая мозоль радикалов.
Взвыв от негодования, они вовсе не заметили того, что один из главных героев романа, социалист Райнер (Артур Бенни), погибший во главе польского повстанческого отряда, изображен в ореоле жертвенного благородства; то, что автор ни на йоту не сомневался в чистоте помыслов Лизы Бахаревой.
Была пропущена Писаревым и главная мысль Лескова: старое плохо и новое никуда не годно. Райнер и Лиза (как и тургеневский Базаров) должны были погибнуть – им некуда деваться. В старой лжи они задыхаются, и бесам они не нужны, у бесов иные, корыстные цели и иные, грязные методы.
В большом романе Лескова «На ножах» (1870) больше злобы, чем художественных достоинств. Этим романом была вскрыта старая гниющая рана. Гной обиды, мутивший разум писателя, вышел наружу и «старогородская хроника» из жизни провинциального духовенства («Соборяне», 1872) стала достойным переходом к лучшему периоду творческой жизни писателя.
В «Соборянах» Лесков показал Русь патриархальную, наивную, беззащитную перед хищниками и лжепророками.
Создавая «Праведников» он словно забыл о нигилистах, его интересовали «тихие, тайные струи, которые текли под внешней рябью русских вод, кое-где поборожденных направленческими ветрами». (Лесков Н. С. «Обнищеванцы»)
Тот, кто не прочел «Запечатленного ангела», «Пигмея», «Воительницу», мощного «Очарованного странника», лукавые «Мелочи архиерейской жизни», чудесного «Однодума» – тот представляет себе русскую жизнь XIX века в лучшем случае однобоко и имеет искаженное представление о русских характерах.
Только подобным невежеством можно объяснить утверждение: все русские – рабы. Это очарованный-то странник Иван Северьянович и соличгаличский квартальный «однодум» Александр Афанасьевич рабы?
Лесков обстоятельствами жизни был поставлен вне партий. Его умственное одиночество укрепило его огромный талант, сделало его особенным, ни на кого не похожим.
Русская критика назвала Лескова, вслед за Достоевским, «больным талантом», и читающая публика с этим легко согласилась.
Насколько здорово было само общество стало ясно через 10 лет после смерти писателя.
Чехов Антон Павлович
(1860–1904)
Современники вспоминают о Чехове как о святом – совершенно не за что зацепиться. Его жизнь сродни гражданскому подвигу Чернышевского: Чехов оказался на Сахалине, но Антона Павловича никто не ссылал, он поехал на край света сам, но зачем – никому не известно. А здоровье подкосил основательно.
Его любили животные и дети; он любил собак и лошадей, а женился отчего-то на Ольге Леонардовне Книппер, которую не любил, и она отвечала ему взаимностью.
Ускользнул от всех: от дышавшего к нему нежностью Бунина, от Горького – цепкого портретиста, от бесцеремонного Гиляровского, от Толстого, сумевшего восхититься непостижимой «Душечкой», но не умевшего разгадать Чехова.
Он написал «Крыжовник» – о несовершенстве жизни, о том, что стыдно быть счастливым и благополучным, о ничтожности человеческих желаний: купить поместье, есть собственную, не покупную ягоду.






