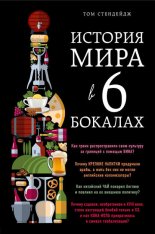Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир Брегман Рутгер
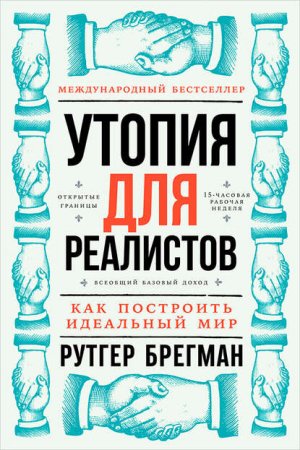
Услуги государственного сектора зачастую несут в себе множество скрытых выгод, в то время как частный сектор усеян скрытыми издержками. «Мы можем позволить себе платить больше за услуги, которые нам нужны, главным образом за здравоохранение и образование, — пишет Баумоль. — Чего мы, вероятно, не можем себе позволить, так это последствий снижения издержек».
Можно возразить, что подобные «экзогенные факторы» попросту невозможно охарактеризовать количественно, так как они требуют слишком многих субъективных допущений, но именно в этом все и дело. «Ценность» и «производительность» нельзя выразить объективно, в цифрах, даже если мы притворяемся, будто все обстоит наоборот: «У нас высокий процент выпускников, значит, мы даем хорошее образование», «У нас большая доля аудитории, значит, мы делаем хорошее телевидение», «Экономика растет, значит, дела у нашей страны идут хорошо»…
Цели нашего общества, ставящего во главу угла производительность, так же абсурдны, как и пятилетние планы бывшего СССР. Основывать политическую систему на показателях производительности — значит превратить хорошую жизнь в электронную таблицу. Как сказал писатель Кевин Келли, «производительность — для роботов. Люди превосходно умеют растрачивать время, экспериментировать, играть, исследовать и заниматься творчеством»[200].
Управление с помощью цифр — последнее средство страны, которая больше не знает, чего ей хочется, страны, лишенной видения утопии.
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» — эту желчную фразу приписывают премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли. Тем не менее я твердо верю в старый принцип Просвещения, гласящий, что решения требуют основания в виде надежных сведений и чисел.
ВВП был изобретен в период глубокого кризиса и позволил принять великие вызовы 1930-х. Теперь, когда мы столкнулись с новыми кризисами, связанными с безработицей, экономическим спадом и изменением климата, нам предстоит отыскать новый показатель. Что нам нужно, так это «приборная панель» с набором индикаторов, позволяющих следить за всем тем, что обеспечивает достойную жизнь: за деньгами и ростом, но также и за социальными службами, рабочими местами, знаниями, сплоченностью общества. И, конечно же, за самым дефицитным ресурсом — временем.
«Но такой набор индикаторов не может быть объективным!» — возможно, возразите вы. Верно. Однако нейтральных показателей не существует вовсе. За любой статистикой скрывается определенный набор предположений и предубеждений. Более того, мы руководствуемся этими цифрами и связанными с ними допущениями. Это верно не только в отношении ВВП, но и в отношении Индекса человеческого развития и Международного индекса счастья. И именно потому, что нам нужно действовать по-новому, нам нужны новые цифры, на которые мы станем ориентироваться.
«Вряд ли можно делать выводы о благополучии нации… на основании исчисления национального дохода, — заявил Саймон Кузнец конгрессу 80 лет назад. — Параметры, использующиеся для определения объема национального дохода, подвержены воздействию такой иллюзии и вытекающим из этого злоупотреблениям, особенно когда они касаются материй, являющихся предметом спора противостоящих общественных групп, в котором действенность аргумента обусловлена его чрезмерной упрощенностью»[201].
Изобретатель внутреннего валового продукта призывал не учитывать расходы на вооруженные силы, рекламу и финансовый сектор при измерении ВВП[202], но его совет не был услышан. После Второй мировой войны Кузнец все более беспокоился из-за того, что породил чудовище. «Следует помнить о различиях между количеством и качеством роста, — писал он в 1962 г., — между издержками и выручкой, между краткосрочным и долгосрочным. Задаваясь целью роста, мы должны уточнять, что должно расти и для чего»[203].
Ныне нам предстоит вернуться к этим давним вопросам. Что есть рост? Что такое прогресс? И даже, более основательно, что входит в формулу достойной жизни?
Способность разумно заполнить досуг — это последний продукт цивилизации.
Бертран Рассел (1872–1970)
Глава 6
Пятнадцатичасовая рабочая неделя
Спроси вы величайшего экономиста XX в. о том, что будет самой масштабной проблемой в XXI столетии, он ответил бы, не раздумывая.
Досуг.
Летом 1930 г., как раз когда Великая депрессия набирала обороты, британский экономист Джон Мейнард Кейнс прочитал занятную лекцию в Мадриде. Он уже обсудил кое — какие из своих новаторских идей с несколькими студентами в Кембридже и решил рассказать о них миру в коротком выступлении под заголовком «Экономические возможности наших внуков»[204].
Иными словами, для нас с вами.
Мадрид тогда переживал непростые времена. Безработица вышла из — под контроля, распространялся фашизм, Советский Союз активно вербовал сторонников. Несколько лет спустя разразится опустошительная гражданская война. Как же досуг может быть самой большой проблемой? Тем летом Кейнс казался пришельцем с другой планеты. «Сегодня мы переживаем острый приступ экономического пессимизма, — писал он. — Общим местом стали разговоры о том, что эпоха поразительного экономического прогресса, присущего XIX веку, закончилась.»
И не без причин. Бедность неистовствовала, международное напряжение росло, и только машина смерти Второй мировой войны смогла вдохнуть новую жизнь в мировую промышленность.
Выступая в городе, находящемся на краю пропасти, британский экономист отважился на контринтуитивное предсказание. К 2030 г., сказал Кейнс, человечеству будет брошен величайший вызов в истории: что делать с морем свободного времени. Если политики не допустят «катастрофических ошибок» (например, жесткой экономии во время экономического кризиса), он ожидал, что за столетие уровень жизни на Западе повысится по меньшей мере вчетверо по сравнению с 1930 г.
Вывод? В 2030-м мы будем работать всего лишь 15 часов в неделю.
Будущее, полное досуга
Кейнс не был ни первым, ни последним пророком, предвидевшим времена избыточного досуга. За полтора столетия до него отец-основатель США Бенджамин Франклин уже предсказал, что в конце концов четырехчасового рабочего дня окажется достаточно. Более того, жизнь будет состоять из «досуга и удовольствий». Карл Маркс тоже с нетерпением ждал того дня, когда общественное устройство предоставит каждому время «утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике… — не делая никого в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком».
Примерно в то же время отец классического либерализма философ Джон Стюарт Милль утверждал, что растущее богатство лучше всего использовать для того, чтобы увеличить время досуга. «Культ досуга» он противопоставлял «культу труда», провозглашенному его великим противником Томасом Карлейлем (который, что примечательно, был большим сторонником рабства). Согласно Миллю, технические усовершенствования следует применять, чтобы как можно существеннее сократить рабочую неделю. «Будет столько же возможностей для всякого рода умственной культуры, морального и общественного прогресса, — писал он, — сколько будет места совершенствованию Искусства жизни»[205].
И тем не менее промышленная революция, подстегнувшая взрывной экономический рост в XIX в., принесла то, что оказалось полной противоположностью досугу. Если английскому фермеру 1300 г., чтобы содержать себя, приходилось работать около 1500 часов в год, то во времена Милля заводской рабочий тратил вдвое больше времени, чтобы попросту выжить. В таких городах, как Манчестер, 70-часовая рабочая неделя — без отпусков и выходных — была нормой даже для детей. «Зачем беднякам выходные? — удивлялась одна британская герцогиня в конце XIX в. — Им следует работать!»[206]
Избыток свободного времени озлобляет.
Тем не менее начиная примерно с 1850 г. богатство, созданное промышленной революцией, стало просачиваться в низшие классы. А деньги — это время. В 1855-м каменщики Мельбурна, Австралия, первыми установили восьмичасовой рабочий день. К концу столетия продолжительность рабочей недели в некоторых странах составляла менее 60 часов. В 1900 г. нобелевский лауреат и драматург Джордж Бернард Шоу предсказал, что при таких темпах рабочие через 100 лет будут трудиться всего два часа в день.
Работодатели, конечно же, сопротивлялись. Когда в 1926 г. 32 видных американских бизнесменов спросили, что они думают об укорочении рабочей недели, лишь двое ответили, что считают эту идею благой. Согласно остальным тридцати, лишнее свободное время приведет только к росту преступности, долгам и вырождению[207]. И все же именно Генри Форд — титан промышленности, создатель модели Т — в том же году первым ввел пятидневную рабочую неделю.
Сначала все говорили, что он спятил. Затем последовали его примеру.
Отъявленный капиталист и создатель конвейера, Генри Форд обнаружил, что сокращение рабочей недели на самом деле повышает производительность его работников. Время на досуг, заметил он, — «объективный факт в бизнесе»[208]. Отдохнувший работник — более эффективный работник. И, кроме того, рабочий, мающийся на фабрике от рассвета до заката, не имеющий свободного времени на поездки и прогулки, никогда не купит одну из его машин. Как Форд сказал одному журналисту, «пора избавиться от представления, будто досуг для рабочего — это либо потерянное время, либо классовая привилегия»[209].
Всего за десятилетие критики были переубеждены. Национальная ассоциация промышленников (НАП), 20 годами ранее пред упреждавшая о том, что сокращение рабочей недели разрушит экономику, теперь гордо объявляла, что в США самая короткая рабочая неделя в мире. В новообретенные часы досуга рабочие проезжали на своих «фордах» мимо рекламных щитов НАП, гласящих, что «нет пути, подобного тому, которым идет Америка»[210].
Все, казалось, указывало на то, что великие умы от Маркса до Милля и от Кейнса до Форда должны оказаться правы.
В 1933 г. сенат США одобрил проект закона, устанавливающего 30-часовую рабочую неделю. Хотя из-за давления со стороны промышленников законопроект застрял в палате представителей, сокращение рабочей недели оставалось приоритетом профсоюзов. В 1938 — м закон о пятидневной рабочей неделе был наконец-то принят. В следующем году одной из самых популярных в США стала народная песенка об утопической стране, в которой «куры несут вареные яйца», сигареты растут на деревьях, а «тот придурок, что придумал работать», повешен на самом высоком дереве.
После Второй мировой войны время досуга продолжало неуклонно увеличиваться. В 1956 г. вице-президент Ричард Никсон пообещал, что «в не столь отдаленном будущем» американцы будут работать лишь четыре дня в неделю. Страна достигла «плато процветания», и он был убежден в том, что сокращение рабочей недели неизбежно[211]. Что вскоре всю работу будут выполнять машины. При этом, восторгался один английский профессор, должно «в изобилии высвободиться время для отдыха, позволяющее погрузиться в творчество, искусство, театр, танцы и воспользоваться сотнями других способов снятия ограничений повседневной жизни»[212].
Смелое предсказание Кейнса стало трюизмом. В середине 1960-х комитет сената высказал в своем докладе предположение, что к 2000 г. рабочая неделя сократится всего до 14 часов, с как минимум семинедельным ежегодным отпуском. Корпорация РЭНД, влиятельный экс — пертно-аналитический центр, пророчила будущее, в котором всего 2 % населения смогут производить все необходимое обществу в целом[213]. Вскоре все рабочие места будут предназначены только для элиты.
Летом 1964 г. New York Times попросила великого писателя-фантаста Айзека Азимова предсказать будущее[214]. Каким станет мир через 50 лет? О чем-то Азимов говорил осторожно: «В 2014 г. роботы не будут ни распространены, ни очень умелы». Но в иных отношениях он ожидал многого — автомобилей, рассекающих воздух, и городов, построенных под водой.
И все же одна вещь его волновала: распространение скуки. Человечество, писал он, станет «по большей части расой, обслуживающей машины», и у этого будут «серьезные ментальные, эмоциональные и социологические последствия». К 2014 г. психиатрия станет самой распространенной медицинской специальностью, так как миллионы людей будут тонуть в море «вынужденного досуга». «”Работа”, — писал он, — станет самым прекрасным словом в словаре».
В 1960-х все больше мыслителей стали высказывать свои опасения. Лауреат Пулитцеровской премии Себастьян де Грасиа сказал Associated Press: «Есть причины опасаться того… что свободное время, принудительное свободное время, вызовет неутолимую скуку, безделье, аморальность и рост насилия над личностью». А в 1974 г. министерство внутренних ресурсов США забило тревогу, заявляя, что «досуг, который многие считают синонимом рая, может стать самой сложной задачей будущего»[215].
Несмотря на эти опасения, мало кто сомневался в том, каков будет ход истории. Примерно к 1970 г. социологи уверенно говорили о неизбежном «конце работы». Человечество стояло на пороге настоящей революции досуга.
Знакомьтесь, перед вами Джордж и Джейн Джетсон. Это честная пара, живущая со своими двумя детьми в просторной квартире в Орбит-Сити. Муж работает в большой компании оператором роботов; жена — традиционная американская домохозяйка. Джорджа мучают кошмары о работе. И неудивительно. Его обязанность — время от времени нажимать на одну-единственную кнопку, притом что босс — мистер Спейсли, низкий, пухлый и с внушительными усами, — тиран.
«Вчера я проработал целых два часа!» — жалуется Джордж после очередного кошмарного сна. Джейн потрясена: «Он что, считает тебя двужильным?»[216]
Рабочая неделя в Орбит-Сити составляет в среднем девять часов. К сожалению, этот город существует только в телевизоре, в рамках «самого влиятельного футуристического произведения XX в.» — «Джетсоны»[217]. Мультсериал вышел в 1962 г., а его действие происходит в 2062 — м; по сути, это «Флинстоны» в будущем. Его показывали бессчетное количество раз, и на «Джетсонах» выросло уже не одно поколение.
Сегодня, 50 лет спустя, многие предсказания создателей ситкома о 2062 г. уже сбылись. Робот-уборщик? Сделано. Солярий? Ага. Сенсорный экран? Готово. Видеотелефон? А как же. Но в иных отношениях нам еще далеко до Орбит-Сити. Когда уже появятся летающие машины? И самодвижущихся тротуаров что — то не видно.
Но что действительно разочаровывает, так это то, что времени для досуга не прибавилось.
В 1980-х гг. сокращение рабочей недели застопорилось. Экономический рост привел к тому, что стало больше не времени для досуга, а продукции. В Австралии, Австрии, Англии, Испании и Норвегии рабочая неделя вообще перестала укорачиваться[218]. В США она даже выросла. Через 70 лет после принятия в Америке закона о 40-часовой рабочей неделе три четверти работников трудилось здесь более 40 часов в неделю[219].
И это не все. Даже в тех странах, где наблюдалось сокращение индивидуальной рабочей недели, свободного времени у семей становилось все меньше. Почему? Это связано с самым важным изменением за последние десятилетия — переломом, связанным с развитием феминизма.
Футуристы ничего подобного не предсказывали. В конце концов, Джейн Джетсон из 2062 — го все еще была послушной домохозяйкой. В 1967 г. Wall Street Journal предположила, что доступность роботов позволит мужчине XXI в. часами отдыхать дома на диване со своей женой[220]. Никто не ожидал того, что к январю 2010-го, впервые после того как мужчин мобилизовали на Вторую мировую войну, основную часть рабочей силы в США будут составлять женщины. В 1970-х их доход составлял 2–6% от семейного; сейчас он достигает 40 %[221].
Эта революция произошла с головокружительной быстротой. Если учесть неоплачиваемый труд, то женщины в Европе и Северной Америке работают больше мужчин[222]. «Моя бабушка не имела даже права избирать, у моей мамы не было противозачаточных таблеток, а у меня нет времени» — так описала ситуацию одна нидерландская комедийная актриса[223].
Когда женщины пошли на штурм рынка труда, мужчины должны были начать работать меньше (и больше готовить, заниматься домом и заботиться о своей семье). Но этого на самом деле не произошло. В 1950-х гг. пары работали в общей сложности пять — шесть дней в неделю, в то время как сегодня — скорее семь-восемь. При этом воспитание детей стало отнимать гораздо больше времени. Результаты исследований показывают, что во многих странах родители посвящают своим детям существенно больше времени[224]. Сегодня в США работающие матери проводят с детьми больше времени, чем матери-домохозяйки 1970-х[225].
Количество рабочих часов в год на душу населения стало резко снижаться в конце XIX в. Однако после 1980-го данные более не показательны, так как численность женщин в составе рабочей силы существенно возросла. Вследствие этого семьям стало все сильнее не хватать времени, хотя количество рабочих часов на одного работника все еще снижается в некоторых странах.
Источник: Международная организация труда
Даже граждане Нидерландов — страны с самой короткой рабочей неделей в мире — чувствуют возрастающий с 1980-х гг. груз работы, переработки, работы по дому и получения образования. В 1985-м эта деятельность отнимала 43,6 часа в неделю; в 2005-м — 48,6 часа[226]. Три четверти работников Нидерландов страдают от нехватки времени, четверть обычно работает сверхурочно, а у каждого восьмого проявляются симптомы выгорания[227].
Более того, работу все труднее отделить от досуга. Исследование, проведенное Гарвардской бизнес-школой, показало, что благодаря современным технологиям руководители и специалисты в Европе, Азии и Северной Америке проводят от 80 до 90 часов в неделю «за работой либо “следят” за работой и остаются на связи»[228]. Согласно же корейскому исследованию, из — за смартфонов средний работник трудится дополнительные 11 часов в неделю[229].
Можно с уверенностью сказать, что прогнозы великих не вполне сбылись. Даже близко не приблизились к реальности. Азимов, возможно, был прав в том, что в 2014 г. «работа» станет самым примечательным словом в нашем словарном запасе, но совершенно не по тем причинам. Нам не скучно до смерти; мы вусмерть заработались. Армия психологов и психиатров борется не с распространяющейся скукой, а с эпидемией стресса.
Пророчество Кейнса уже давным — давно сбылось. Около 2000 г. такие страны, как Франция, Нидерланды и США, были впятеро богаче, чем в 1930 г.[230] И тем не менее самым серьезным вызовом нашего времени являются не досуг и скука, а стресс и неопределенность.
«Там деньги приносят хорошую жизнь, — воодушевленно описывал средневековый поэт мифическую Страну изобилия Кокань, — и самые богатые — те, кто дольше прочих спит»[231]. В Кокани год представляет собой бесконечную череду праздников: Пасха, Троицын день, День св. Иоанна, Рождество следуют друг за другом по кругу. Всякого желающего работать запирают в погребе. Даже произнести слово «работа» — уже серьезное преступление.
Как ни странно, люди Средневековья, вероятно, были ближе нас к вожделенной праздности Страны изобилия. В 1300 г. календарь был полон праздников и празднеств. По оценкам гарвардского экономиста и историка Джульет Шор, праздничные дни составляли не менее одной трети года: в Испании целых пять месяцев, а во Франции — почти шесть. Крестьяне в основном работали ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы прокормиться, — и не больше. «Жизнь текла медленно, — пишет Шор. — Наши предки, может, и не были богаты, но у них было предостаточно свободного времени»[232].
Так куда же подевалось все это время?
На самом деле ответ простой. Время — деньги. Экономический рост позволяет либо больше отдыхать, либо больше потреблять. С 1850 по 1980 г. нам удавалось получить и то и другое, но после 1980-го росло по большей части только потребление. Даже там, где реальные доходы перестали увеличиваться и усилилось неравенство, безудержное потребление продолжилось, уже в кредит.
И именно это и было главным доводом против сокращения рабочей недели: «Мы не можем себе такого позволить». Больше досуга — чудесный идеал, но он попросту слишком дорог. Если мы все станем работать меньше, наш уровень жизни обрушится.
Но так ли это?
В начале XX в. Генри Форд провел ряд экспериментов, показавших, что производительность рабочих его завода наиболее высока при 40 — часовой рабочей неделе. Дополнительные 20 часов работы оправдывают себя в течение еще четырех недель, но после этого производительность снижается.
Эксперименты Форда были продолжены другими. 1 декабря 1930 г., когда бушевала Великая депрессия, изобретатель кукурузных хлопьев магнат У. К. Келлог решил ввести на своей фабрике в Батл-Крик, штат Мичиган, шестичасовой рабочий день. Затея оказалась невероятно успешной: Келлог смог нанять еще 300 рабочих, а число несчастных случаев сократилось на 41 %. Более того, производительность его работников заметно повысилась. «Это для нас не просто теория, — гордо рассказал Келлог местной газете. — Себестоимость единицы продукции понизилась настолько, что за шесть часов мы можем платить столько же, сколько раньше платили за восемь»[233].
Для Келлога, как и для Форда, укорочение рабочей недели было просто вопросом эффективного ведения бизнеса[234]. А вот для жителей Батл-Крик оно сыграло куда более важную роль. У них, писали в местной газете, впервые появился «настоящий досуг»[235]. Родители смогли больше времени проводить с детьми. Люди начали больше читать, заниматься садоводством или спортом. Вдруг церкви и общественные центры заполонили горожане, у которых высвободилось время на частную жизнь[236].
Почти полстолетия спустя премьер — министр Великобритании Эдвард Хит тоже обнаружил преимущества капитализма кукурузных хлопьев, хотя и не ставил перед собой такой цели. В конце 1973 г. он пребывал в растерянности. Инфляция достигла рекордных высот, государственные расходы взлетели до небес, профсоюзы ни в какую не хотели идти на какой бы то ни было компромисс. Как будто этого было мало, забастовали шахтеры — и ввиду нехватки угля британцам пришлось убавить мощность отопления и напялить самые теплые свитера. Наступил декабрь, но даже рождественская елка на Трафальгарской площади не была подсвечена.
Хит решился на радикальные меры. 1 января 1974 г. он ввел трехдневную рабочую неделю. Наемным работникам запрещалось пользоваться электричеством больше чем три дня в неделю, пока не будут восстановлены запасы топлива. Стальные магнаты предсказывали обрушение промышленного производства на 50 %. Министры страшились катастрофы. В марте 1974 — го, после возвращения пятидневной рабочей недели, чиновники выяснили, насколько уменьшились объемы производства. Они не могли поверить своим глазам: общее сокращение составило 6 %[237].
Форд, Келлог и Хит обнаружили, что время работы и производительность не идут рука об руку. В 1980-х гг. сотрудники Apple носили футболки с надписью: «Работаю 90 часов в неделю, и мне это нравится!» Позже эксперты по производительности подсчитали, что, если бы они работали вдвое меньше, мир получил бы передовой компьютер Macintosh годом раньше[238].
Есть серьезные признаки того, что для современной экономики знаний даже 40 — часовая рабочая неделя избыточна. Исследования показывают, что человек, который постоянно задействует свои творческие способности, в среднем может быть продуктивен не более шести часов в день[239]. Не случайно самые короткие рабочие недели установлены в самых богатых странах с многочисленным креативным классом и высокообразованным населением.
Недавно один мой друг спросил меня: «От каких проблем мы избавимся, работая меньше?»
Я бы сформулировал этот вопрос наоборот: «Есть ли хотя бы одна проблема, от которой мы неизбавимся, работая меньше?»
Стресс? Бесчисленные исследования показали, что люди, работающие меньше, более довольны своей жизнью[240]. Недавний опрос работающих женщин даже позволил немецким исследователям определить, как строится «идеальный день». Самая большая часть дня (106 минут) посвящена «интимным отношениям». «Общению» (82), «расслаблению» (78) и «питанию» (75) также уделяется много времени. В конце списка находились «воспитание детей» (46), «работа» (36) и «дорога» (33). Исследователи сухо отметили, что «для того, чтобы максимизировать благополучие, вероятно, работа и потребление (повышающие ВВП) должны играть меньшую роль в повседневной деятельности человека по сравнению с нынешним положением дел»[241].
Изменение климата? Всемирный переход к более короткой рабочей неделе мог бы снизить выбросы CO2 в этом веке вдвое[242]. Страны с более короткой рабочей неделей меньше вредят окружающей среде[243]. Для того чтобы начать меньше потреблять, нужно начать меньше работать, а еще лучше — начать потреблять наше благосостояние в форме досуга.
Несчастные случаи? Сверхурочная работа смертельно опасна[244]. Длинные рабочие дни приводят к росту числа ошибок: рука усталого хирурга не так тверда, а недосыпающий солдат чаще бьет мимо цели. Чернобыль, космический шаттл «Челленджер» — перегруженность менеджеров зачастую оказывается главным фактором подобных катастроф. Не случайно финансовый сектор, ставший причиной крупнейшего бедствия прошлого десятилетия, просто завален сверхурочной работой.
Безработица? Очевидно, нельзя попросту разделить трудовые обязанности на несколько частей. Рынок труда не похож на игру в музыкальные стулья, в которой любой участник имеет возможность сесть на любое место; мы не можем попросту «принести побольше стульев». Тем не менее исследователи из Международной организации труда заключили, что распределение рабочих заданий — когда двое работающих неполный рабочий день выполняют работу, которую обычно делает один человек, работающий целый день, — во многом помогло выйти из последнего кризиса[245]. Деление рабочих мест способно смягчить удар, особенно во время рецессии, на пике безработицы, когда предложение превышает спрос[246].
Эмансипация женщин? Страны с короткой рабочей неделей уверенно лидируют в рейтингах гендерного равенства. Ключевой фактор — как можно более справедливое распределение функций. Только когда мужчины начнут вносить вклад в готовку, уборку и прочую работу по дому, женщины смогут полноценно участвовать в экономике. Иными словами, эмансипация женщин — задача мужчин. Однако значение имеет не только выбор каждого отдельного мужчины: весьма существенную роль играет законодательство. Меньше всего разрыв между женщинами и мужчинами в Швеции — стране с превосходной системой заботы о детях и отпусками по уходу за ребенком для мужчин. Такой отпуск особенно важен: мужчины, находившиеся дома в течение нескольких недель после рождения ребенка, впоследствии проводят больше времени со своими женами, детьми и за кухонной плитой. Причем этот эффект сохраняется — готовы? — всю их оставшуюся жизнь. В Норвегии мужчины, уходящие в отпуск по уходу за ребенком, на 50 % чаще делят обязанности по стирке со своими женами[247]. В Канаде они проводят больше времени за работой по дому и ухаживая за детьми[248]. Отпуск по уходу за детьми для мужчин — это троянский конь, способный решающим образом повлиять на исход борьбы за равенство полов[249].
Старение населения? Все больше пожилых людей хотят продолжать трудовую деятельность даже после достижения пенсионного возраста. Но в то время как 30 — летние и те, кто чуть постарше, стонут от работы, семейной ответственности и ипотеки, пожилые никак не могут получить работу, даже когда она им по силам. Так что следует более равномерно распределять рабочие места не только между полами, но и между поколениями. Молодые, начинающие сегодня трудовую карьеру, вполне могут проработать до 80-летнего возраста. Но для этого они могли бы работать не по 40 часов в неделю, а по 30 или даже 20. «В XX веке имело место перераспределение богатства, — отмечал один из ведущих демографов. — Полагаю, что в этом столетии произойдет великое перераспределение рабочих часов»[250].
Неравенство? Самые длинные рабочие недели именно в тех странах, где блага распределены наиболее неравномерно. Если бедные работают все больше, чтобы просто прокормиться, богатые считают, что отпуск и выходные обходятся им теперь дороже, поскольку они стали больше зарабатывать за час.
В XIX в. типичный богач попросту отказывался закатывать рукава. Труд был уделом крестьян. Чем больше человек работал, тем он, следовательно, был беднее. С тех пор положение изменилось. Сегодня наличие у человека множества рабочих дел — признак его статуса. Нытье о том, что работы слишком много, зачастую является скрытой попыткой показаться важным и интересным. Когда есть время на себя, это скорее говорит об отсутствии работы и лени, по крайней мере в тех странах, где разрыв между богатыми и бедными велик.
Почти столетие назад наш давний друг Джон Мейнард Кейнс сделал еще один удивительный прогноз.
Кейнс понимал, что крушение рынка акций в 1929 г. не уничтожило мировую экономику. Производители по-прежнему могли поставлять столько же продукции, что и за год до этого; просто спрос на многие продукты упал. «Мы страдаем не от ревматизма, поражающего людей в почтенном возрасте, — писал Кейнс, — а от болезни роста — от слишком стремительных перемен».
Почти 80 лет спустя мы столкнулись точно с такой же проблемой. Дело не в том, что мы бедны, а в том, что нам не хватает оплачиваемой работы. И, вообще-то говоря, это хорошая новость.
Она означает, что мы можем приготовиться к решению величайшей задачи из числа стоявших перед нами: заполнению целого моря свободного времени. Очевидно, 15-часовая рабочая неделя все еще остается далекой утопией. Кейнс предсказал, что к 2030 г. экономисты будут играть лишь второстепенную роль «на одном уровне с дантистами». Но сегодня день, когда эта мечта станет реальностью, кажется как никогда далеким. Экономисты доминируют в СМИ и политике. Мечта о короткой рабочей неделе тоже растоптана. Вряд ли кто — то из политиков готов ее поддержать, даже с упором на рекордные уровни безработицы.
Но Кейнс не был безумцем. В его время рабочая неделя быстро сокращалась, и ученый просто экстраполировал в будущее эту начавшуюся около 1850 г. тенденцию. «Конечно, все произойдет постепенно, — уточнял он, — катастрофы не будет». Представьте себе, что революция досуга начнет набирать обороты в этом веке. Даже в условиях медленного экономического роста мы, жители Страны изобилия, могли бы работать меньше 15 часов в неделю уже к 2050 г., зарабатывая столько же, сколько в 2000-м[251].
Если мы действительно можем это осуществить, то пора начинать готовиться.
Сначала мы должны спросить себя: а действительно ли мы этого хотим?
Оказывается, опросы на эту тему уже проводились. Наш ответ: да, очень хотим. Ради того, чтобы иметь больше свободного времени, мы готовы даже поступиться нашей драгоценной покупательной способностью[252]. Однако стоит отметить, что последнее время грань между работой и досугом размылась. Работа ныне зачастую воспринимается как своего рода хобби, а то и ключевой аспект нашей личности. В своей классической книге «Теория праздного класса» (1899) социолог Торстейн Веблен описывал досуг как еще пока признак элиты. Но то, что раньше относилось к досугу (искусства, спорт, наука, забота, филантропия), сегодня считается работой.
Ясно, что в современной Стране изобилия по — прежнему полно низкооплачиваемой, неприятной работы. А высокооплачиваемая работа зачастую рассматривается как не особенно полезная. И все же цель — не дожидаться с нетерпением конца рабочей недели. Совсем наоборот. Настало время, чтобы женщины, бедняки и пожилые получили шанс делать больше, а не меньше хорошей работы. Стабильная и осмысленная работа играет ключевую роль в любой хорошо прожитой жизни[253]. И наоборот, вынужденный досуг — увольнение — это катастрофа.
Психологи продемонстрировали, что, когда у человека нет работы, это подрывает его благополучие сильнее, чем развод или потеря близкого[254]. Время лечит любые раны, кроме отсутствия работы. Ведь чем дольше вы находитесь на обочине, тем глубже вы сползаете в кювет.
Но какую бы важную роль ни играла работа в нашей жизни, люди по всему миру, от Японии до США, жаждут сокращения рабочей недели[255]. Когда американские ученые опросили работников с целью выяснить, чего те хотели бы больше — прибавки, эквивалентной двум неделям работы, или двухнедельного отпуска, — дополнительное время отдыха предпочли вдвое больше респондентов. Отвечая на вопрос британских исследователей, что лучше — выиграть в лотерею или поменьше работать, опять же вдвое больше участников опроса выбрали снижение рабочей нагрузки[256].
Все данные говорят о том, что мы не можем обойтись без ежедневной внушительной порции «безработности». Если мы будем работать меньше, нам станет более доступно то, что нам также важно: семья, общественная деятельность, развлечения и отдых. Не случайно в странах с самыми короткими рабочими неделями самое большое количество добровольцев и самый большой социальный капитал.
Теперь, когда мы знаем, что хотим работать меньше, встает второй вопрос: как нам этого добиться?
Мы не можем попросту взять и переключиться на 20-или 30-часовую рабочую неделю. Сначала идею сокращения количества рабочих часов следует возродить в качестве политического идеала. Затем мы можем сокращать рабочую неделю шаг за шагом, меняя деньги на время, вкладывая больше денег в образование, развивая более гибкую пенсионную систему и создавая правовые основы для отпусков по уходу за ребенком для мужчин.
Все начинается с изменения системы вознаграждений. Сейчас работодателям дешевле держать одного работника, работающего сверхурочно, чем нанять двоих на полставки[257]. Это объясняется тем, что многочисленные затраты на рабочую силу, такие как медицинское обес — печение, рассчитываются на одного работника, а не исходя из часа работы[258]. Кроме того, мы как индивиды попросту не можем в одностороннем порядке решить работать меньше. Поступив так, мы рискуем утратить статус, упустить карьерные возможности и в конце концов вовсе потерять работу. Недаром сослуживцы следят друг за другом: кто пробыл на рабочем месте дольше всех? Кто отработал больше часов? В конце рабочего дня почти в каждом офисе можно увидеть за столами уставших сотрудников, бесцельно просматривающих в Facebook профили незнакомых им людей и дожидающихся, когда кто-нибудь из коллег встанет и первым уйдет из офиса.
Для того чтобы разорвать этот порочный круг, понадобится действовать коллективно — компаниями, а еще лучше — странами.
Когда в ходе написания этой книги я говорил людям, что пытаюсь найти решение самой серьезной проблемы нынешнего столетия, это вызывало у них живейший интерес. Не о террористах ли я пишу? Не об изменениях климата? Может быть, о третьей мировой войне?
Когда же я начинал говорить о досуге, их разочарование было прямо — таки осязаемым. «Мы же попросту приклеимся к телевизорам, разве нет?»
Мне это напоминало о строгих священниках и купцах XIX в., которые считали, что простонародье не в состоянии правильно распорядиться ни правом голоса, ни достойной заработной платой, ни тем более досугом, и выступали за 70-часовую рабочую неделю как за действенный инструмент борьбы с алкоголизмом. Но ирония заключается в том, что именно в промышленных городах, где приходится слишком много работать, все больше и больше людей ищут спасения в бутылке.
Сегодня другие времена, но кое-что не изменилось: в перегруженных работой странах, таких как Япония, Турция и, конечно, Соединенные Штаты, слишком много смотрят телевизор. В США — до пяти часов в день; за жизнь успевает набежать девять лет. Американские дети проводят перед телевизором в полтора раза больше времени, чем в школе[259].
Однако настоящий досуг — не роскошь и не порок. Он жизненно необходим нашему мозгу — так же, как нашему телу требуется витамин C. Никто на смертном одре не думает: «Если бы я только поработал еще несколько часов в офисе и чуть больше посидел перед ящиком». Конечно, правильно использовать море свободного времени будет непросто. Образовательные учреждения XXI в. должны учить не только трудиться, но и жить, что гораздо важнее. «Если люди не будут утомлены в свободное время, — писал в 1923 г. философ Бертран Рассел, — им подойдут не только пассивные и пустые развлечения»[260].
Мы сможем распорядиться такой хорошей жизнью, но для этого нам понадобится время.
Работа — прибежище людей, у которых нет лучшего занятия.
Оскар Уайльд (1854–1900)
Глава 7
Почему не стоит быть банкиром
Густой туман окутал парк у здания нью-йоркской мэрии на рассвете 2 февраля 1968 г.[261] Здесь собрались 7000 городских дворников, готовых взбунтоваться. Представитель профсоюза Джон ДеЛери обращается к собранию, стоя на крыше грузовика. Когда он объявил, что мэр отказывается идти на дальнейшие уступки, гнев толпы приблизился к точке кипения. Увидев, что люди начали бросаться тухлыми яйцами, ДеЛери осознал, что время компромиссов кончилось. Настало время выйти за рамки закона — но этот путь дворникам заказан по той простой причине, что выполняемая ими работа слишком важна.
Время бастовать.
На следующий день в Большом Яблоке мусор остался не убран. Почти все бригады дворников города не вышли на работу. «Нас никогда не уважали, и меня это не волновало, — цитирует одного дворника местная газета. — А теперь волнует. Люди обращаются с нами как с грязью».
Два дня спустя, когда мэр решил посмотреть, что происходит, город был уже по колено завален мусором и отбросы продолжали прибывать по 10 000 тонн в сутки. По улицам заструилась мерзкая вонь, крысы стали появляться даже в самых престижных районах. Всего за несколько дней один из самых привлекательных городов мира стал похож на трущобы. Впервые с эпидемии полиомиелита в 1931 г. городские власти объявили чрезвычайное положение.
И все же мэр отказывался уступать. Его поддерживала местная пресса, которая изображала бастующих жадными нарциссами. Лишь через неделю начало приходить понимание того, что победа за мусорщиками. «Нью-Йорк беззащитен перед ними, — в отчаянии заявляли авторы передовиц в New York Times. — Величайший из городов вынужден сдаться либо утонуть в нечистотах». На девятый день забастовки, когда мусора накопилось уже под 100 000 тонн, уборщики добились своего. «Недавний шаг Нью — Йорка к хаосу показал, что бастовать выгодно»[262], — писали позже в Time.
Возможно, это так, но не для каждой профессии.
Вообразите, например, что все 100 000 вашингтонских лоббистов завтра начнут бастовать[263]. Или что дома решат остаться все налоговые бухгалтеры Манхэттена. Кажется маловероятным, что мэр объявит чрезвычайное положение. На самом деле вряд ли какой-то из этих сценариев чреват большими неприятностями. А о забастовке, скажем, консультантов по продвижению в соцсетях, телемаркетологов или специалистов по высокочастотной торговле даже в новостях вряд ли объявят.
То ли дело когда речь заходит о дворниках. Как ни посмотри, они делают то, что нам необходимо. А неприятная правда в том, что все больше людей выполняют работу, без которой мы запросто обошлись бы. Перестань они вдруг трудиться, мир не станет ни беднее, ни уродливее, ни как-либо еще хуже. Возьмите скользких торгашей с Уолл-стрит, набивающих карманы за счет очередного пенсионного фонда. Возьмите ушлых юристов, способных затянуть корпоративное судебное разбирательство до скончания дней. Или талантливого рекламного борзописца, чей слоган года навсегда выводит конкурента из игры.
Вместо того чтобы создавать богатство, эти люди всего лишь перераспределяют его.
Конечно, четкой грани между теми, кто создает блага, и теми, кто их перераспределяет, нет. Нельзя отрицать того, что финансовый сектор вносит вклад в наше благосостояние и при этом смазывает шестерни остальных секторов. Банки помогают разделять риски и поддерживают людей с перспективными идеями. И все же ныне банки стали столь велики, что во многом попросту перетасовывают богатство, а то и разрушают его. Вместо того чтобы увеличить размер пирога, взрывное расширение банковского сектора увеличило долю, которую он оставляет себе[264].
Или возьмем профессию юриста. Само собой разумеется, что закон необходим для процветания страны. Сегодня в США в 17 раз больше юристов на душу населения, чем в Японии; делает ли это американский закон во столько же раз более эффективным, чем японский?[265] Стали ли американцы в 17 раз более защищенными? Вовсе нет. Некоторые адвокатские конторы даже завели обыкновение скупать патенты на продукты, которые они не собираются производить, только ради того, чтобы иметь возможность подавать иски о нарушении их патентных прав.
Причем оказывается, что именно те виды деятельности, которые нацелены на перераспределение денег и практически не создают прибавочной стоимости, оплачиваются лучше всего. Это удивительное, парадоксальное положение дел. Как получается, что проводникам процветания — учителям, полицейским, врачам — платят так мало, в то время как у малозначащих, избыточных и даже разрушительных посредников дела идут так хорошо?
Возможно, пролить свет на эту головоломку поможет история.
Вплоть до эпохи, начавшейся несколько веков назад, почти все население планеты трудилось в области сельского хозяйства. Из — за этого богатый высший класс был волен бездельничать, жить на свои личные средства и воевать — все эти хобби не создают богатства; в лучшем случае перераспределяют его, а в худшем — разрушают. Всякий дворянин голубых кровей гордился своим образом жизни, дающим немногим счастливчикам наследственное право набивать карманы за счет других. Работа? Это для крестьян.
В те дни, до промышленной революции, забастовка фермеров парализовала бы всю экономику. В наши дни различные графики, диаграммы и схемы указывают на то, что все изменилось. Доля сельского хозяйства в экономике ничтожна. Действительно, в США финансовый сектор в семь раз больше сельскохозяйственного сектора.
Значит ли это, что забастовка фермеров поставит нас в менее затруднительное положение, чем забастовка банкиров? (Нет, совсем наоборот.) И, кроме того, разве производство сельскохозяйственных продуктов не выросло в последние годы? (Да, конечно.) И что, зарабатывают ли сегодня фермеры как никогда много? (К сожалению, нет.) Видите ли, при рыночной экономике все работает с точностью до наоборот. Чем больше продукции производится, тем ниже цена. В том-то и загвоздка. На протяжении последних десятилетий поставки продовольствия значительно выросли. В 2010 г. американские коровы дали вдвое больше молока по сравнению с 1970 г.[266] За то же время урожаи пшеницы также удвоились, а помидоров — утроились. Чем лучше чувствует себя сельское хозяйство, тем меньше мы хотим за него платить. Сегодня еда на наших столах дешевле грязи.
В этом и заключается экономический прогресс. С ростом эффективности ферм и заводов их доля в экономике падала. И чем производительнее становились сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, тем меньше работников им требовалось. В то же время это изменение приводило к росту сектора услуг. Но прежде чем получить работу в этом новом мире консультантов, бухгалтеров, программистов, советников, брокеров и юристов, нам сначала следовало приобрести соответствующую квалификацию.
Этот рост породил огромное богатство.
Как ни странно, он также породил систему, в которой все больше людей могут зарабатывать деньги, не внося ощутимый вклад во всеобщее благосостояние. Назовем это парадоксом прогресса: здесь, в Стране изобилия, чем богаче и умнее мы становимся, тем проще без нас обойтись.
«ЗАКРЫТИЕ БАНКОВ»
Такая заметка появилась 4 мая 1970 г. в Irish Independent. После долгих, но бесплодных переговоров о заработной плате, не поспевающей за инфляцией, сотрудники ирландского банка решили объявить забастовку.
Внезапно 85 % запасов страны оказались недоступны. Все указывало на то, что забастовка может затянуться, и предприятия по всей Ирландии начали придерживать наличность. Через две недели после начала забастовки Irish Times сообщила, что половина из 7000 банкиров страны уже забронировала авиабилеты в Лондон, где они собираются искать новую работу.
Поначалу эксперты предсказывали, что жизнь в Ирландии остановится. Сначала иссякнут запасы наличности, затем остановится торговля и наконец ударит безработица. «Вообразите себе, что все вены в вашем теле вдруг стали сжиматься и разрушаться, — так описывал царящие страхи один экономист, — и тогда вы поймете, что видят экономисты в закрытии банков»[267]. На пороге лета 1970 г. Ирландия готовилась к худшему.
А затем произошло нечто странное. Или, точнее, не произошло вообще ничего.
В июле лондонская Times сообщила, что «доступные цифры и тенденции указывают на то, что этот конфликт пока не оказал неблагоприятного влияния на экономику». Несколькими месяцами позже Центральный банк Ирландии составил баланс. «Ирландская экономика продолжила функционировать достаточно продолжительное время с закрытыми для бизнеса основными банками», — заключил он. Более того, экономика продолжила расти.
В итоге забастовка длилась ровно полгода — в 20 раз дольше забастовки нью-йоркских мусорщиков. Но если по ту сторону Атлантики уже через шесть дней было введено чрезвычайное положение, то Ирландия без банкиров прекрасно продержалась целых шесть месяцев. «Я толком ничего не могу вспомнить о забастовке банкиров прежде всего потому, что она не оказала ощутимого влияния на повседневную жизнь»[268], — рассказывал ирландский журналист в 2013 г.
Но чем же они пользовались вместо денег, без банкиров — то?
Все просто: ирландцы стали выпускать собственные наличные. После закрытия банков они продолжили, как обычно, выписывать друг другу чеки, которые, однако, больше было нельзя обналичить в банке. Пустующее место занял другой торговец ликвидными активами — ирландский паб. Во времена, когда ирландец по меньшей мере трижды в неделю заходил в местный паб выпить пинту, все — и особенно бармен — прекрасно понимали, кому можно доверять. «Управляющие этими розничными точками и общественными заведениями были хорошо осведомлены о материальном положении своих клиентов, — объясняет экономист Антуан Мерфи. — В конце концов, нельзя годами подавать человеку напитки и ничего не узнать о его ликвидных средствах»[269].
Люди мгновенно создали полностью децентрализованную денежную систему с одиннадцатью тысячами пабов в качестве ключевых узлов и с обычным доверием в качестве основополагающего механизма. К моменту открытия банков в ноябре ирландцы напечатали невероятные 5 млрд самодельной валюты. Часть чеков была выпущена компаниями, иные были нацарапаны на тыльной стороне сигаретных пачек, а то и на туалетной бумаге. Согласно историкам, ирландцы смогли обойтись без банкиров благодаря своей сплоченности.
Так что, проблем вовсе не было?
Нет, конечно, они были. Возьмите парня, купившего скаковую лошадь в кредит, а затем уплатившего долг деньгами, которые выиграл, когда его лошадь пришла первой, то есть по сути сыграв на чужие деньги[270]. Это очень похоже на то, чем сегодня занимаются банки, только в меньшем масштабе. Во время забастовки ирландским компаниям было труднее раздобыть капитал для крупных инвестиций. В действительности сам факт, что люди начали самостоятельно проводить банковские операции, ясно показывает, что они не могли обойтись без какого-то рода финансового сектора.
Но они смогли прекрасно обойтись без лапши на ушах, рисковых спекуляций, сверкающих небоскребов и огромных бонусов, выплачиваемых из карманов налогоплательщиков. «Возможно, очень возможно, — предполагает писатель и экономист Умар Хак, — люди нужны банкам гораздо больше, чем банки нужны людям»[271].
Как разителен контраст между этой забастовкой и той, что прошла двумя годами ранее за три с половиной тысячи километров. Ньюйоркцы в отчаянии смотрели, как их город превращается в свалку, ирландцы же стали сами себе банкирами. Нью-Йорк заглянул в бездну уже через шесть дней, а в Ирландии все шло своим чередом и через полгода.
Давайте только сначала кое-что уточним. Делать деньги, не создавая ничего ценного, ни в коем случае не просто. Это требует таланта, амбиций и мозгов. Мир банковской деятельности переполнен умными людьми. «Гений великого спекулятивного инвестора в том, чтобы увидеть то, чего другие еще пока не видят, — объясняет экономист Роджер Бутл. — Это навык. Как и способность стоять на мыске одной ноги c полным чайником на голове, не теряя равновесия и не проливая ни капли»[272].
Иными словами, тот факт, что нечто является сложным, не делает это автоматически ценным.
В последние десятилетия умники изобрели самые разнообразные комплексные финансовые продукты, не создающие богатство, а уничтожающие его. По сути, эти продукты являются для всего остального населения налогом. Как вы думаете, кто платит за все эти костюмы индивидуального пошива, просторные имения и роскошные яхты? Если банкиры не создают добавочную стоимость сами, она должна браться откуда-то (у кого-то) еще. Не только правительство перераспределяет блага. Финансовый сектор тоже этим занимается, только общество не дает ему таких полномочий.
Итог в том, что богатство может быть где-то сосредоточено, но это не означает, что оно там же и создается. Это одинаково верно в отношении и феодального землевладельца былых времен, и нынешнего исполнительного директора Goldman Sachs. Единственная разница в том, что банкиры порой на минуту забываются и воображают себя великими создателями всего этого богатства. Лорд, который гордился тем, что живет трудом своих крестьян, не питал подобных иллюзий.
Бесполезная работа
А ведь все могло быть совсем не так. Помните предсказание экономиста Джона Мейнарда Кейнса о том, что мы будем работать всего 15 часов в неделю уже в 2030 г.?[273] Что уровень нашего процветания превзойдет все ожидания и мы обменяем внушительную долю нашего богатства на свободное время?
В действительности случилось по — другому. Наш достаток существенно вырос, но свободного времени у нас вовсе не море. Совсем наоборот. Мы работаем как никогда много. В предыдущей главе я описал, как мы возложили свое свободное время на алтарь культа потребления. Кейнс определенно этого не предвидел.
Но есть еще один фрагмент пазла, который никак не встает на место. Большинство людей не участвуют в производстве разноцветных чехлов для iPhone, экзотических шампуней с растительными экстрактами или кофе со льдом и толченым печеньем. Наше пристрастие к потреблнию удовлетворяется по большей части роботами и полностью зависимыми от зарплаты рабочими третьего мира. И хотя производительность в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности в последние десятилетия бурно росла, занятость в этих отраслях упала. Так правда ли то, что наша перегруженность работой обусловлена стремлением к бесконтрольному потреблению?
Дэвид Грэбер, антрополог из Лондонской школы экономики, убежден, что дело не только в этом. Несколько лет назад он написал замечательную работу, в которой возложил вину не на вещи, которые мы покупаем, а на работу, которую мы делаем. Она метко озаглавлена «О феномене бесполезных работ»[274].
Из анализа Грэбера следует, что бесчисленное количество людей проводят всю свою трудовую жизнь, выполняя бессмысленную, на их взгляд, работу в качестве специалиста по обзвону клиентов, директора по персоналу, специалиста по раскрутке в социальных сетях, пиарщика или же одного из администраторов в больницах, университетах и правительственных учреждениях. Именно такую работу Грэбер называет бесполезной. Даже люди, ее выполняющие, признают, что эта деятельность по сути излишня.
Первая статья, которую я написал о данном явлении, вызвала поток признаний. «Лично я предпочел бы делать что-нибудь по-настоящему полезное, — ответил один биржевой маклер, — но я не могу смириться со снижением дохода». Он также рассказал о своем «потрясающе талантливом бывшем однокласснике с кандидатской степенью по физике», разрабатывающем технологии по диагностике рака и «зарабатывающем настолько меньше меня, что это подавляет». Конечно же, то, что ваша работа служит важным интересам общества и требует немало таланта, ума и настойчивости, еще не гарантирует, что вы будете купаться в деньгах.
И наоборот. Разве является совпадением то, что распространение высокооплачиваемой бесполезной работы совпало с бумом высшего образования и развитием экономики знаний? Помните, зарабатывать деньги, ничего не создавая, непросто. Для начала вам придется освоить весьма высокопарный, но бессмысленный жаргон (совершенно необходимый при посещении стратегических межотраслевых симпозиумов для обсуждения мер по усилению благотворного эффекта кооперации в интернет-сообществе). Убирать мусор может каждый; карьера в банковской сфере доступна немногим избранным.
В мире, который становится все богаче и где коровы дают все больше молока, а роботы производят все больше продукции, есть и больше места для друзей, семьи, общественной работы, науки, искусства, спорта и прочих вещей, делающих жизнь достойной. Но еще в нем появляется больше места для всякого вздора. Покуда мы одержимы работой, работой и еще раз работой (даже при дальнейшей автоматизации полезной деятельности и передаче ее на внешний подряд), количество излишних рабочих мест будет только расти. Совсем как число менеджеров в развитых странах, выросшее за последние 30 лет и не сделавшее нас ни на цент богаче. Напротив, исследования показывают, что страны с большей численностью менеджеров на деле менее производительны и инновационны[275]. Половина из 12 000 профессионалов, опрошенных Harvard Business Review, заявила, что их работа «бессмысленна и незначима», и столько же респондентов сообщили, что не чувствуют связи с миссией своей компании[276]. Другой недавний опрос показал: целых 37 % британских работников считают, что занимаются бесполезной работой[277].
И совсем не все новые рабочие места в секторе услуг бессмысленны — вовсе нет. Взгляните на здравоохранение, образование, пожарные службы и полицию, и вы обнаружите массу людей, которые каждый вечер идут домой, зная, несмотря на свои скромные заработки, что они сделали мир лучше. «Как будто им сказали: “У вас есть настоящая работа! И помимо всего этого вам хватает наглости требовать такого же уровня пенсий и медицинского обслуживания, как у среднего класса?”» — пишет Грэбер.
Все это особенно шокирует потому, что происходит в рамках капиталистической системы, основанной на таких капиталистических ценностях, как эффективность и производительность. Политики без устали подчеркивают необходимость сокращения государственного аппарата, но при этом по большей части молчат о том, что бесполезные рабочие места продолжают множиться. В результате правительство, с одной стороны, урезает количество полезных рабочих мест в сферах, связанных со здравоохранением, образованием и инфраструктурой (что приводит к безработице), а с другой — вкладывает миллионы в индустрию безработицы — обучение и наблюдение, которые уже давным-давно не рассматриваются как эффективные инструменты[278].
Современному рынку одинаково безразличны и полезность, и качество, и инновации. Единственное, что для него важно, — прибыль. Иногда это приводит к восхитительным прорывам, иногда не приводит. Создание одного бесполезного рабочего места за другим, будь то работа для телемаркетолога или налогового консультанта, имеет прочное обоснование: можно сколотить состояние, не произведя вообще ничего.
В такой ситуации неравенство только усугубляет проблему. Чем больше богатства сосредоточено наверху, тем выше спрос на корпоративных юристов, лоббистов и специалистов по высокочастотной торговле. В конце концов, спрос существует не в вакууме: он формируется в результате постоянных переговоров, определяется законами и институтами страны и, конечно, людьми, управляющими финансовыми ресурсами.
Возможно, этим также объясняется то, почему инновации последних 30 лет — времени растущего неравенства — не вполне соответствуют нашим ожиданиям. «Мы хотели летающих автомобилей, а вместо них получили 140 символов», — шутит Питер Тиль, описавший себя как интеллектуала из Кремниевой долины[279]. Если послевоенная эпоха дала нам такие замечательные изобретения, как стиральная машина, холодильник, космический челнок и оральные контрацептивы, то последнее время мы имеем улучшенную версию того же телефона, что мы купили пару лет назад.
На самом деле все выгоднее становится не внедрять инновации. Только представьте себе, сколько открытий не было сделано из-за того, что тысячи ярких умов растратили себя на выдумывание сверхсложных финансовых продуктов, в итоге принесших только разрушение. Или провели лучшие годы своей жизни, копируя существующие фармацевтические препараты так, чтобы их отличие от оригинала оказалось незначительным, но все же достаточным для того, чтобы мозговитый юрист мог написать заявку на выдачу патента, после чего ваш замечательный отдел по связям с общественностью запустит совершенно новую кампанию по продвижению не столь уж и нового лекарства.
Вообразите себе, что все эти таланты были вложены не в перераспределение благ, а в их создание. Кто знает, может быть, у нас уже появились бы реактивные ранцы, подводные города и лекарство от рака.
Давным-давно Фридрих Энгельс описал «ложное сознание», жертвой которого по сей день является рабочий класс, или «пролетариат». Согласно Энгельсу, заводской рабочий XIX в. не восставал против землевладельческой элиты потому, что его мировоззрение было затуманено религией и национализмом. Возможно, сегодняшнее общество застряло в похожей колее, только на этот раз это касается вершины пирамиды. Возможно, взгляд этих людей затуманен количеством нулей в их зарплате, весомостью бонусов и замечательными пенсионными программами. Возможно, толстый бумажник становится причиной аналогичного ложного сознания: убежденности в том, что ты производишь нечто очень ценное, ведь ты так много зарабатываешь.
В любом случае сейчас дела обстоят не так, как должны бы. Для того чтобы наша способность к инновациям и творчеству не пропала зря, экономику, налоги и университеты стоит изобрести заново. «Нам не следует терпеливо ждать медленного изменения в культуре», — заявил более 20 лет назад экономист-одиночка Уильям Баумоль[280]. Нам не надо ждать, пока азартные игры на чужие деньги перестанут быть выгодными; пока дворники, полицейские и медсестры начнут нормально зарабатывать; пока математические гении вновь будут мечтать о строительстве колоний на Марсе, а не об основании собственных хедж-фондов.
Мы можем сделать шаг в направлении другого мира, и начать, как это часто бывает, с налогов. Налоги нужны даже в утопиях. Например, первым шагом может стать обуздание финансовой индустрии с помощью налогообложения транзакций. В 1970 г. период владения американскими акциями в среднем составлял пять лет; 40 спустя — всего пять дней[281]. Если мы введем налог на транзакции — обязательную уплату налога при каждой покупке или продаже акции, — высокочастотным трейдерам, практически не приносящим пользу обществу, будут больше не выгодны мгновенные покупки и продажи финансовых активов. На самом деле мы сэкономим на легкомысленных расходах, поддерживающих финансовый сектор. Возьмем оптоволоконный кабель, проложенный для ускорения передачи сообщений между финансовыми рынками Лондона и Нью-Йорка в 2012 г. Его стоимость — $300 млн. Разница в скорости — целых 5,2 миллисекунды.
Но важнее то, что эти налоги сделают нас всех богаче. Они позволят не только более справедливо разделить пирог, но и увеличить его в размерах. Тогда талантливая молодежь, стремящаяся на Уолл-стрит, сможет снова захотеть стать учителями, изобретателями и инженерами.
В последние же десятилетия произошло прямо противоположное. Гарвардское исследование показало, что снижение налогов во времена Рейгана подтолкнуло большинство лучших умов страны к изменению профессии: учителя и инженеры переквалифицировались в банкиров и бухгалтеров. Если в 1970 г. мужчин, окончивших Гарвард и занимающихся исследованиями, было вдвое больше, чем тех, кто выбирал банковское дело, то 20 лет спустя соотношение изменилось: в финансовой сфере трудилось уже в полтора раза больше выпускников этого учебного заведения.
В результате все мы стали беднее. На каждый заработанный банком доллар приходится примерно 60 центов, уничтоженных в другой части экономической цепочки. И напротив, на каждый доллар, заработанный исследователем, как минимум пять долларов — а зачастую гораздо больше — вбрасываются обратно в экономику[282]. Высокие налоги на самые высокие доходы послужат, как сказали бы в Гарварде, «переходу талантливых индивидов из профессий с отрицательным внешним эффектом, в профессии, оказывающие положительное внешнее влияние».
Теперь переведем на нормальный язык: высокие налоги заставят больше людей делать работу, которая полезна.
Если есть на свете место, с которого следует начинать поиски лучшего мира, то это — классная комната.
Хотя образование, возможно, и способствовало появлению бесполезных работ, оно было также источником нового и осязаемого процветания. Если мы составим список десятка самых влиятельных профессий, педагогическая деятельность окажется среди лидеров. Не потому, что учителю достаются награды вроде денег, власти или положения, а потому, что учитель во многом определяет нечто более важное — направление человеческой истории.
Может быть, это звучит пафосно, но возьмем заурядного учителя младших классов, у которого каждый год новый класс — 25 детей. Значит, за 40 лет преподавания он повлияет на жизнь тысячи детей! Более того, учитель воздействует на личность учеников в их наиболее податливом возрасте. Они же, в конце концов, дети. Педагог не только готовит их к будущему — он еще и напрямую формирует это будущее.
Поэтому наши усилия в классной комнате принесут дивиденды для всего общества. Но там почти ничего не происходит. Все значимые дискуссии, связанные с проблемами образования, касаются его формальных аспектов. Способов преподавания. Дидактики. Образование последовательно представляется как помощь в адаптации — смазка, позволяющая с меньшими усилиями скользить по жизни. В ходе телефонной конференции, посвященной вопросам образования, бесконечный парад специалистов по тенденциям предрекает будущее и то, какие навыки окажутся существенными в XXI в.: основные слова — «креативность», «адаптируемость», «гибкость».
В фокусе внимания неизменно компетенции, а не ценности. Дидактика, а не идеалы. «Способность решать задачи», а не проблемы, требующие решения. Неизменно все крутится вокруг одного вопроса: какие знания и навыки нужны сегодняшним учащимся для того, чтобы преуспеть на рынке труда завтра — в 2030 г.?
И это совершенно неправильный вопрос.
В 2030-м высоким спросом будут пользоваться смекалистые бухгалтеры без проблем с совестью. Если сохранятся нынешние тенденции, страны вроде Люксембурга, Нидерландов и Швейцарии станут еще более крупными налоговыми гаванями, где транснациональные корпорации смогут эффективнее уклоняться от уплаты налогов, оставляя развивающиеся страны в еще более невыгодном положении. Если цель образования — принимать эти тенденции как они есть, вместо того чтобы переломить их, то ключевым навыком XXI в. обречен быть эгоизм. Не потому, что этого требуют законы рынка и технологий, но лишь по той причине, что, очевидно, именно так мы предпочитаем зарабатывать деньги.
Нам следует задать себе совершенно другой вопрос: какими знаниями и навыками наши дети должны обладать в 2030 г.? Тогда вместо предвосхищения и приспособления мы поставим во главу угла управление и создание. Вместо того чтобы размышлять о том, что нам нужно, чтобы зарабатывать на жизнь той или иной бесполезной деятельностью, мы можем задуматься над тем, как мы хотимзарабатывать. Ни один специалист по тенденциям не сможет ответить на этот вопрос. И как бы он смог это сделать? Он просто следит за тенденциями, но не создает их. Сделать это — наша задача.
Для ответа нам необходимо исследовать себя и свои личные идеалы. Чего мы хотим? Больше времени на друзей, например, или на семью? На волонтерство? Искусство? Спорт? Будущее образование должно будет готовить нас не только для рынка труда, но и для жизни. Мы хотим обуздать финансовый сектор? Тогда, наверное, нам следует поучить подающих надежды экономистов философии и морали. Мы хотим большей солидарности между расами, полами и социальными группами? Введем предмет обществознания.
Если мы перестроим образование на основе наших новых идей, рынок труда радостно последует за ними. Представим себе, что мы увеличили долю искусств, истории и философии в школьной программе. Можно биться об заклад, что возрастет спрос на художников, историков и философов. Это подобно тому, как Джон Мейнард Кейнс представлял себе 2030 г. в 1930-м. Возросшее процветание и усилившаяся роботизация наконец-то позволят нам «ценить цель выше средств и предпочитать благо пользе». Смысл более короткой рабочей недели не в том, чтобы мы могли сидеть и ничего не делать, а в том, чтобы мы могли проводить больше времени за теми делами, которые для нас подлинно важны.
В конце концов, именно общество — а не рынок и не технологии — решает, что действительно ценно. Если мы хотим, чтобы в этом веке все мы стали богаче, нам необходимо освободиться от догмы, будто любая работа имеет смысл. И раз уж мы об этом заговорили, давайте избавимся и от того заблуждения, что высокий заработок автоматически отражает нашу ценность для общества.
Тогда мы, возможно, осознаем, что с точки зрения создания ценностей банкиром быть не стоит.
Спустя полвека после забастовки Большое Яблоко, видимо, выучило урок. «В Нью-Йорке все хотят быть мусорщиками», — гласил недавний газетный заголовок. Сегодня те, кто убирается в огромном городе, имеют завидную зарплату. За пять лет можно заработать $70 000 плюс сверхурочные и премии. «Эти люди обеспечивают жизнь нашего города, — объясняет в статье представитель департамента санитарного контроля. — Если они перестанут работать, даже ненадолго, жизнь в Нью-Йорке попросту остановится»[283].
Было в газете и интервью с городским уборщиком. В 2006 г. 20-летнему Джозефу Лерману позвонили из городской администрации и сообщили, что он может начать работать сборщиком мусора. «Я почувствовал себя так, как будто сорвал джекпот», — вспоминает он. Сегодня Лерман ежедневно встает в четыре утра и таскает мешки с мусором не менее 12 часов подряд. Для других ньюйоркцев вполне логично то, что он получает за свой труд хорошие деньги. «Честно говоря, — говорит официальный представитель мэрии, — эти мужчины и женщины не просто так слывут героями Нью-Йорка».
Цель будущего — безработица, чтобы мы могли играть.
Артур Кларк (1917–2008)
Глава 8
Наперегонки с машиной
Такое случается уже не в первый раз. В начале XX в. эти старые добрые работники начали уступать место машинам. В 1901 г. в Англии их насчитывалось более миллиона, но уже через несколько десятилетий они практически исчезли[284]. Их заработки медленно, но верно таяли с приходом моторизированного транспорта — до такой степени, что перестало хватать даже на еду.
Конечно же я говорю о ломовых лошадях.
И у жителей Страны изобилия тоже есть все причины бояться за свои рабочие места, учитывая головокружительное развитие роботов, способных водить машины, читать, говорить, писать и — самое главное — вычислять. «Роль человека как важнейшего фактора производства обязательно будет падать, — писал нобелевский лауреат Василий Леонтьев в 1983 г., — точно так же, как роль лошадей в сельскохозяйственном производстве сначала снизилась, а затем вовсе свелась к нулю с появлением тракторов»[285].
Роботы. Они стали одним из наиболее веских доводов в пользу сокращения рабочей недели и введения универсального базового дохода. В самом деле, если нынешние тенденции сохранятся, альтернатива всего одна: структурная безработица и рост неравенства. «Машинное оборудование… — вор, который ограбит тысячи людей, — гневался английский ремесленник Уильям Лидбитер на встрече в Хаддерсфилде в 1830 г. — Мы увидим, как они разрушат эту страну»[286].
Все началось с наших зарплат. В Соединенных Штатах реальный размер заработной платы среднестатистического работника, занятого с 9:00 до 17:00, снизился с 1969 по 2009 г. на 14 %[287]. В других развитых странах, от Германии до Японии, заработная плата в большинстве профессий не менялась годами, невзирая на рост производительности. Главная причина проста: рабочей силы становится все больше. Технологические прорывы заставляют обитателей Страны изобилия напрямую конкурировать с миллиардами трудящихся по всему миру и с машинным производством.
Очевидно, люди не лошади. Лошадь обучаема лишь до определенной степени. Люди же способны учиться и расти. Поэтому вольем деньги в образование и трижды крикнем «Ура!» экономике знаний.
Но только остается одна проблема. Даже у обладателей бумажки в рамке на стене есть причины для беспокойства. В 1830 г. механизированный ткацкий станок уничтожил профессию Уильяма Лидбитера, которой тот хорошо владел. Дело не в том, что Лидбитер не имел образования, а в том, что вдруг его навыки стали не нужны. В будущем подобный опыт переживут многие и многие люди. «Рискну сказать, что в конце концов это приведет к крушению вселенной», — предупредил Уильям.
Люди против машин… Добро пожаловать на гонки!
Весной 1965 г. Гордон Мур, влиятельный инженер и будущий сооснователь Intel, получил письмо из журнала Electronics Magazine с просьбой написать статью о будущем компьютерного чипа в честь 35-летия издания. В те дни даже лучшие опытные модели содержали всего 30 транзисторов. Транзисторы — основные строительные кирпичики любого компьютера; тогда транзисторы были большими, а компьютеры — медленными.
Мур начал собирать данные и обнаружил нечто, его удивившее. Количество транзисторов в чипе удваивалось ежегодно с 1959 г. Естественно, он задумался: а что, если эта тенденция продолжится? К 1975 г., осознал он, в каждом чипе будут невообразимые 60 000 транзисторов. Вскоре компьютеры смогут выполнять арифметические вычисления лучше всех умнейших ученых-математиков вместе взятых![288] Статья Мура так и называлась: «Увеличение числа компонентов в интегральных схемах». Эти набитые транзисторами чипы подарят нам «такие чудеса, как домашние компьютеры», а также «портативные средства связи» и даже, возможно, «автоматическое управление автомобилем».
Мур знал, что он говорит наобум. Но 40 лет спустя крупнейший производитель чипов — компания Intel — предложит $10 000 любому, кто откопает оригинальный выпуск того номера Electronics Magazine. Эта догадка вошла в историю как закон — закон Мура.
«Несколько раз я думал, что мы достигли предела, — признался Мур в 2005 г. — Развитие замедлилось»[289]. Но оно не остановилось! В 2013-м новая игровая консоль Xbox One базировалась на чипе, содержащем невероятные пять миллиардов транзисторов. Никто не может сказать, сколько это продолжится, но пока что закон Мура остается в силе[290].
Теперь о ящике.
Точно так же, как транзисторы стали стандартной единицей в информационной индустрии, транспортные контейнеры когда-то стали стандартной единицей в транспортировке[291]. Конечно, прямоугольный стальной ящик не выглядит столь же революционным, как чипы и компьютеры, но подумайте вот о чем: до появления транспортных контейнеров товары грузили на корабли, поезда и фургоны по одному. Вся эта погрузка, разгрузка и перегрузка удлиняла каждый этап пути на целые дни.
И напротив, уложить и разгрузить транспортный контейнер нужно всего один раз. В апреле 1956 г. из Нью-Йорка в Хьюстон отправилось первое контейнерное судно. Пятьдесят восемь ящиков были доставлены за считаные часы, а на следующий день судно уже возвращалось с новым грузом. До изобретения этого стального ящика корабли могли провести в порту от четырех до шести дней — половину своего времени. Через пару лет — всего 10 %.
Число транзисторов в процессорах в 1970–2008 гг.
Источник: Wikimedia Commons