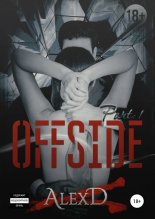Как-то лошадь входит в бар Гроссман Давид
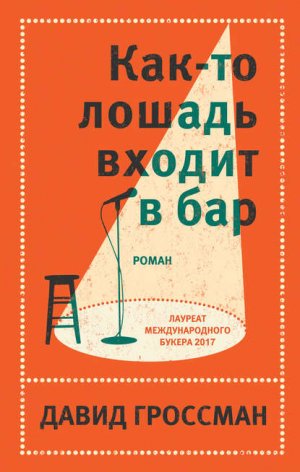
Как-то лошадь входит в бар
– Добрый вечер, добрый вечер, дооо-брый вечер, Кейсари-я-а-а-а!!!
Сцена по-прежнему пуста. Из-за кулис раздается громкий крик. Сидящие в зале потихоньку затихают, улыбаясь в предвкушении. Худощавый, низкорослый и очкастый субъект вылетает на сцену из боковой двери, словно вытуренный оттуда пинком. Спотыкаясь, он делает еще несколько шагов по сцене, едва не падает, тормозит обеими руками о деревянный пол, а затем резким движением задирает кверху зад. По залу прокатывается смех, публика аплодирует. Люди все еще заходят из фойе, громко болтая.
– Дамы и господа, – объявляет, не разжимая губ, мужчина, сидящий за столом со световым пультом, – встречайте аплодисментами Довале Джи.
Человек на сцене по-прежнему пребывает в позе обезьяны, его большие очки криво сидят на носу. Он медленно оборачивается к залу и окидывает его долгим немигающим взглядом.
– О, – фыркает он, – не Кейсария, нет?
Раскаты смеха. Он медленно выпрямляется, отряхивает ладони от пыли.
– Похоже, мой агент опять меня поимел?
Слышатся выкрики из публики. Человек бросает ошеломленный взгляд в зал:
– Что такое? Что ты сказала? Ты, седьмой столик, да-да, ты, милочка, мабрук[1], у тебя новые губки, тебе они очень к лицу!
Женщина хихикает и прикрывает рот ладонью.
Человек стоит на краю сцены, слегка раскачиваясь взад-вперед.
– Будь серьезной, моя прелесть, ты всамделе сказала «Нетания»?
Его глаза расширились, почти заполнив линзы очков:
– Дайте соображу: ты мне здесь говоришь, в здравом уме и с предельной наглостью, что я сейчас, ашкара[2], в Нетании, да еще и без бронежилета?[3]
Скрестив ладони, он в ужасе прикрывает ими причинное место. Публика восторженно ревет. Тут и там раздается свист. Входят еще несколько пар, а за ними – шумная компания молодых мужчин, по-видимому, солдаты в увольнении. Маленький зал заполняется. Знакомые машут друг другу. Три официантки в шортах и фиолетово светящихся маечках с круглым вырезом выходят из кухни и снуют между столиками.
– Послушай-ка, Губки, – человек улыбается женщине за седьмым столиком, – я с тобой еще не закончил, давай поговорим об этом… Нет, потому что ты кажешься мне девушкой серьезной, с оригинальным вкусом, если я правильно понимаю твою занятную прическу, которую тебе сделал – дай угадаю – тот самый дизайнер, сотворивший нам и мечети на Храмовой горе, и атомный реактор в Димоне?
Публика от души хохочет.
– И если я не ошибаюсь, здесь я чую еще и запах денег… Ямба[4] денег… Я прав или я не прав? А? Сто пудов? Нет? Совсем нет? Я скажу тебе почему. Потому что я вижу здесь и великолепный ботокс, и совершенно бесконтрольное уменьшение груди. Поверь мне, я бы руки отрезал этому пластическому хирургу.
Женщина скрещивает руки, прикрывает лицо ладонями и взвизгивает сквозь пальцы, как от щекотки.
По ходу разговора он быстро расхаживает по сцене от края до края, потирая руки и пристально разглядывая публику в зале. Его ковбойские сапоги с высокими каблуками сопровождают все перемещения сухим постукиванием.
– Только объясни мне, лапочка, – громогласно вопрошает он, не глядя на женщину, – как такая интеллектуальная девушка не знает, что подобные вещи надо рассказывать человеку предельно осторожно, руководствуясь здравым смыслом, осмотрительно, обдуманно. Не обрушивать на него: «Ты в Нетании! Бум!» Что это с тобой? Человека следует подготовить, особенно если он такой тощий.
Быстрым движением он поднимает свою линялую трикотажную рубаху, и по залу пробегает невольный вздох.
– Что, не так ли? – Он обращает свое оголенное тело к тем, что сидят и справа, и слева от сцены, озаряя их при этом широкой улыбкой: – Видели? Кожа да кости. В основном хрящ, клянусь вам. Если бы я был лошадью, то уже превратился бы в клей.
В публике слышатся растерянные смешки и громкие неодобрительные выдохи.
– Пойми, душа моя, – он вновь обращается к столику номер семь, – и знай на будущее: подобное извещение преподносят человеку с осторожностью, и немного предварительной анестезии не повредит. Обезболивание, рабак![5] В мочку уха осторожно вводят обезболивающее: «Поздравляю тебя, Довале, прекраснейший из мужчин, ты удостоился! Тебя избрали для участия в особом эксперименте. Ничего чрезмерно длительного, всего полтора часа, максимум – два, что является предельно допустимым временем, в течение которого нормальный человек может подвергаться опасности открытого общения с людьми, пришедшими сюда…»
Публика смеется, и человек на сцене удивлен:
– Чего вы смеетесь, ахбалот?[6] Это про вас!
Публика заливается смехом, а он за свое:
– Минутку. Давайте разберемся: вам уже сообщили, что вы здесь на «разогреве» перед настоящей публикой?
Свист, бурный взрыв смеха. В отдельных местах зала раздается пронзительное, протяжное «Бу-у-у», слышатся удары ладонями по столам, но большинство воспринимают это как забаву. В зал входит еще одна пара, высокие, тоненькие, их пушистые, золотистые волосы ниспадают на лоб: юноша и девушка или, возможно, двое юношей, облаченных во все черное, отливающее блеском, с мотоциклетными шлемами под мышками. Человек на сцене взглянул на них, и тонкая морщинка пролегла у него над глазом. Он двигается по сцене непрерывно. Через каждые несколько минут, подкрепляя сказанное, он резко выбрасывает кулак в воздух, а затем обманным движением боксера ускользает от невидимого противника. Публика наслаждается, а он, прикрывая рукой глаза, рыщет взглядом по всему залу, который уже почти полностью погрузился в темноту.
Он ищет меня.
– Между нами, братья мои, сейчас я должен положить руку на сердце и сказать вам, что помираю, прямо по-ми-рра-аю по Нетании, верно?
– Верно! – кричат ему в ответ несколько молодых людей из публики.
– И до чего же замечательно в этот вечер четверга быть здесь с вами в вашей изумительной промышленной зоне, да еще в подвальном помещении, прямо над прекрасными залежами радона, извлекая для вас из собственной задницы шутки или остроты, одну за другой… Верно?
– Вер-но! – вопит в ответ ему во все горло публика.
– Неверно! – решительно заявляет человек на сцене, с удовольствием потирая руки. – Все это – «фарш»[7], кроме задницы, ибо скажу я вам правду: не выношу ваш город. Пугает меня до смерти эта Нетания: каждый второй человек на улице выглядит участником программы защиты свидетелей, а каждый третий встречный прячет в багажнике своего автомобиля первого встречного, завернутого в черный пластиковый пакет. И поверьте мне, если бы я не должен был выплачивать алименты трем прелестным женщинам да еще поддерживать один, два, три, четыре, пять – пятерых детей, хамса[8]… – он швыряет публике в лицо ладонь с растопыренными пальцами, – клянусь, стоя перед вами, что я первый в истории мужчина, страдавший от послеродовой депрессии. Пять раз испытал я послеродовую депрессию. Собственно говоря, только четыре, поскольку однажды родились близнецы. В сущности – пять, если считать и депрессию после моих собственных родов. И тем не менее из всего этого балагана вышло нечто хорошее и для вас, и для Нетании, самого волнующего из городов, и если бы не мои вампиры с молочными зубами, то нынешним вечером я ни в коем случае не оказался бы здесь ради семисот пятидесяти шекелей, которые Иоав платит мне наличными, без квитанции, без единого доброго слова. Итак, ялла[9], братцы мои, сладчайшие мои, давайте в этот вечер попразднуем, снесем крышу! Бурные аплодисменты Королеве Нетании!
Зрители аплодируют, несколько сбитые с толку неожиданным поворотом, но увлеченные ревом, идущим от сердца, милой улыбкой, вдруг озаряющей его лицо, которое полностью меняется. И – словно срабатывает вспышка фотоаппарата – исчезает скептическое выражение и появляется лицо интеллектуала, приветливое, приятное и деликатное, почти нежное лицо человека, у которого нет и не может быть никакой связи с тем, что исторгают его уста.
Он явно наслаждается путаницей, которую сам и создает.
Словно изображая циркуль, он медленно вращается на одной ноге вокруг своей оси, и по завершении полного оборота на его искаженном лице вновь появляется выражение горечи:
– У меня потрясающая новость, Нетания! Вы не поверите, какая удача свалилась на вас, но как раз на сегодня, именно на двадцатое августа, чисто случайно выпадает мой день рождения. Спасибо, спасибо. – Он скромно склоняет голову. – Да, совершенно точно, пятьдесят семь лет тому назад мир стал немного худшим местом для жизни. Спасибо вам, дорогие. – Он расхаживает, покачивая бедрами, вдоль сцены, обмахивая лицо воображаемым веером. – Очень любезно с вашей стороны, правда, вам не стоит беспокоиться, это уже чересчур, чеки вы потом сможете опустить в ящик у выхода, банкноты прошу клеить мне на грудь в конце представления, и если вы принесли секс-купоны, то немедленно подойдите и передайте мне прямо в руки…
Тут и там люди в зале поднимают стаканы, поглядывая на него. С большим шумом входит компания из нескольких пар – мужчины, шествуя по залу, хлопают в ладоши, – и все они усаживаются за столиками вблизи стойки, служившей когда-то стойкой бара. Они приветственно машут руками человеку на сцене, а женщины еще и окликают его по имени. Он тоже машет рукой им в ответ, прищурившись, будто сомневаясь, как это делают близорукие. Вновь и вновь он обращает свой взгляд на меня, сидящего за столиком в дальнем углу зала. С той минуты, как он вышел на сцену, ищет он мои глаза. Но я не в состоянии прямо поглядеть на него в ответ. Не нравится мне здешний воздух. Не нравится мне воздух, которым он дышит.
– Поднимите руки те, кому уже миновало пятьдесят шесть!
Несколько человек поднимают руки. Он обозревает их и кивает в изумлении:
– Я впечатлен, Нетания! Враз показали замечательную продолжительность жизни! Нет, совсем не просто у вас дожить до такого возраста, верно? Иоав, направь-ка прожектор на публику, и тогда мы поглядим… Я ведь сказал «пятьдесят семь», госпожа моя, а не «семьдесят пять»… Минутку, братцы, давайте по одному, Довале имеется здесь в избытке, его на всех хватит. Да, четвертый столик, что ты сказал? И тебе тоже пятьдесят семь? Даже восемь? Потрясающе! Глубоко! Он опережает свое время. И когда же это случится, говоришь ты? Завтра? Поздравляю с днем рождения! А как тебя зовут? Как? Повтори! Иор… Иораи… Ты смеешься надо мной? Это твое имя или так назывался курс, который ты закончил во время своей службы в армии? Валла[10], братишка, родители определили тебя в шестерки[11], а?
Человек по имени Иораи от души хохочет. Его жена, толстая дама, опираясь на него, ласково, круговыми движениями поглаживает его лысину.
– А та, что рядом с тобой, браток, размечающая на тебе территорию, – это госпожа Иораит? Будь сильным, брат мой… Видишь ли, ты ведь надеялся, что имя «Иораи» – это последний удар, который судьба обрушила на тебя, а? Тебе было всего три года, когда ты осознал, что сделали тебе родители. – Он медленно шагает по сцене, играя на невидимой скрипке. – Одинокий, всеми заброшенный, ты сидел в углу детского сада, грыз луковицу, которую мама положила тебе в сумочку для завтрака, глядел на детей, играющих вместе, и сказал самому себе: «Приободрись, Иораи, молния не бьет дважды в одно и то же место»… Сюрприз. Она все-таки ударила дважды! Добрый вечер вам, госпожа Иораит! Скажите мне, милая, есть ли у вас замысел просто по-дружески рассказать всем нам об озорном сюрпризе, который вы готовите мужу в день его праздника? Глядя на вас, думаю, что мне точно известны мысли, пробегающие в вашей голове: «Поскольку это твой день рождения, Иорайке, то нынешней ночью я скажу тебе «да», но только не хватает, чтобы ты поступил со мной так, как пытался сделать это десятого июля шестьдесят восьмого года».
Публика просто хохочет во все горло, да и сама мадам дергается в конвульсиях от смеха, волны которого искажают ее лицо.
– А теперь скажите, Иораит, – он снижает голос до шепота, – между нами: вы и вправду думаете, что всякие там ожерелья, бусы и цепочки могут скрыть все ваши подбородки? Нет, серьезно, не кажется ли вам, что в такие времена, когда необходимо потуже затянуть пояса, когда в нашей стране есть молодые пары, вынужденные довольствоваться только одним подбородком, – и он скользнул ладонью по собственному подбородку, короткому, втянутому, иногда придающему ему облик испуганного грызуна, – а вы, сабаба[12], щедро позволяете себе два… минутку, три! Госпожа моя, только из той кожи, что пошла на ваш зоб, можно было бы сделать еще один ряд палаток, которые молодежь, протестующая против правительства, поставила на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве!
Из-за столиков раздалось несколько рассеянных смешков. Зубы госпожи Иораит обнажились в несколько натянутой улыбке.
– И между прочим, Нетания, если мы уж заговорили о моей экономической теории, то хотелось бы, отбросив все сомнения, уже сейчас заметить, что вообще-то я – сторонник всеобъемлющей реформы финансового рынка!
Он останавливается, тяжело дышит, кладет руки на бедра, ухмыляется:
– Я – гений! Ей-богу! Из уст моих вылетают слова, которые я и сам толком не понимаю! Слушайте хорошенько, я уже целых десять минут решительно и бесповоротно придерживаюсь мнения, что налоги следует взимать с человека исходя непосредственно из его веса – налог на плоть!
Еще один взгляд в мою сторону – изумленный, почти испуганный, пытающийся высвободить из глубин моей личности того тоненького юношу, каким он меня помнит.
– Что справедливее этого, скажите мне? Ведь это – самая объективная вещь на свете.
И вновь он поднимает рубаху до самого подбородка, на сей раз закатывая ее медленными, соблазняющими движениями, выставляя на всеобщее обозрение впалый живот с поперечным шрамом, узкую грудь и пугающе торчащие ребра, обтянутые сморщенной кожей, усеянной язвочками.
– Это может быть и в соответствии с подбородками, как мы уже говорили, но, по моему мнению, можно ввести прогрессивную шкалу налогов.
Рубашка все еще поднята. Люди устремляют на него испуганные взгляды, но кое-кто отворачивается и тихо фыркает. Сам он взвешивает реакцию публики с неприкрытой страстной увлеченностью.
– Я требую ввести прогрессивный налог на плоть! Обложение налогом должно основываться на учете жировых накоплений – эти складки на боках, брюхо, задница, бедра, целлюлит, сиськи у мужчин, и эта дряблая изнуренная плоть, болтающаяся сверху на женских руках вот здесь, чуть пониже плеча! Но самое прекрасное как раз то, что в моем методе нет ни уловок, ни увиливаний, ни толкований в ту или иную сторону: набрал жирок – плати налог!
Наконец-то он позволяет рубахе вернуться в прежнее положение.
– Убейте меня, но, по сути, я не могу понять саму идею – взимать налоги с тех, кто зарабатывает деньги. Какая в этом логика? Слушайте меня, Нетания, слушайте внимательно: налоги надо брать только с тех, в отношении которых у государства есть веские основания подозревать их в том, что им уж больно хорошо живется: человек сам себе улыбается, он молод, он здоров, он оптимистичен, он трахался[13] ночью, он насвистывает днем. Только с таких холер надо брать, шкуру драть с них безжалостно!
Большинство публики одобрительно аплодирует, но меньшинство – молодые люди в зале, – вытянув трубочкой обезьяньи губы, вопит: «Позор!»
Он вытирает пот со лба и щек красным носовым платком, огромым, как у клоуна в цирке, наблюдая за пререканиями групп в зале – к взаимному удовольствию каждой из них. Тем временем, восстановив дыхание, прикрыв ладонью глаза, он вновь ищет мой взгляд, настойчиво пытается встретиться со мной глазами. Вот он, этот миг – мерцание двух пар глаз, его и моих, и никто, кроме нас, надеюсь, этого не заметил. «Ты пришел, – говорит его взгляд. – Погляди, что время сделало с нами, вот, я перед тобою, не надо меня жалеть».
И сразу отводит взгляд в сторону, поднимает руку, успокаивая публику:
– Что? Я не слышал… Говори громче, девятый столик! Да, но сначала объясните мне, как ваши люди это делают, потому что мне никогда не удается понять… Что значит «это делают»? Именно то, как вы соединяете ваши брови вместе! Нет, бехайят[14], откройте нам секрет, вы сшиваете одну бровь с другой? Этому учат в тренировочных лагерях той этнической еврейской общины, к которой вы принадлежите?
Внезапно он вытягивается по стойке смирно и во все горло голосит: «Течет Иордан меж двух берегов, один – наш, второй – наш! Бей врагов!»
– Мой отец, господа, принадлежал к Ордену имени Жаботинского[15], честь и хвала!
За некоторыми столиками раздаются шумные протестующие аплодисменты. Он останавливает их пренебрежительным движением руки:
– Говори, девятый столик, говори свободно, я оплачиваю этот разговор. Что ты сказал? Нет, это не шутка, Гаргамель[16], это действительно мой день рождения. Прямо в эту минуту, ну, более или менее, в старом здании больницы Хадаса в Иерусалиме, у моей мамы Сары Гринштейн начались родовые схватки! Невероятно, верно? Женщина, которая, по ее же словам, хотела мне только добра, тем не менее родила меня! Нет, вы только подумайте, как много судебных расследований и сериалов о преступлениях убийц есть во всем мире, но я до сих пор не слышал ни об одном судебном разбирательстве по поводу родов! Ни о родах преднамеренных, ни о родах по халатности или о родах по ошибке, ни даже о подстрекательстве к родам! И не забывайте, что речь идет о преступлении по отношению к несовершеннолетнему!
Он широко раскрывает рот и ладонями, как веером, подгоняет воздух к лицу, словно задыхается:
– Есть ли судьи в зале? Адвокаты?
Сжимаюсь на стуле. Не позволяю его глазу задержаться на мне. К моему счастью, три молодые пары, сидящие неподалеку от меня, делают ему знаки руками. Выясняется, что они студенты юридического факультета одного из колледжей.
– Вон! – кричит он страшным голосом, машет руками, топает ногами, а публика осыпает их насмешками и презрительным свистом.
– Ангел смерти, – он смеется, задыхаясь, – явился к адвокату и говорит ему, что пришел забрать его. Адвокат плачет, рыдает: «Мне всего лишь сорок!» Говорит ему ангел смерти: «Не в соответствии с часами, оплачиваемыми твоими клиентами!»
Молниеносный боксерский выпад кулаком, полный оборот тела вокруг собственной оси. Студенты хохочут громче всех.
– А теперь – о моей матери. – Лицо сразу становится серьезным. – Прошу вашего внимания, дамы и господа присяжные заседатели, речь идет о жизненно важных решениях. Злые языки утверждали, – я только цитирую, – что, когда меня дали матери в руки сразу же после рождения, все видели, как она улыбается и, возможно, даже улыбается счастливо. Про-о-сто та-ак, говорю я вам, злостные измышления, грубая клевета!
Публика смеется. Человек вдруг падает на колени у самого края сцены, склоняет голову:
– Прости меня, мама, я напакостил, предал, еще раз предал тебя ради красного словца. Я – проститутка, публичная девка, не в состоянии отвыкнуть от дурных привычек…
Он резко вскакивает на ноги. Рывок, по-видимому, вызывает у него легкое головокружение, потому что он стоит, пошатываясь.
– А теперь серьезно, без шуток и анекдотов. Она была самой красивой во всем мире, моя мама, богом вам клянусь, лиц такого класса уже не рисуют, с огромными голубыми глазами.
Он, широко растопырив пальцы, протягивает ладони к публике, а я вспоминаю его детский взгляд – сияющий, пронзительно-голубой.
– Самой странной в мире она была, моя мама, самой грустной.
Он чертит пальцем по щеке под глазом след слезы и круглит рот в улыбке:
– Уж такой она удалась, такой выпал нам жребий, никто не жаловался, да и папа был в порядке, в полном порядке. – Он останавливается, энергично почесывает растрепавшиеся волосы по обеим сторонам головы, над ушами. – Гм… Дайте мне минутку, и я вернусь к вам с кое-чем… Да! Папа был потрясающим парикмахером, а с меня он не брал денег, даже если это противоречило его принципам.
И он вновь бросает взгляд на меня. Проверяет, смеюсь ли я. Но я даже не пытаюсь притворяться. Заказываю пиво и рюмку водки. Как он сказал? Необходимо обезболивание, чтобы пройти все это.
Обезболивание? Полная анестезия мне необходима!
Он опять шутит. Словно подталкивает себя вперед, еще дальше. Сверху на него направлена одна спот-лампа, и вокруг ложатся жизнерадостные тени; со странной задержкой движения отражает выпуклая поверхность огромной медной вазы, стоящей у него за спиной, в глубине сцены, у самой стены, возможно, сохранившийся остаток реквизита какого-то спектакля, что играли здесь когда-то.
– Кстати, раз уж речь зашла о моем рождении, Нетания, давайте посвятим этому космическому событию полминуты, ибо я – и я говорю не о настоящем, когда нахожусь на вершине рейтинга мира развлечений, дико популярный секс-символ эстрады…
Позволяя публике от души насладиться смехом, он кланяется, кивая с широко открытым ртом.
– В свое время, на заре своей автобиографии… короче, когда я был маленьким, до чего же я был извращенным, все провода у меня в голове были подсоединены наоборот, но вы не можете поверить, каким я был потрясным ребенком… Ну, в самом деле, – он улыбается, – хотите посмеяться, Нетания? Вы и в самом деле хотите посмеяться?
Он выговаривает самому себе:
– Что за дурацкий вопрос, прямо из задницы! Приветик! Ведь это стендап-шоу, вы еще это не усвоили? Полный балбес! Олух!
И вдруг раскрытой ладонью с невероятной силой лупит себя по лбу:
– Именно за этим они сюда и пришли! Смеяться над тобой они пришли! Не так ли, друзья мои?!
Это ужасный удар по собственному лбу, мощная затрещина. Взрыв насилия, абсолютно неожиданный. Утечка губительной информации, принадлежащей совсем иному миру. Воцаряется безмолвие. Кто-то разгрызает зубами твердую конфету, и звук разносится по всему залу. Почему он настаивал на моем приходе? Зачем ему прибегать к услугам наемного убийцы, думаю я, когда он и сам с собой совсем неплохо справляется?
– Послушайте историю, – восклицает он, словно этого удара не было и вовсе. Как будто на лбу у него нет белого пятна, становящегося постепенно красным, и очки на носу вовсе не перекошены. – Однажды, когда мне было, наверное, лет двенадцать, я решил обязательно выяснить, что же случилось за девять месяцев до того, как я родился, что именно воспламенило моего отца, неудержимо ринувшегося в атаку на мою маму. И вы должны понять, что никаких доказательств вулканической деятельности в его брюках, кроме меня, не набралось. Не то чтобы он ее не любил. Послушайте, все, что этот человек делал в своей жизни с той минуты, как открывал утром глаза и до отхода ко сну, все его комбинации-манипуляции со складами, мопедами, запчастями, тряпьем, застежками, ловкими приемами, с помощью которых мигом решаются все проблемы… да сделайте вид, будто понимаете, о чем я говорю, ладно? Прекрасный город, Нетания, чудесный… так что для него все эти глупости, по сути, значили намного больше, чем просто заработок, больше, чем все на свете: все это только для того, чтобы произвести на нее впечатление. Он просто хотел, чтобы она ему улыбалась, гладила по голове: «Хорошая собачка, хороший песик». Есть мужчины, которые пишут стихи своим любимым, верно?
– Верно! – отвечают ему из публики несколько голосов, все еще немного испуганных.
– А есть и такие, которые, кажем, покупают ей бриллианты, пентхаус, внедорожник повышенной проходимости, дизайнерские клизмы, верно?
– Вер-но! – теперь уже кричат многие из публики, жаждущие угодить ему.
– И есть такие, кто, как мой абуя[17], покупает на улице Алленби в Тель-Авиве двести пар поддельных джинсов у старухи, уроженки Румынии, как говорится, «румын» – вор, «поляк» – партнер»[18], и потом продает их в задней комнате своей парикмахерской, выдавая за настоящие ливайсы. И все это для чего? Для того чтобы вечером он мог показать ей маленькую записную книжечку, где отмечено, сколько мелочи он заработал на этом…
Он останавливается, глаза его необъяснимо блуждают, публика, затаив дыхание, будто видит то, что видит он.
– Но по-настоящему прикасаться к ней так, как мужчина прикасается к женщине, даже, скажем легонько погладить по заднице в коридоре, этаким круговым движением питы по хумусу – такого на моих глазах он никогда в жизни не делал! Так скажите же, братья мои, ведь вы люди мудрые, если уж решили жить в Нетании. Вот и объясните мне, здесь и сейчас, почему он к ней не прикасался? А? Гребаный бог его знает. Минутку, – он приподнимается на цыпочках, одаряет публику взволнованным взглядом, исполненным бесконечной благодарности, – вы действительно хотите об этом услышать? В самом деле у вас сейчас в голове подвиги и приключения моей королевской семьи, вся эта хартабуна?[19]
Мнение публики разделяется: часть с ликованием поощряет и подбадривает, другие кричат, требуют, чтобы он начал уже рассказывать анекдоты, смешить собравшихся. Два бледных байкера в черных кожаных одеждах барабанят по столу в четыре руки, а их стаканы с пивом пляшут и скачут. Трудно понять, кого поддерживают эти байкеры, быть может, они просто получают удовольствие, раздувая суматоху и переполох. Мне все еще не удается определить, то ли это двое юношей, то ли юноша с девушкой, то ли две девушки.
– Довольно, не может быть, чтобы вам по-настоящему, в самом деле хотелось познакомиться сейчас с теленовеллой о династии Гринштейн. Нет, позвольте мне понять, Нетания, это ваша попытка разгадать загадку моей магнетической личности? – Он устремляет на меня взгляд, сверкающий озорством и задором. – Вы и вправду думаете, что преуспеете там, где напрочь провалились все исследователи и биографы? – Почти весь зал дружно аплодирует. – Значит, вы воистину братья мои! Каждому из вас, Нетания, я от души говорю: «Ты ахук[20] мой! Мы – союз городов-побратимов!
Он просто тает от удовольствия и широко раскрывает глаза, источающие бесконечную наивность. Щедрый смех переполняет зал. Люди улыбаются друг другу. Даже до меня по ошибке долетают несколько улыбок.
Он стоит на авансцене, заостренные носки его сапог выступают за самый край, нависая над полом; он перечисляет возможные гипотезы, загибая пальцы на руке:
– Первое. Может быть, он, мой папа, слишком обожал ее, до такой степени, что боялся к ней прикасаться? Второе. Возможно, у нее вызывало отвращение то, что крутится он по дому с такой черной сеточкой для волос после того, как вымоет голову? Три. Наверное, это из-за Холокоста, который она пережила, и то, что он не принял участия в этом, даже в качестве статиста? Поймите, человек не только не был убит во времена Холокоста, он даже не был ранен! Четыре. Возможно, и я, и вы вообще пока не созрели для того, чтобы наши родители встретились?
Смех в публике. Он – комик, клоун – вновь носится по сцене в своих джинсах с прорезями на коленях, но зато гордящийся красными подтяжками с позолоченными застежками; его маленькие ковбойские сапоги украшают серебряные шерифские звезды. Теперь и я заметил, что на затылке у него прыгает маленькая жидкая косичка.
– Короче, только для того, чтобы закончить эту историю, чтобы наконец мы могли начать вечер, который уже заканчивается, – сахбак[21] пошел, открыл календарь, листал страницы в обратную сторону, отсчитав ровно девять месяцев со дня его рождения, нашел, нашел соответствующую дату и побежал с этой датой к куче газет «Херут»[22], которую собрал мой папа-ревизионист; половина комнаты в нашей квартире была занята «Херутом», а еще половина была заполнена тряпками, которые он продавал, мой абуя, всякие джинсы, хула-хупы, приборы для уничтожения тараканов ультрафиолетовыми лучами. Только притворитесь…
– …что вы все понимаете! – Несколько голосов в районе бара с ликованием завершают замысловатые движения его руки.
– Прекрасно, Нетания!
Даже, когда он смеется, его взгляд очень концентрирован, безрадостен, он словно следит за лентой конвейера, по которой катятся шутки, слетающие с его губ:
– А мы трое, биологический материал семейства, яану[23], теснились в оставшейся комнате с закутком, и, между прочим, ни одного листика «Херута» папа не разрешал выбросить: «Это будет Библией будущих поколений!» – возглашал он, потрясая в воздухе указательным пальцем, а его маленькие усики топорщились, словно его ударили электрошокером по яйцам. И там, девять месяцев тому назад, точно в тот день, когда я вылупился на свет – из ловушки да в западню – и навсегда изменил экологический баланс, куда, как вы думаете, попадает сахбак? Прямо в яблочко – в Синайскую кампанию![24] Улавливаете? Не безумие ли это, скажите? Гамаль Абдель Насер объявляет, что национализирует Суэцкий канал и закрывает его для прохода израильских кораблей перед самым нашим носом, а мой папа, Хезкель Гринштейн из Иерусалима, ростом метр пятьдесят девять, с волосами, как у обезьяны, с губами, как у девушки, не колеблясь ни минуты, отправляется открывать этот канал! И верно, если подумать об этом, то я в некотором роде являюсь «операцией возмездия»! Усваиваете? Я – первая расплата «по ценнику», а уж потом этот «ценник» вошел в обиход наших расчетов с соседями. Вы меня поняли? Есть Синайская кампания, операция «Караме»[25], операция «Энтеббе»[26], операция «Мать твою», а есть еще Операция «Гринштейн», по которой еще не настало время рассекретить все подробности и детали, но у нас случайно есть здесь редкая аудиозапись прямо из оперативного штаба, правда, не самого хорошего качества: «Госпожа Гринштейн! Раздвиньте ноги! Получи, египетский тиран! Трам-тарарам!» Прости, мама! Извини, папа! Мои слова выдернули из контекста! Я снова вас предал!
И с этими словами он снова страшно бьет себя обеими руками по лицу. А потом и еще раз.
Несколько секунд я ощущаю во рту вкус ржавого металла. Сидящие рядом со мной люди испуганно отшатываются в креслах, их веки сильно дрожат. За соседним столиком женщина что-то резко шепчет мужу и собирает сумочку, а он кладет руку ей на бедро, пытаясь задержать.
– А теперь, Нетания, мон амур, соль земли – между прочим, правда ли, что всякий раз, если кто-нибудь на улице спрашивает у вас: «Который час?» – то это, по всей видимости, осведомитель полиции?.. Шутка! Я просто пошутил! – Он весь сжимается, сводит брови к переносице, глаза бегают в разные стороны. – Присутствует ли здесь, среди публики, какой-нибудь Альперон, чтобы мы смогли оказать ему почет и уважение? Или Абутбуль? Молодчики из команды Деде, кто-нибудь? Бебер Амар тут? Кто-нибудь из родственников Бориса Элькоша? Или маленького Пинуша? Может быть, случайно в зале находится Тиран Ширази собственной персоной, почтивший нас своим присутствием? Бен Сутхи? Семейство Ханании Эльбаза? Элияху Русташвили? Шимон Бузатов?[27]
Его слова постепенно начинают сопровождать жидкие аплодисменты. Мне кажется, эти аплодисменты помогают людям в зале выбраться из паралича, который сковал их несколькими минутами раньше
– Нет, Нетания, – кричит он, – не поймите меня неправильно, я всего лишь хочу проверить, веду предварительную разведку! Я, видите ли, всегда перед выступлением в каком-либо месте первым делом захожу в гугл, выясняю возможные опасности…
И тут он вдруг устает. Словно вмиг опустошается. Он кладет руки на бедра, тяжело дышит. Его вытаращенные глаза устремлены в пространство, остекленевшие, застывшие, как у старика.
Он позвонил мне примерно две недели тому назад. В половине двенадцатого ночи. Я как раз вернулся с прогулки с собакой. Он представился. В его голосе чувствовалось какое-то напряженное, праздничное ожидание. Я не среагировал на это ожидание. Он смутился и спросил, я ли это и неужели его имя мне ничего не говорит. Я ответил, что не говорит. Я ждал. Терпеть не могу людей, устраивающих подобные викторины. Имя звучало знакомо, как-то смутно, но тем не менее знакомо. Я знаю его не по работе, в этом я был уверен: отторжение, которое я испытывал, было совсем иного свойства. Это кто-то из более близкого окружения, думал я. С большими возможностями для удара.
– Какая боль! – усмехнулся он. – Я-то как раз надеялся, что ты вспомнишь…
Смешок был негромким, чуть хриплым, на секунду я подумал, что он пьян.
– Не беспокойся, – сказал он, – я буду краток.
На этом месте он хихикнул:
– Я всегда короток, с трудом метр шестьдесят, и когда я умру, то меня похоронят на участке «Малых людей нации», а не там, где похоронены «Великие люди нации».
– Послушай, – сказал я, – чего ты от меня хочешь?
Он обескураженно замолчал. Снова стал выяснять, я ли это.
– У меня к тебе просьба, – сказал он и в ту же секунду стал собранным и деловитым. – Выслушай меня и реши, у меня нет проблем, если скажешь «нет». Ноу хард филингс[28], да это и не займет у тебя много времени, всего один вечер. Я, конечно, заплачу столько, сколько ты скажешь, не стану с тобой торговаться.
Я сидел в кухне, все еще держа в руке поводок. Собака, слабая, сопящая, стояла рядом, глядела на меня своими человечьими глазами, словно удивляясь, что я до сих пор не прекратил беседу.
На меня навалилась странная слабость. Я чувствовал, что между мной и этим человеком параллельно ведется еще одна беседа, приглушенная, неясная, а я слишком медлителен, чтобы понять ее. Он, по-видимому, ждал ответа, но я не понимал, о чем он просит. Возможно, он уже попросил, но я не слышал. Помню, что взглянул на свои туфли. Что-то в них, то, как они были обращены один к другому, вдруг сдавило мне горло.
Он медленно пересекает сцену, направляясь к креслу у правого ее края. Это огромное изношенное красное кресло. Возможно, оно, и как огромная медная ваза, – сохранившийся реквизит спектакля, который когда-то играли в этом зале. Он со вздохом падает в кресло, погружаясь все глубже и глубже, и, кажется, еще минута – и оно совсем его поглотит.
Люди устремляют взгляды в стаканы, зажатые в руке, кругообразными движениями кисти взбалтывают вино, наполняющее их, рассеянно щелкают орешки, поданные на блюдечках.
Молчание.
И – приглушенное хихиканье: он выглядит как ребенок в кресле великанов. Замечаю, что некоторые в зале опасаются смеяться в полный голос и избегают встречаться с комиком взглядом, словно боятся запутаться в каких-то сложных внутренних счетах, которые он ведет с самим собой. Возможно, как и я, чувствуют, что некоторым образом уже запутались и в счетах, и в человеке значительно больше, чем предполагали. Вверх медленно поднимаются сапоги, открывая взору зрителей высокие, несколько женственные каблуки. Смешки становятся все громче, набегая волна на волну, – и вот уже смех заливает весь зал.
Он брыкается, судорожно машет руками, словно тонет, и кричит, и задыхается, но, наконец, с корнем вырывает себя из глубин кресла, резким прыжком вскакивает на ноги, останавливается в нескольких шагах от кресла-гиганта, тяжело дышит и глядит с опасением на него. Публика облегченно смеется – старый, добрый слэпстик[29], – а он обращает к зрителям страшную физиономию, сеющую ужас, и зал смеется еще пуще. Наконец-то и он снисходит до улыбки, впитывая смех, на который никто не скупится. Неожиданная нежность вновь придает его лицу особую утонченность, публика бессознательно откликается на нее, выражая свою приязнь и расположение, а он, комик, эстрадник, развлекающий публику, клоун, полностью отдается отражению своей улыбки в лицах людей, той минуте, о которой невозможно подумать, будто он верит в то, что видят его глаза.
И вновь, будто не в силах вынести симпатию и любовь ни одной лишней секунды, брезгливо вытягивает губы в тонкую линию. Эту гримасу я уже видел раньше: маленький грызун молниеносным движением кусает сам себя.
– Жутко извиняюсь, что так запросто врываюсь в твою жизнь, – сказал он мне в той ночной телефонной беседе, – но я как-то надеялся, что по праву, знаешь ли, нашей юношеской дружбы, – он вновь усмехнулся, – все-таки, можно сказать, мы начинали вместе, и ты некоторым образом пошел своим путем, почет и уважение, честь тебе и хвала.
Тут он выдержал паузу, ожидая, что я вспомню, пробужусь наконец. Он не мог себе даже представить, с каким упорством я держусь за свое бессознательное состояние и каким неистовым могу быть к тому, кто пытается нас разъединить.
– Мне понадобится всего лишь минута, чтобы объяснить тебе, не более того, – сказал он. – Посвятишь мне минуту своей жизни, сабаба?
Примерно одного со мной возраста, а разговаривает на молодежном сленге: ничего хорошего из него не выйдет. Я закрыл глаза и попытался вспомнить. Дружба дней юности. Из каких дней юности он ко мне прибыл? Из детства в Гедере? Из тех лет, когда по причине деловой активности отца я мотался с родителями между Парижем, Нью-Йорком, Рио-де-Жанейро и Мехико? Или, возможно, из тех времен, когда мы вернулись в Израиль и я учился в иерусалимской средней школе? Я пытался думать быстро, отыскать пути к собственному спасению. Этот голос вгонял меня в тоску, будоражил тени души.
– Скажи, – вдруг взорвался он, – ты прикидываешься или стал слишком важной шишкой, чтобы… Как же ты не помнишь?
Давно уже не говорили со мной таким тоном. До меня словно долетело дуновение чистого, свежего воздуха, мигом стряхнувшего ту мерзость, которую я обычно чувствую при выражении пустого благоговения и почитания окружающих, даже спустя три года после того, как я ушел на покой.
– Как же можно такое не помнить? – гневно продолжал выговаривать он. – Целый год мы учились вместе у этого Кальчинского из квартала Баит ва-Ган, а после занятий обычно пешком шли вместе к автобусу…
Постепенно наступала ясность. Я вспомнил маленькую квартирку, где даже в полдень царил сумрак, потом вспомнил и мрачного учителя, очень высокого, тощего, сутулого, иногда мне даже казалось, что плечами он подпирает потолок. Мы, пять или шесть парней из разных иерусалимских школ, лишенных способностей к математике, собирались группой, чтобы вместе учиться частным образом.
Он продолжал говорить, охваченный бурным волнением, обижаясь, напоминая о том, что давно было забыто. Я слушал его и не слышал. На подобные чувства не было у меня никаких сил. Я переводил глаза с одного предмета в кухне на другой: здесь я должен починить, тут – побелить, там – смазать, а там – законопатить. На языке Тамары эти каждодневные обязанности по дому называются «тюрьма «Маасияху»[30].
– Ты меня вычеркнул напрочь, – сказал он, потрясенный.
– Я сожалею, – пробормотал я.
И, только услышав самого себя, вдруг понял, что именно мне действительно есть о чем сожалеть. Тепло собственного голоса кое-что открыло мне самому, и из этого тепла явился мальчик, весь, до малейшего штриха – очень светлый, весь в веснушках, буквально усыпанный ими. Невысокий, худощавый мальчик, в очках, с выступающими губами, беспокойными с вызовом. Мальчик, который говорил быстро и всегда немного хрипло. И я тут же вспомнил, что, несмотря на светлую кожу и розовые веснушки, его густые курчавыеволосы были очень темными, жгуче-черными, и этот цветовой контраст производил на меня своеобразное впечатление.
– Я тебя помню, – неожиданно сказал я, – конечно же, мы, бывало, шли вместе… Не могу поверить, что мог вот так…
– Слава богу, – вздохнул он, – я уже начал думать, что выдумал тебя.
– И ве-чер доб-рый потрясающим красавицам Нетании! – грохочет он, вновь возвращаясь к прыжкам и пляскам по сцене, и стучит каблуками. – Я знаком с вами, девушки, хорошо знаю изнутри… Что ты спрашиваешь, тринадцатый столик? Ну и наглец же ты, это тебе уже говорили?
Его лицо суровеет, и на секунду кажется, что он и вправду обижается:
– Ну, знаешь ли, напасть с таким вопросом на застенчивого, замкнутого в своем внутреннем мире человека, подобного мне… Конечно же, у меня были женщины из Нетании! – приветственно восклицает он и выдает головокружительную улыбку во весь рот. – Не гнушался! Времена были трудные, мы вынуждены были довольствоваться малым…
Публика – и мужчины, и женщины – колотит ладонями по столу, свистит, хохочет, ревет «Позор!». А он на сцене преклоняет колено перед тремя загорелыми смешливыми пожилыми дамами, подсиненные волосы которых уложены в воздушные прически.
– Алахан[31], восьмой столик, что нынче празднуют красавицы? Кто-то из вас в эту самую минуту становится вдовой? Есть ли мужчина, в предсмертных муках отдающий душу свою в одной из больниц Нетании? Вперед, дружище, вперед! – Он подбадривает издали этого воображаемого друга. – Еще один рывок – и ты свободен.
Женщины смеются, беспорядочно лупят руками воздух. Он, вращаясь вокруг своей оси, скачет по сцене и в какую-то минуту чуть не сваливается с нее, а публика смеется еще громче.
– Трое мужчин! – выкрикивает он, высоко держа три пальца. – Трое мужчин, итальянец, француз и еврей, сидят в пабе и рассказывают, как они доставляют удовольствие своим женщинам. Француз говорит: «Я свою мадемуазель от макушки до кончиков пальцев ног смазываю прованским маслом, и после того, как она кончает, потом кричит еще пять минут. Итальянец говорит: «Я же, когда накачиваю свою синьору, то прежде всего смазываю ее тело сверху донизу оливковым маслом, которое покупаю в одной деревушке на Сицилии, и когда она кончает, потом кричит еще десять минут». А еврей молчит. Ни слова. Француз и итальянец смотрят на него: «А что с тобой?» – «Со мной? – отвечает еврей. – Я мою Песю смазываю гусиным салом, тем, что у нас называется «шмальц», и после того, как она кончает, потом кричит еще целый час». «Час?» Француз и итальянец прямо с ума сходят: «Что именно ты ей делаешь?» – «А-а-а, – говорит еврей, – вытираю руки занавеской».
Оглушительный смех. Женщины и мужчины вокруг меня обмениваются взглядами. Я заказал фокаччу и печеный баклажан с тхиной. Меня одолел голод.
– Где же я был? – весело говорит он, краем глаза следя за моей беседой с официанткой, и мне кажется, он счастлив от того, что я заказываю себе какую-то еду.
– Шмальц, еврей, его жена… Мы, истинно, народ особый, верно, братья мои! Нет, нет еще другого такого народа, как наш еврейский народ! Самый-самый избранный! Самый-самый особый! Ультраособый! – Публика аплодирует. – Правду говоря, по этому поводу, если вы позволите небольшое отклонение, как говорил некрофил своей покойной теще, – до чего же меня раздражает новый антисемитизм! Нет, серьезно: к старому антисемитизму я уже как-то привык, даже немножко ему симпатизировал, этим прелестным сказкам о сионских мудрецах, нескольких троллях с бородой, с длинным крючковатым носом, которые, собравшись вместе, требуют аппетайзеры проказы с кардамоном и чумой, обмениваются рецептами киноа, рисовой лебеды и яда для отравления колодцев да заодно прирезывают к Пасхе христианского младенца. Эй, ребята, вы не обратили внимания, что в этом году младенцы несколько горчат? Со всем этим мы уже научились жить, привыкли, это часть нашего наследия, яани[32]. И вдруг являются к тебе эти со своим новым антисемитизмом, прямо не знаю, но мне с ним до того неудобно, что даже хочется от них отмежеваться. – Он заламывает пальцы, и плечи его извиваются с неподдельным смущением. – Не знаю, как сказать, без того, чтобы, не приведи господь, не задеть и не оскорбить новых антисемитов, однако дружбаны-приятели мои, дахилькум[33], что-то в вашем подходе слегка раздражает, так? Потому что иногда я думаю: что будет, если какой-нибудь израильский ученый, к примеру сказать, вдруг изобретет лекарство против рака, так? Лекарство, которое покончит с раком раз и навсегда? Так вот, я вам гарантирую, что во всем мире тут же начнутся вопли, вспыхнут протесты и демонстрации, голосования в ООН, статьи во всех европейских газетах: «А почему, собственно, надо причинять вред раку?» И если уж причинять вред, то зачем же тотчас уничтожать? Почему бы и нам самим не поставить себя на его место и поглядеть, например, как он, рак сам, со своей стороны, переживает болезнь? Давайте не будем забывать, что у рака есть и положительные стороны. Факт! Есть немало людей, которые вам скажут, что противоборство с раком сделало их лучше! И надо помнить, что исследования рака ведут к разработке лекарств от других болезней, а теперь это все вдруг прекратится, да еще посредством полного уничтожения! Что, вы не усвоили уроки прошлого? Забыли «мрачные эпохи»? И вообще, – на его лице появляетсязадумчивость, – есть ли и вправду в человеке нечто такое, что делает его выше рака и поэтому он обладает полным правом рак уничтожить?
Раздаются жидкие аплодисменты. Но его уже несет дальше:
– До-об-рый вечер и вам, мужчины. Не страшно, что вы пришли. Будете сидеть тихо, позволим вам следить за происходящим в ранге наблюдателей, а поведете себя неподобающе – отправим всех в соседнюю комнату для химической кастрации, сабаба? Итак, уважаемые леди, позвольте мне наконец-то представиться официально, и давайте покончим с дикими догадками относительно личности этого таинственного и обаятельного мужчины: Довале Джи, это имя, это заглавие, это самый успешный бренд на всем пространстве южнее Хадрамаута[34], да и запомнить легко: Довале – это как «оп але!» или как «дай суфле!», а Джи – как известная точка, яблочко в мишени для наших дротиков. И вот он я – весь ваш, девочки, добыча для ваших самых необузданных фантазий, с этой минуты и до полуночи. «Но почему до полуночи?» – спрашиваете вы с разочарованием. Потому что в полночь я отправлюсь домой, и только одна из всех присутствующих здесь красавиц удостоится сопровождать меня и слиться с моим бархатным телом в ночь вертикальных и горизонтальных прикосновений, но главным образом виральных, но и это, разумеется, только в такой степени, в какой позволит мне голубой шар счастья, который дает мне несколько часов или предоставляет взаймы то, что отобрал рак простаты. Скобка открывается: какой же он идиот, этот рак, если вы меня спросите. Серьезно, подумайте только. У меня есть столь прекрасные притягательные части тела. Люди приезжают из Ашкелона полюбоваться этой красотой. Например, великолепной круглой пяткой, – он поворачивается к залу спиной и, согнув ногу в колене, с грациозным обаянием поднимает сапог, – или моими точеными бедрами, или шелковистой грудью, или ниспадающими волосами. Но этот дегенерат, рак, предпочитает погрязать в моей простате! Получает удовольствие, играя с моей пиписькой. До чего же я разочаровался в нем. Скобка закрывается. Но до полуночи, сестры мои, мы сорвем крышу смехом, пародиями, избранными номерами из моих выступлений за последние двадцать лет, о чем не написано в объявлениях, потому что я даже шекель не стану выбрасывать на объявления, рекламирующие меня, кроме малюсенького объявления, величиной с почтовую марку в бесплатном еженедельнике, выходящем в Нетании. Эти шлюхи даже листок на дереве не приклеили. Сэкономил ты на мне, Иоав. Чтоб ты был здоров, душа моя. Пикассо, пропавший пес-ротвейлер, получил здесь на электических столбах больше экранного времени, чем досталось мне, ведь я проверил, столб за столбом, обошел всю промзону Нетании. Сатхен[35], Пикассо, задал ты им жару, только не спеши возвращаться, послушай меня, со всей ответственностью говорю: самый лучший способ добиться того, чтобы тебя оценили в каком-либо месте, – просто не быть там, правда? Не такова ли была идея, стоявшая за деяниями Бога во время Холокоста? Не на этом ли основана вся концепция смерти?
Публика увлечена полностью.
– Нет, скажите мне, Нетания, разве не безумие то, что мелькает в голове людей, развешивающих объявления о пропавших животных? «Потерялся хомячок золотистого цвета, хромает на одну ножку, на глазах катаракта, не переносит глютен, страдает аллергией на миндальное молоко». Алло, какие у вас проблемы? Даже без всяких поисков могу вам сказать, где он: ваш хомячок в приюте для инвалидов и больных.
Публика смеется от всего сердца и немного успокаивается, словно чувствует, что где-то исправлена опасная ошибка в навигации.
– Я хочу, чтобы ты пришел на мое представление, – сказал он мне по телефону после того, как ему удалось прорваться в мою упрямую память.
Мы даже предались воспоминаниям, на удивление весьма приятным; мысленно вернулись к тем часам, когда дважды в неделю шли вместе от квартала Баит ва-Ган к автобусу, который привозил меня прямо к дому в квартале Талпиот. Он говорил о наших прогулках с огромным воодушевлением.
– Именно там началась наша дружба, – повторил он дважды или трижды, сопровождая свои слова легким смехом, в котором звучало удивительное счастье. – Мы шли и говорили, и говорили… «Уоки-токи» – наша дружба, – продолжал он, вспоминая мельчайшие подробности, будто эта мимолетная дружба была лучшим из того, что случилось с ним в жизни.
А я терпеливо слушал, надеясь узнать, чего именно ему хочется, что я должен сделать ради него, – и уж тогда мне удастся отказать, не причиняя особой боли, а затем вновь исторгнуть его из моей жизни.
– Какое именно представление ты просишь меня посмотреть?
Я решительно перебил, как только он на миг остановился, набирая воздуха в легкие.
– Я, – он ухмыльнулся, – как бы это сказать… в принципе я делаю стендап.
– А-а, – произнес я с облегчением, – это не для меня.
– Ты знаком с жанром стендап? – спросил он с легкой усмешкой. – Я как-то не думал, что ты вообще… Тебе доводилось когда-нибудь видеть такое шоу?
– Иногда, по телевизору, – ответил я. – Не воспринимай это как на свой счет, но это как раз то, что мне совершенно ни о чем не говорит.
Я мгновенно выбрался из паралича, охватившего меня с той минуты, как я ответил на телефонный звонок. Была ли в его обращении ко мне какая-то тайна, загадка или некое невысказанное обещание, предположим, возобновить старую дружбу, – все это немедленно утратило силу, мигом развеялось: стендап-комеди.
– Послушай, – сказал я, – для тебя я не клиент. Все эти игры, шуточки, смешки не для моей головы и не для моего возраста, сожалею.
Он медленно произнес:
– О’кей, твой ответ абсолютно ясен, никто не обвинит тебя в том, что ты наводишь тень на плетень.
– Не пойми меня неправильно, – сказал я и тут же заметил, что собака поднимает уши и смотрит на меня с тревогой, – я уверен, есть немало людей, которые получают удовольствие от подобных представлений, я никого не сужу, у каждого свой вкус…
По-видимому, я прибавил еще несколько слов в том же духе. К счастью, я не все помню. Мне нечего добавить в свою защиту, возможно, только то, что с первой же минуты я чувствовал – наверное, смутно помнил, – что у этого человека есть некий дар или склад характера «ключа-отмычки» (вдруг в памяти всплыло это выражение из детства) и я должен быть предельно осторожным.
Но и это, разумеется, никак не оправдывает мои нападки. Потому что я вдруг ни с того ни с сего напустился на него, словно мой собеседник был полномочным представителем легкомысленной несерьезности всего человечества во всех ее обличьях.
– И для таких, как ты, – вскипел я, – любая вещь, по сути, только повод для смеха, каждая вещь и каждый человек – все сгодится, почему бы и нет, если есть немного таланта к импровизации и быстрая реакция. Тогда все можно превратить в шутку, в пародию, в карикатуру – болезни, смерть, войны, – все поддается осмеянию, а?
Наступило долгое молчание. От головы медленно отливала кровь, оставляя после себя ощущение холода в мозгу. И еще удивление от самого себя: во что я превратился?
Я слышал его дыхание. Чувствовал Тамару, сжимающуюся во мне. «Ты полон гнева», – сказала она. Я полон тоски, думал я, разве ты не видишь? У меня – отравление тоской.
– С другой стороны, – сдавленно бормотал он с какой-то меланхолией, терзавшей мое сердце, – по правде, я и сам уже не так увлечен стендапом, как прежде. Раньше – да, раньше для меня это было подобно хождению по канату. Каждую минуту ты вот-вот рухнешь на глазах у всех. Промахнешься на миллиметр – утратил кульминацию шутки, или, скажем, употребил слово не там, где оно должно быть, или голос чуть повысил, а не понизил – и публика тут же на месте к тебе охладевает. Но если спустя секунду после этого ты тронешь ее верным словом – публика раздвинет ноги.
Собака попила воды. Ее длинные уши касались пола по обеим сторонам миски. Все ее тело было в огромных проплешинах; она почти ослепла. Ветеринар беспрестанно надоедал мне, чтобы я согласился усыпить животное. Ветеринару всего тридцать один. Я представлял себе, что он и меня видит кандидатом на усыпление. Я поднял ноги, устроив их на стуле, стоявшем передо мной. Попытался успокоиться. Из-за подобных вспышек я три года назад потерял работу. А теперь я думал: «Кто знает, что я потерял сейчас?»
– А с третьей стороны, – продолжил он, и только когда я понял, каким долгим было молчание, в котором пребывали мы оба, погрузившись каждый в свои мысли, – показывая стендап, ты все-таки смешишь людей, и это тоже вещь немалая.
Последние слова он произнес спокойно, словно обращаясь к самому себе, и я подумал: «Верно, это вещь немалая. Это великая вещь! Вот я, к примеру, с трудом помню звук собственного смеха». И я чуть было не попросил, чтобы он остановился и начал разговор с самого начала. И на сей раз – как между двумя человеческими созданиями, чтобы я, по крайней мере, постарался объяснить, как же я мог забыть его, как ненависть к запоминанию чего-то из ряда вон выходящего, причиняющего боль того, что случилось в прошлом, уже стерла огромные куски самого прошлого и постепенно стирает остальное.
– Чего я от тебя хочу? – глубоко вздохнул он. – Ладно, по правде говоря, я уже не уверен, что это вообще актуально…
– Как я понял, ты хочешь, чтобы я пришел на твое представление.
– Да.
– Но зачем? Зачем я тебе там нужен?
– Видишь ли, тут ты меня достал… Даже не знаю, как тебе сказать… Это звучит странно – просить об этом у кого-то. – И он усмехнулся. – Тахлес[36]. Я думал об этом довольно много, вот уже какое-то время я перемалываю это в себе, но не знаю, не уверен, однако, в конце концов, подумал, что только тебя я могу попросить.
Вдруг в его голосе появилось что-то новое. Почти мольба. Отчаяние последней просьбы. Я снял ноги со стула.
– Я слушаю, – произнес я.
– Я хочу, чтобы ты сначала посмотрел на меня хорошенько, а потом сказал мне.
– Сказал тебе – что?
– Что ты увидел.
– Короче, Нетания-детка, нынешним вечером здесь, перемать, мы трахнем мать всех представлений! Ваш покорнейший слуга перед сотнями поклонниц, рвущих бюстгальтеры! Да, освободи застежку, десятый стол, освободи… Оп-па! Мы услышали «бум!», а?