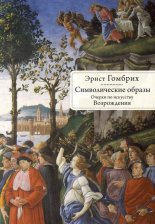Исчезновение Стефани Мейлер Диккер Жоэль

– Точно.
Мы с группой полицейских из Орфеа стали прочесывать прилегающий лес и обнаружили сломанные ветки. Здесь кто-то прошел. На кусте висел клочок ткани.
– Возможно, лоскут майки, в которой Стефани была в понедельник, – сказал я Анне с Дереком, натягивая латексную перчатку и беря лоскут.
Судя по тому, что я видел в озере, на Стефани была только одна туфля. На правой ноге. Левую туфлю мы нашли в лесу, она зацепилась за корень.
– Значит, по лесу она бежала, – заключил Дерек, – спасалась от кого-то. Иначе бы остановилась и надела туфлю.
– И преследователь нагнал ее у озера и утопил, – добавила Анна.
– Да, Анна, наверняка ты права, – кивнул Дерек. – Но ведь не от пляжа же она сюда прибежала?
Отсюда до пляжа было больше пяти миль.
Двигаясь по лесу по ее следу, мы вышли на дорогу. Примерно в двухстах метрах от полицейских заграждений.
– Видимо, она вошла здесь, – сказал Дерек.
Поблизости мы заметили на обочине следы покрышек. Значит, преследователь был на машине.
В это время в Нью-Йорке
Мита Островски сидел в своем кабинете в редакции “Нью-Йорк литерари ревью” и наблюдал в окно за белкой, скакавшей по газону в сквере. Он давал телефонное интервью – на почти идеальном французском – какому-то мутному парижскому журналу интеллектуальной направленности, их интересовало его мнение касательно восприятия европейской литературы в Соединенных Штатах.
– Ну конечно! – жизнерадостно воскликнул Островски. – Если я на сегодняшний день один из самых влиятельных критиков в мире, то лишь потому, что в последние тридцать лет не ведаю снисхождения. Незыблемая дисциплина ума – вот мой секрет. Главное, не любить. Любовь – это слабость!
– Но некоторые злые языки утверждают, что все критики – несостоявшиеся писатели, – заметила заокеанская журналистка.
– Вздор, моя дорогая, – усмехнулся Островски. – Я никогда, подчеркиваю, никогда не встречал критика, который бы мечтал писать сам. Критики выше этого. Литература – искусство вторичное. Что такое писать? Писать – это составлять слова так, чтобы получались фразы. Этому можно на учить даже мартышку!
– Какова же тогда роль критики?
– Устанавливать истину. Давать возможность массам отделять хорошее от ничтожного. Видите ли, только крохотная часть населения способна разобраться сама, что в самом деле хорошо, а что нет. А поскольку сейчас, к несчастью, все непременно желают судить обо всем на свете и, бывает, возносят до небес полное ничтожество, мы, критики, призваны навести какой-никакой порядок в этом балагане. Мы – полиция интеллектуальной истины. Вот и все.
Завершив интервью, Островски посидел в задумчивости. Как красиво он говорил! Как нетривиально! Какая блестящая аналогия: мартышка – писатель! В нескольких словах он описал закат человечества. Какое счастье, что мысль его столь быстра, а мозг работает на все сто!
В дверь его неприбранного кабинета без стука вошла усталая секретарша.
– Черт возьми, стучать надо, когда входите! – заорал Островски. – Вы что, не понимаете, чей это кабинет?
Он ненавидел эту женщину, она казалась ему унылой.
– Сегодняшняя почта, – сказала она, не удостоив его замечание ответом. И положила на стопку книг, ожидающих прочтения, одно-единственное письмо.
– И это все? – разочарованно спросил Островски.
– Все, – ответила секретарша, выходя и закрывая за собой дверь.
Как мало теперь приходит писем, просто беда! Работая в “Нью-Йорк таймс”, он получал их целыми мешками. Восторженные читатели не пропускали ни одной его критической статьи, ни одной заметки. Но так было прежде, в незапамятные времена, в те золотые деньки, когда он был всемогущ. Сегодня ему больше не писали, его перестали узнавать на улице, зрители в театре больше не перешептывались, когда он проходил мимо, писатели не поджидали его у дома, чтобы вручить свою книгу, и не набрасывались на воскресное литературное приложение в надежде прочесть на нее рецензию. Сколько успешных карьер зиждилось на его статьях, сколько имен он уничтожил убийственными фразами! Он возносил на небеса, он повергал в прах. Но то было раньше. Теперь его уже почти никто не боялся. За его статьями следили только читатели “Нью-Йорк литерари ревью” – весьма почтенного, конечно, но с несравнимо меньшей аудиторией.
В тот день, прямо с утра, у Островски возникло какое-то предчувствие. Должно было случиться нечто важное, нечто такое, что снова приведет его к успеху. Он понял, что это то самое письмо. Важное письмо. Инстинкт никогда его не обманывал: он мог понять, хороша книга или плоха, просто подержав ее в руках. Но что такое в этом письме? Ему не хотелось чересчур поспешно его вскрывать. И почему письмо, а не телефонный звонок? Он напряженно размышлял. Может, какой-то продюсер решил снять о нем фильм? Он еще повертел письмо в руках – какой шикарный конверт! Сердце у него колотилось. Наконец он разорвал его, осторожно достал вложенный листок и сразу взглянул на подпись: “Алан Браун, мэр Орфеа”.
Дорогой мистер Островски,
С радостью приглашаем Вас на 21-й национальный театральный фестиваль, который состоится в этом году в Орфеа, штат Нью-Йорк. Принимать на фестивале критика со столь блестящей репутацией – огромная честь для нас. Двадцать лет назад Вы осчастливили нас своим присутствием на самом первом фестивале, и мы с огромной радостью отпраздновали бы его двадцатилетний юбилей с Вами. Разумеется, все издержки, связанные с Вашим пребыванием в городе, мы берем на себя и постараемся устроить Вас как можно лучше.
Письмо заканчивалось обычными пышными изъявлениями почтения. К нему была приложена программа фестиваля и проспект городской туристической конторы.
Чертово письмо, какое разочарование! Чертово неважное, ничтожное письмо от ничтожного мэра какого-то ничтожного захолустного городишки! Почему его не зовут на более престижные мероприятия? Он выбросил конверт в корзину.
Чтобы отвлечься, он решил написать очередной критический обзор. Взял, как обычно, последний рейтинг книжных продаж в Нью-Йорке, ткнул пальцем в верхнюю строчку таблицы и настрочил убийственный текст о беспомощном романе, которого в глаза не видел. Его труды прервал звоночек компьютера: на почту упало письмо. Островски поднял глаза на экран. Писал Стивен Бергдорф, главный редактор. Интересно, что вдруг понадобилось Бергдорфу. Тот и раньше пытался ему звонить, но он был занят, давал интервью. Островски открыл письмо:
Мита, поскольку на мои звонки Вы ответить не соизволили, извещаю Вас письменно: с настоящего момента Вы больше не работаете в “Нью-Йорк литерари ревью”. Стивен Бергдорф.
Островски слетел с кресла, бросился вон из кабинета и, проскочив коридор, рывком открыл дверь главного редактора. Тот сидел за письменным столом.
– Так поступить со мной! – заорал он.
– Надо же, Островски, – невозмутимо произнес Бергдорф. – А я уже два дня все пытаюсь вам дозвониться.
– Как вы смеете меня увольнять, Стивен? Вы в своем уме? Нью-Йорк вас линчует! Разъяренная толпа протащит вас по Манхэттену до Таймс-сквер и вздернет на фонарь, слышите? А я ничего не смогу для вас сделать. Я буду говорить им: “Довольно! Оставьте этого несчастного человека, он не ведал, что творил!” – а они мне ответят в бешенстве: “Только смерть может смыть оскорбление, нанесенное великому Островски!”
Бергдорф раздумчиво посмотрел на штатного критика.
– Вы, кажется, угрожаете меня убить, Островски?
– Отнюдь нет! – возразил Островски. – Наоборот, спасаю вам жизнь, пока еще не поздно. Народ Нью-Йорка любит Островски!
– Ох, старина, перестаньте молоть чушь! Жителям Нью-Йорка до вас дела не больше, чем до прошлогоднего снега. Они вообще не знают, кто вы такой. Вы безнадежно устарели.
– Я был самым грозным критиком все последние тридцать лет!
– Вот именно, пора найти кого-то другого.
– Читатели меня обожают! Я…
– “Бог, но больше смог”, – перебил его главный редактор. – Я знаю ваш девиз, Островски. Но прежде всего вы старик. Хватит. Пора уступить место новому поколению. Мне очень жаль.
– Актеры, узнав, что я в театре, ходили в мокрых штанах!
– О да, но так было раньше, в эпоху телеграфа и дирижаблей!
Островски еле удержался, чтобы не съездить ему по морде. Опускаться до оплеух не хотелось. Он развернулся и вышел, не попрощавшись, – хуже оскорбления он не знал. Вернулся к себе в кабинет, велел секретарше принести коробку, сгрузил в нее самые дорогие сердцу вещи, взял ее под мышку и выбежал вон. Такого унижения он не переживал никогда.
Орфеа бурлил. Жители были взбудоражены – кто из-за обнаруженного трупа Стефани, кто из-за решения мэра отменить фейерверк на Четвертое июля. Пока мы с Дереком продолжали обследовать берега Оленьего озера, Анну вызвали на подмогу к мэрии, там намечался митинг. У здания собралась кучка демонстрантов из числа городских торговцев: они требовали не отменять фейерверк, размахивали плакатами и громко жаловались.
– Если в пятницу вечером не будет фейерверка, мне впору закрывать лавку, – негодовал лысый коротышка, державший палатку мексиканской еды. – Для меня это главный вечер сезона.
– А я вложил кучу денег, снял помещение возле набережной, персонал нанял, – вторил ему другой. – Может, мэрия возместит мне расходы, если фейерверк отменят?
– Малышку Мейлер, конечно, жалко, это ужасно, но какое отношение это имеет к национальному празднику? Каждый год к нам приезжают тысячи людей, полюбоваться фейерверком на набережной. Заранее приезжают, ходят по магазинам на Мейн-стрит, потом ужинают в городских ресторанах. Если не будет фейерверка, никто не приедет!
Митинг был мирный, и Анна решила подняться на третий этаж, в кабинет Брауна. Мэр стоял у окна. Он поздоровался с ней, не сводя глаз с демонстрантов.
– Радости политики, – вздохнул он. – Это убийство всколыхнуло весь город, и теперь я прослыву бессердечным, если не отменю празднества, а если отменю – безумцем, уничтожающим торговлю.
Они с минуту помолчали. Анна попыталась немного его приободрить:
– Люди очень вас любят, Алан…
– К несчастью, Анна, я вполне могу провалиться на выборах в сентябре. Орфеа уже не тот город, что прежде, жители требуют перемен. Надо выпить кофе. Хочешь кофе?
– С удовольствием, – ответила она.
Анна думала, что мэр попросит секретаршу принести две чашки, но он потащил ее в коридор, в конце которого стоял автомат с горячими напитками. Опустил в машину монетку, и черноватая жидкость потекла в картонный стаканчик.
Браун был весьма импозантным мужчиной – бархатистый взгляд, актерская внешность; одет всегда с иголочки, седеющая шевелюра уложена волосок к волоску. Первый стаканчик наполнился, он протянул его Анне и повторил операцию.
– А это так важно, что вас могут не переизбрать? – спросила Анна, пригубив отвратительную жижу.
– Анна, знаешь, что мне в тебе понравилось, когда мы с тобой прошлым летом первый раз встретились на набережной?
– Нет…
– У нас у обоих высокие идеалы, общие устремления и взгляды на общество. Ты могла бы сделать головокружительную карьеру в полиции Нью-Йорка. А я давно мог бы поддаться на зов политических сирен и выдвинуться в сенат или в конгресс. Но нас с тобой это, в сущности, не интересует, потому что в Орфеа мы можем реализовать то, что никогда бы не осуществили в Нью-Йорке, Вашингтоне или Лос-Анджелесе, – идею справедливого города, с настоящей общественной жизнью, без особого неравенства. Когда в девяносто втором году Гордон предложил мне стать его заместителем, все надо было начинать с нуля. Этот город был как чистый лист. Мне более или менее удалось выстроить его в соответствии с моими убеждениями. Я всегда старался думать о справедливости, о том, как будет лучше для блага нашего сообщества. С тех пор как я стал мэром, люди больше зарабатывают, их жизнь улучшилась благодаря отличной сфере услуг, более высоким социальным выплатам, причем все это было сделано без повышения налогов.
– Тогда почему вы считаете, что жители Орфеа могут вас в этом году не переизбрать?
– Потому что прошло время, и они все забыли. С первого моего мандата сменилось почти целое поколение. Сегодня у них иные ожидания, да и требования тоже, ведь все это уже считается нормой. К тому же Орфеа процветает, а это разжигает аппетиты: куча мелких честолюбцев, жаждущих урвать хоть капельку власти, спят и видят, как бы пробраться в мэрию. Ближайшие выборы могут стать концом для города. Его ис портит жажда власти, эгоистическое желание править любой ценой, которыми будет движим мой преемник.
– Ваш преемник? И кто он?
– Пока не знаю. Но рояль в кустах найдется, вот увидишь. До конца месяца еще можно выдвигать свои кандидатуры на пост мэра.
Самообладание у Брауна было поразительное. В этом Анна убедилась, когда под вечер отправилась с ним в Саг-Харбор, к родителям Стефани.
Атмосфера у дома Мейлеров, обнесенного полицейскими заграждениями, была очень напряженной. На улице стояла плотная толпа. Кто просто пришел поглазеть на суматоху, кто хотел выразить поддержку семье. Многие держали в руках зажженные свечи. У фонаря возник импровизированный алтарь с горой цветов, записок и мягких игрушек. Кто-то пел, кто-то молился, кто-то фотографировал. Туда же съехалось множество журналистов со всего округа, тротуар был частично заставлен фургонами местных телеканалов. Заметив мэра, журналисты окружили его и стали спрашивать об отмене фейерверка Четвертого июля. Анна хотела отстранить их, позволить мэру пройти, не отвечая на вопросы, но он ее удержал. Ему хотелось сделать заявление для прессы. От подавленного человека, которого она только что видела в кабинете, не осталось и следа: он снова был на коне и излучал уверенность в себе.
– Я знаю, что беспокоит коммерсантов нашего города, – громко произнес он. – Я прекрасно их понимаю и отдаю себе полный отчет в том, что отмена празднеств по случаю Четвертого июля может поставить под угрозу и без того шаткую местную экономику. Я провел консультации со своей администрацией и принял решение не отменять фейерверк, а посвятить его памяти Стефани Мейлер.
Довольный произведенным эффектом, мэр не стал отвечать на другие вопросы и двинулся дальше.
В тот вечер Анна, доставив Брауна домой, задержалась на парковке причала у океана. Было восемь часов. Упоительное тепло струилось через опущенные стекла в кабину машины. Ей не хотелось сидеть дома одной, но еще больше не хотелось идти в ресторан в полном одиночестве.
Она позвонила своей подруге Лорен, но та была в Нью-Йорке.
– Тебя, Анна, не поймешь, – сказала Лорен. – Когда тебя зовешь поужинать, ты каждый раз отказываешься под любым предлогом, а стоит мне уехать в Нью-Йорк, как ты мне предлагаешь сходить в ресторан?
Препираться Анне не хотелось. Она нажала на отбой и пошла купить себе еды навынос в какой-нибудь палатке на набережной. Потом поехала на службу, к себе в кабинет, и стала ужинать, изучая магнитную доску с документами расследования на стене. Глядя на имя “Кирк Харви”, написанное на доске, она вдруг вспомнила рассказ, услышанный накануне от Льюиса Эрбана – про насильственное переселение бывшего шефа полиции в подвал. В подвале действительно было помещение, служившее чуланом. Она решила немедленно спуститься туда. У двери ее охватило странное чувство, ей чуть не стало дурно: она представила себе, как двадцать лет назад на этом месте стоял Кирк Харви.
Лампочка перегорела, ей пришлось освещать дорогу фонариком. Все помещение было завалено стульями, шкафами, колченогими столами и коробками. Она расчистила себе проход через это мебельное кладбище и наконец добралась до деревянного, покрытого лаком письменного стола, заваленного всякими предметами; среди них под слоем пыли виднелась металлическая табличка с гравированной надписью: “Шеф полиции К. Харви”. Это был его стол. Она стала выдвигать ящики. Три были пусты, а четвертый не поддавался. В нем была замочная скважина, он запирался на ключ. Она сходила в соседнюю мастерскую, попросила монтировку. Замок легко поддался, и ящик открылся, издав сухой щелчок. Внутри лежал один-единственный листок бумаги. На нем было написано от руки:
ЧЕРНАЯ НОЧЬ
Анна Каннер
Больше всего на свете я люблю ночное патрулирование в Орфеа.
Больше всего на свете люблю тихие, спокойные улицы, купающиеся в теплой летней мгле, когда темно-синее небо усыпано звездами. Медленно катить по мир но спящим кварталам, мимо закрытых ставней. Повстречать бессонного прохожего или счастливую пару, проводящую ночь на террасе и дружески машущую вам рукой.
Больше всего на свете люблю улицы в центре, когда зимней ночью вдруг начинает идти снег и земля быстро покрывается пышным белым налетом. Когда ты одна не спишь, когда еще не закружились снегоуборщики и ты первая оставляешь след на нетронутом снегу. Выйти из машины, пешком обойти сквер, слышать, как снег скрипит под ногами, и с наслаждением наполнить легкие сухим бодрящим морозцем.
Больше всего люблю встретить на рассвете лису, трусящую по главной улице.
Больше всего люблю восход над побережьем, в любое время года. Смотреть, как на чернильно-синем горизонте вдруг проклевывается розовая точка, как она наливается рыжим светом, а потом огненный шар медленно поднимается над волнами.
Я переехала в Орфеа через несколько месяцев после того, как подписала все бумаги о разводе.
Замуж я выскочила поспешно, за человека, исполненного всяческих достоинств, но не своего. Наверно, я так поспешила с браком из-за отца.
Мы с отцом всегда были в очень близких и тесных отношениях. С самого моего раннего детства мы с ним были одним целым. Я хотела делать то же, что и он. Повторяла все, что говорил он. Шла за ним, куда бы он ни направлялся.
Отец любит теннис. Я тоже играла в теннис, в одном с ним клубе. По воскресеньям мы с ним часто разыгрывали матчи, и чем старше я становилась, тем жестче делались наши поединки.
Отец обожает играть в скрэббл. По странной случайности я тоже обожаю эту игру. Много лет мы с ним на зимних каникулах отправлялись кататься на лыжах в Уистлер, в Британскую Колумбию. Каждый вечер после ужина мы садились в холле отеля и сражались в скрэббл, тщательно записывая все партии – кто выиграл и с каким количеством очков.
Мой отец – адвокат, окончил Гарвард, и я, само собой, без лишних вопросов поехала в Гарвард изучать право. Мне всегда казалось, что прямо с рождения я только этого и хотела.
Отец мной очень гордился, всегда и во всем. В теннисе, в скрэббле, в Гарварде. В любых обстоятельствах. Ему никогда не надоедало слушать потоки похвал, которые расточали в мой адрес. Больше всего на свете он любил, чтобы ему говорили, какая я умная и красивая. Я видела, с какой гордостью он перехватывал обращенные на меня взгляды, когда я где-нибудь появлялась – на вечеринке, куда мы приходили вместе, на теннисном корте, в холле нашей гостиницы в Уистлере. И в то же время он на дух не переносил всех моих парней. С шестнадцати-семнадцати лет у меня начались романы, но ни один мальчик в глазах отца не был для меня достаточно хорош, достаточно красив или достаточно умен.
– Ну, Анна, – говорил он, – могла бы найти себе кого-нибудь получше!
– Он мне очень нравится, папа, это все-таки главное, нет?
– Ты что, можешь представить себя замужем за этим типом?
– Папа, мне семнадцать лет! Я пока не собираюсь замуж!
Чем дольше длилась связь, тем мощнее становилась отцовская кампания обструкции. Вел он ее подспудно, не в лоб. Пользуясь любой возможностью, он каким-нибудь невинным замечанием, подмеченной деталью, брошенным вскользь соображением медленно, но верно разрушал образ очередного возлюбленного. И в конце концов я неизбежно с ним расставалась – в уверенности, что сама хотела разрыва; по крайней мере, мне хотелось так считать. Но хуже всего было то, что, когда появлялся новый, отец неизменно говорил: “Предыдущий у тебя был просто чудесный парень – жаль, между прочим, что вы расстались, – а что ты в этом нашла, я вообще не понимаю”. И я каждый раз попадалась. Неужели я в самом деле была такой простофилей, позволяла отцу без моего ведома управлять моими отношениями? Не знаю; скорее всего, я уходила от них не по каким-то конкретным причинам, а потому, что не решалась любить кого-то, кого не любит отец. Для меня было немыслимо оставаться с человеком, который не нравится отцу.
Окончив Гарвард, я сдала экзамен на адвоката в Нью-Йорке и стала работать в отцовском бюро. Продолжалось это год, за который я обнаружила, что правосудие с его возвышенными принципами – это лишь машина, неспешная и затратная, плодящая вороха бумаг и крючкотворство, из чрева которой даже победители, по сути, не могли вырваться без потерь. Вскоре я пришла к мысли, что куда успешнее смогу служить правосудию на его начальной стадии и принесу больше пользы на улице, чем в комнатах для свиданий с заключенными. Я подала документы в школу полиции – к величайшему огорчению родителей, особенно отца: он был очень недоволен моим уходом из конторы, но надеялся, что это не отречение, а мимолетная прихоть и я брошу учебу на полпути. Через год я сдала выпускные экзамены с отличными результатами, снискав единодушные похвалы наставников, и поступила инспектором в отдел уголовных расследований 55-го участка в Нью-Йорке.
И немедленно влюбилась в эту работу – главным образом, из-за множества мелких ежедневных побед, позволивших мне осознать, что хороший коп способен многое поправить в бурном хаосе жизни.
Мое место в отцовском бюро предложили адвокату по имени Марк; он был на несколько лет старше меня и уже довольно опытный.
Первый раз я услышала имя Марка за семейным ужином. Отец восхищался им. “Блестящий молодой человек, одаренный, красавец мужчина, – говорил он. – Все при нем. Даже в теннис играет”. А потом вдруг произнес слова, которые я услышала от него впервые в жизни: “Он тебе понравится, ни капли не сомневаюсь. Мне бы хотелось вас познакомить”.
Мне в тот период жизни очень хотелось с кем-нибудь познакомиться. Но из всех моих знакомств ничего серьезного не выходило. С тех пор как я пошла работать в полицию, все мои связи обрывались после первого же ужина или первого выхода “в свет”: узнав, что я коп, да еще из уголовки, все страшно возбуждались и начинали засыпать меня вопросами. Сама того не желая, я привлекала всеобщее внимание, все лучи света сходились на мне. И зачастую мой роман завершался на фразе вроде: “С тобой очень тяжко, Анна, всем интересна только ты, а я как будто не существую. Кажется, мне нужен кто-то другой, кто оставит мне больше места”.
Наконец однажды, зайдя как-то под вечер в контору проведать отца, я встретила пресловутого Марка и с радостью обнаружила, что он подобными комплексами не страдает: врожденное обаяние притягивало к нему все взгляды, он легко вписывался в любой разговор. Знал все обо всем, почти все умел, а если не умел, то умел восхищаться чужим умением. Я смотрела на него так, как никогда ни на кого не смотрела прежде – быть может, потому, что в глазах отца читалось упоение. Он обожал Марка. Тот был его любимчиком, они даже стали вместе играть в теннис. Отец говорил о нем не иначе как с придыханием.
Марк пригласил меня выпить кофе. Ток между нами пробежал немедленно. Идеальная алхимия, бешеный подъем. Третий кофе он принес мне в постель. Ни он, ни я ничего не говорили отцу, и однажды вечером, за ужином, он сказал:
– Как бы я хотел, чтобы у нас все было серьезно, по-настоящему…
– Но что?.. – с опаской спросила я.
– Я знаю, как тебя обожает отец, Анна. Он слишком высоко задрал планку. Не знаю, насколько он меня ценит.
Когда я передала слова Марка отцу, тот стал обожать его еще сильнее, даром что это было невозможно. Пригласил к себе в кабинет, откупорил бутылку шампанского.
Марк описал мне эту сцену, и я хохотала до слез. Схватила стакан, подняла его и, подражая отцовскому голосу и жестам, провозгласила: “За мужчину, который трахает мою дочь!”
Так начался наш с Марком страстный роман, переросший в самую настоящую привязанность в лучшем смысле слова. Первое серьезное испытание мы прошли, когда отправились на ужин к моим родителям. И я впервые за последние пятнадцать лет увидела, что отец сияет, что он приветлив и предупредителен по отношению к моему спутнику. Всех предыдущих он отметал с порога, а этот приводил его в экстаз.
– Какой парень! Какой парень! – твердил мне отец по телефону на следующий день.
– Просто потрясающий! – слышался на заднем плане голос матери.
– Ты уж постарайся, чтобы он не сбежал, как все прочие, – не постеснялся добавить отец.
– Да, ценный кадр, – сказала мать.
Момент, когда мы с Марком собирались пройти второе испытание – отпраздновать годовщину наших отношений, – совпал с традиционными лыжными каникулами в Британской Колумбии. Отец предложил отправиться в Уистлер всем вместе, и Марк охотно согласился.
– Если ты выживешь после пяти вечеров с отцом и особенно после матчей по скрэбблу, тебе впору давать медаль.
Он не только выжил, но еще и трижды выиграл. В довершение всего на лыжах он катался как бог, а в последний вечер, когда мы ужинали в ресторане и посетителю за соседним столиком стало плохо с сердцем, именно Марк вызвал скорую, а пока та ехала, оказывал больному первую помощь.
Мужчину спасли и доставили в больницу. Когда спасатели выносили его на носилках, врач, приехавший с ними, с восхищением пожал Марку руку: “Вы спасли человеку жизнь, вы настоящий герой”. Ему аплодировал весь ресторан, а владелец отеля не позволил нам заплатить за ужин.
Эту историю отец рассказывал полтора года спустя, на нашей свадьбе, объясняя приглашенным, какой Марк исключительный человек. А я сидела в белом платье и сияла, не сводя с мужа глаз.
Нашему браку суждено было продержаться меньше года.
Джесси Розенберг
Четверг, 3 июля 2014 года
23 дня до открытия фестиваля
Первая полоса “Орфеа кроникл”:
УБИЙСТВО СТЕФАНИ МЕЙЛЕР СВЯЗАНО
С ТЕАТРАЛЬНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ?
Весь город взволнован убийством Стефани Мейлер, молодой журналистки “Орфеа кроникл”, чье тело было обнаружено в Оленьем озере. Горожане в тревоге, городским властям в начале летнего сезона приходится нелегко. Неужели среди нас бродит убийца?
Записка с упоминанием театрального фестиваля в Орфеа, найденная в машине Стефани, наводит на мысль, что она заплатила жизнью за журналистское расследование убийства в 1994 году мэра Гордона, основателя фестиваля, и его семьи.
Газету нам с Дереком показала Анна, когда мы встретились утром в окружном отделении полиции штата. Мы ждали доктора Ранджита Сингха, судмедэксперта: он должен был представить первые результаты вскрытия тела Стефани.
– Этого еще не хватало! – рассердился Дерек.
– Это я, дурак, сказал Майклу про записку, – произнес я.
– Я его встретила в кафе “Афина” перед тем, как сюда при ехать. По-моему, он сильно переживает из-за смерти Стефани. Сказал, что чувствует себя немного виноватым. Что слышно от криминалистов?
– Следы автомобильных покрышек на обочине 17-го шоссе, к сожалению, не поддаются анализу. Зато туфля точно принадлежит Стефани, а лоскут ткани – от футболки, которая была на ней. Еще они нашли след ее туфли на обочине.
– Это подтверждает, что в лес она зашла именно в этом месте, – подытожила Анна.
Наш разговор прервало появление доктора Сингха.
– Спасибо, что так быстро все сделали, – сказал ему Дерек.
– Хотел, чтобы вам было с чем работать до выходных Четвертого июля, – ответил тот.
Доктор Сингх, щеголеватый обходительный мужчина, водрузил на нос очки и зачитал нам основные пункты заключения:
– Я отметил несколько не вполне обычных деталей, – сразу приступил он к делу. – Стефани Мейлер умерла от утопления. Я обнаружил большое количество воды в легких и в желудке, а также тину в трахее. Присутствуют выраженные признаки цианоза и дыхательной недостаточности; это означает, что она боролась или, в данном случае, отбивалась. Имеются гематомы на затылке в форме отпечатка широкой ладони: по-видимому, ее крепко держали за шею и погружали головой в воду. Помимо следов тины в трахее, следы тины обнаружены на губах и зубах, а также на концах волос; это свидетельствует о том, что ее голову удерживали в воде на небольшой глубине.
– Есть ли следы насилия перед утоплением? – спросил Дерек.
– Следы сильных ударов отсутствуют, я имею в виду, что Стефани не забили до смерти и не избивали. Следов сексуального насилия также нет. Полагаю, что Стефани убегала от убийцы, и он ее настиг.
– Он? – переспросил Дерек. – По-твоему, это мужчина?
– Учитывая, какая нужна сила, чтобы удержать человека под водой, да, я бы скорее предположил, что это мужчина. Но могла быть и достаточно сильная женщина, почему нет.
– Значит, она бежала по лесу? – вмешалась Анна.
Сингх кивнул:
– Я обнаружил также множественные ушибы и царапины на лице и руках от соприкосновения с ветками. Имеются повреждения на стопе босой ноги. Очевидно, она со всех ног бежала через лес и содрала кожу на ступне о сухие ветки и камни. Присутствуют также следы земли под ногтями. Полагаю, что она, вероятнее всего, упала на берегу, и убийце оставалось лишь погрузить ее головой в воду.
– Следовательно, преступление непредумышленное, – сказал я. – Тот, кто это сделал, не собирался ее убивать.
– Как раз собирался об этом сказать, – подхватил доктор Сингх и показал нам фото плеч, локтей, кистей и коленей Стефани крупным планом.
На них были видны красноватые грязные раны.
– Вроде бы ссадины, – пробормотала Анна.
– Именно так, – подтвердил Сингх. – Более или менее поверхностные повреждения кожи, в которых я обнаружил фрагменты асфальта и гравия.
– Асфальта? – переспросил Дерек. – Что-то я не совсем понимаю, док.
– Смотрите, – пояснил Сингх, – судя по расположению ран, она катилась кувырком по асфальту. Возможно, это означает, что Стефани сама выпрыгнула на ходу из машины и побежала в лес.
Заключение Сингха вскоре было подтверждено двумя важными свидетельствами. Первым стал рассказ подростка, находившегося на отдыхе с родителями: по вечерам он встречался с компанией приятелей на пляже, вблизи которого мы обнаружили машину Стефани. Допрашивала его Анна, которой позвонили родители мальчика. Их встревожила шумиха в прессе, и они связались с полицией, полагая, что их сын, возможно, видел что-то важное. Они были правы.
Согласно заключению доктора Сингха, смерть Стефани произошла в ночь с понедельника на вторник, то есть в ночь, когда она пропала. Подросток рассказал, что как раз 23 июня отошел в сторонку от остальной компании, чтобы спокойно поговорить по телефону со своей подружкой, оставшейся в Нью-Йорке.
– Я сел на какой-то камень, оттуда была хорошо видна парковка, – рассказывал мальчик. – Там никого не было, я точно помню. А потом вдруг я увидел, что по тропинке из леса вышла молодая женщина. Подождала немножко, до половины одиннадцатого. Это я знаю, потому что как раз кончил разговаривать. Я в телефоне проверял. В эту минуту на парковку въехала машина. Девушку я видел в свете фар, потому и помню, что она была в белой футболке. Стекло со стороны пассажирского сиденья опустилось, девушка перекинулась парой слов с человеком за рулем, потом села рядом с ним. Машина сразу уехала. Это та самая девушка, которая умерла?..
– Я проверю, – ответила Анна, чтобы не пугать его напрасно. – Ты не мог бы описать машину? Может, ты заметил какую-нибудь деталь и она тебе запомнилась? Может, видел номер? Хотя бы часть? Или название штата?
– Нет, простите.
– А кто был за рулем, мужчина или женщина?
– Не могу сказать. Слишком темно было, и все так быстро случилось. Да я особо и внимания не обратил. Если бы я знал…
– Ты мне уже очень, очень помог. Значит, ты подтверждаешь, что девушка села в машину добровольно?
– Да, совершенно! Она ее ждала, это точно.
Мальчик был последним, кто видел Стефани живой. К его показаниям добавилось свидетельство одного коммивояжера из Хиксвилла, который явился в окружное отделение полиции штата. По его словам, в понедельник 26 июня он приезжал в Орфеа к клиентам.
– Из города я выехал около половины одиннадцатого, двигался по 17-му шоссе в сторону автострады. Проезжая мимо Оленьего озера, я увидел на обочине машину с работающим мотором, обе дверцы были открыты. Мне, естественно, стало любопытно, я притормозил, подумал, может, кому помощь нужна. Бывает такое.
– В котором часу это было?
– Около 22.50. Во всяком случае, одиннадцати еще не было, это точно.
– Значит, вы притормозили, и?..
– Ну да, притормозил, странно мне показалось, что эта машина тут стоит. Огляделся и увидел, что по склону кто-то поднимается, какой-то силуэт. Я подумал, что, наверно, кому-то срочно приспичило. Не стал дальше разбираться, решил, что если бы этому человеку нужна была помощь, он бы подал знак. Поехал своей дорогой, вернулся домой и выкинул это все из головы. Вот только сейчас услышал в новостях, что на берегу Оленьего озера в понедельник вечером произошло убийство, связал это с тем, что видел, и подумал, что это может быть важно.
– Вы видели этого человека? Это был мужчина? Или женщина?
– По силуэту больше похоже на мужчину. Но темно слишком было.
– А машина какая?
Судя по тому немногому, что описал свидетель, речь шла о той же машине, какую четвертью часа раньше видел подросток на пляже. Вернувшись в кабинет Анны, мы связали во едино все детали и восстановили хронологию последнего вечера в жизни Стефани Мейлер.
– В восемнадцать часов она приезжает в “Кодиак”, – сказал я. – Кого-то ждет – видимо, убийцу, – но тот не показывается, а тайком следит за ней в ресторане. В двадцать два часа Стефани выходит из “Кодиака”. Вероятный убийца звонит ей из ресторанного таксофона и назначает встречу на пляже. Стефани встревожена и звонит полицейскому, Шону, но тот не отвечает. Тогда она направляется на место встречи. В двадцать два тридцать убийца заезжает за ней на машине. Она соглашается в нее сесть. Значит, она ему более или менее доверяет или, возможно, с ним знакома.
Анна прочертила красным маркером на громадной карте района, висящей на стене, предположительный маршрут автомобиля: отъехав от пляжа, должен был свернуть на Оушен-роуд, затем на 17-е шоссе на северо-восток, вдоль озера. От пляжа до Оленьего озера было пять миль, то есть четверть часа на машине.
– Около двадцати двух сорока пяти, – продолжал я, – Стефани, понимая, что ей грозит опасность, выпрыгивает из машины и бежит по лесу; убийца нагоняет ее и топит. Он забирает у нее ключи от дома и едет туда, вероятно, в тот же вечер, в понедельник. Не найдя ничего там, проникает в редакцию и выносит компьютер Стефани, но и там его ждет облом. Стефани была слишком осторожна. Чтобы выиграть время, он в полночь отправляет эсэмэску Майклу Берду, зная, что тот главный редактор газеты; он все еще надеется завладеть результатами расследования Стефани. Когда он понимает, что полиция штата подозревает исчезновение человека при невыясненных обстоятельствах, все ускоряется. Убийца возвращается в квартиру Стефани, но тут появляюсь я. Он меня вырубает, а на следующую ночь приходит снова и поджигает дом, надеясь уничтожить так и не найденную документацию.
Первый раз с тех пор, как началось это дело, у нас что-то прояснилось. Наши тиски начали сжиматься. Однако обитатели города пребывали на грани массового психоза, и первая полоса сегодняшней “Орфеа кроникл” подливала масла в огонь. До конца я это осознал, когда Анне позвонил Коди:
– Ты читала газету? Убийство Стефани связано с фестивалем. Я сегодня в пять вечера собираю волонтеров в кафе “Афина”, мы думаем объявить забастовку. Мы не чувствуем себя в безопасности. Возможно, фестиваль в этом году не состоится.
В это время в Нью-Йорке
Стивен Бергдорф с женой возвращались домой пешком.
– Я знаю, у журнала сложности, – ласково сказала ему жена, – но почему бы тебе все-таки не уйти в отпуск? Ты же знаешь, это пойдет на пользу нам всем.
– По-моему, с точки зрения финансов, сейчас не время для сумасбродных путешествий, – резко одернул ее Стивен.
– Сумасбродных? – возразила жена. – Моя сестра одолжит нам трейлер. Поедем по стране. Никаких особых расходов не потребуется. Доедем до Йеллоустонского национального парка. Дети мечтают побывать в Йеллоустоне.
– В Йеллоустоне? Там слишком опасно, медведи и все такое.
– Господи, Стивен, да что на тебя нашло? – рассердилась жена. – В последнее время только и делаешь, что ворчишь.
Они подошли к дому, и Стивен вздрогнул от неожиданности: их поджидала Элис.
– Здравствуйте, мистер Бергдорф, – сказала она.
– Элис, какой приятный сюрприз! – пробормотал он.
– Я принесла все нужные документы, вам осталось только подписать.
– Ну, разумеется, – отозвался Бергдорф; актер из него был никудышный.
– Документы срочные. Поскольку после обеда вас не было в офисе, я решила, что завезу их вам на подпись домой.
– Очень любезно с вашей стороны, – поблагодарил Стивен, глупо улыбаясь жене.
Элис протянула ему папку со всякими письмами. Он проглядел первое письмо, держа папку так, чтобы супруга ничего не видела, – рекламная рассылка. Изобразив на лице интерес, он взглянул на следующее письмо. Это был листок, на котором Элис написала:
Наказание за то, что целый день не давал о себе знать: 1000 долларов.
Снизу был приколот скрепкой уже заполненный чек на ее имя из его чековой книжки. Книжку она у него изъяла.
– Вы уверены, что это корректная сумма? – дрожащим голосом спросил Бергдорф. – По-моему, дороговато.
– Цена справедливая, мистер Бергдорф. За качество надо платить.
– Ну, тогда подписываю, – еле выдавил он.
Подписав чек на 1000 долларов, он закрыл папку и протянул ее Элис. Попрощался с кривой улыбкой и ринулся вместе с женой в дверь. Через несколько минут он уже звонил ей из туалета, пустив воду из крана.
– Элис, ты рехнулась? – прошептал он, примостившись между унитазом и раковиной.
– Где тебя носило? Исчезаешь, и ни слуху ни духу?
– Мне надо было кое-куда смотаться, – промямлил Бергдорф, – а потом я заехал к жене на работу.