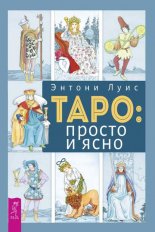Когда рассеется туман Мортон Кейт

— Я не…
— Все! — недовольно дернув головой, оборвала меня Нэнси, развернулась на каблуках, и я осталась одна в тесной темной комнате на последнем этаже. Только юбка зашелестела по коридору.
Я затаила дыхание, прислушалась.
Наконец, когда все звуки смолкли, я подошла к двери, беззвучно прикрыла ее и повернулась, чтобы осмотреть свое новое жилище.
Разглядывать было особо нечего. Я провела рукой по спинке кровати, пригнув голову, чтобы не стукнуться о наклонный потолок. На матрасе лежало аккуратно сложенное серое одеяло, один угол был отогнут опытной рукой. Единственное украшение комнаты — небольшая картинка на стене — изображала сцену охоты: залитый кровью олень со стрелой в боку. Я поспешно отвела глаза и осторожно опустилась на кровать, стараясь не мять аккуратно натянутое белье. Пружины скрипнули, я подскочила, покраснев от испуга и неожиданности.
Узкое окошко пропускало в комнату немного тусклого света. Я забралась коленями на стул и выглянула наружу.
Окно выходило назад, задом. Отсюда, свысока, я увидела уставленную шпалерами для цветов розовую аллею, что вела к южному фонтану. Я знала, что сразу за ним лежит озеро, на другом берегу которого стоит наша деревня и мой дом — дом, в котором я провела четырнадцать лет своей жизни. Я представила, как мама сидит сейчас у кухонного окна — там света больше — склонившись над штопкой.
Как она там одна? В последнее время мама сильно сдала. Я слышала, как по ночам она стонала от боли в спине. А по утрам просыпалась с такими распухшими пальцами, что мне приходилось растирать ее руки под теплой водой, чтобы она смогла хотя бы ухватить клубок ниток. Миссис Роджерс из нашей деревни согласилась забегать к ней каждый день, и старьевщик обещал заглядывать дважды в неделю, но ведь этого так мало. Без меня мама, скорее всего, не сможет штопать. Чем ей заработать на жизнь? Конечно, у меня теперь будет небольшая зарплата, но уж лучше бы я осталась дома…
Это мама настояла на том, чтобы мне идти работать. Не принимала никаких возражений, лишь качала головой и повторяла, что лучше знает. Она прослышала, что в Ривертоне ищут девушку в услужение, и знала, что я им подойду. Откуда знала — непонятно. Сплошные секреты — полностью в мамином духе.
— Это недалеко, — объясняла она. — В выходные будешь прибегать — помогать мне.
Наверное, я выглядела очень потерянно, потому что мама протянула руку и погладила меня по щеке. Не похоже на нее, я и не ожидала. Даже вздрогнула от прикосновения исколотых иглой пальцев.
— Ничего, моя девочка. Ты ведь знала, что когда-нибудь придется искать себе работу. А тут такая хорошая возможность, сама увидишь. Мало где возьмут служанку твоих лет. Лорд Эшбери и леди Вайолет — неплохие люди, а мистер Гамильтон, хоть и кажется строгим, — очень честный и порядочный человек. Работай усердно, выполняй, что прикажут, и все у тебя будет хорошо. — Мама сжала мою щеку дрожащими пальцами. — И знаешь что, Грейси? Помни свое место. Слишком много девушек нажили себе неприятности, забыв, кто они такие.
Я пообещала, что так и сделаю, и в следующую субботу, одетая в свое лучшее платье, уже шагала к дому на холме. Меня ожидал разговор с леди Вайолет.
Народу в доме немного, сообщила мне хозяйка, только лорд Эшбери, который большую часть времени проводит на деловых встречах и в клубе, да она сама. Оба их сына — майор Джонатан и мистер Фредерик — уже выросли, женились и живут отдельно, но часто навещают родителей, и если я буду хорошо работать и останусь в доме, я обязательно их увижу. Управляющий такой небольшой семье не нужен, все дела ведет мистер Гамильтон, а за кухню отвечает миссис Таунсенд, повариха. Если они останутся мной довольны, я получу место.
Тут леди Вайолет замолчала и посмотрела на меня, как на пойманную мышь в стеклянной банке. Я тут же ощутила, что подол платья слишком кривой от многочисленных попыток отпустить его пониже, что на чулках, там, где они трутся о края ботинок, — заплатки, что у меня слишком длинная шея и слишком большие уши.
Леди Вайолет моргнула и улыбнулась, глаза ее остались ледяными.
— Что ж, выглядишь ты аккуратно, а мистер Гамильтон говорил, что ты умеешь шить.
Я кивнула. Она встала и подошла к письменному столу, оперлась рукой о спинку стула.
— Как поживает твоя мать? — не поворачивая головы, спросила леди Вайолет. — Ты знаешь, что она тоже служила у нас?
Я отвечала, что да, знаю, и мама, спасибо, хорошо. Я даже не забывала прибавлять «мэм».
Наверное, я сказала все правильно, потому что после этого она предложила мне пятнадцать фунтов в год, велела начинать прямо с завтрашнего дня и позвала Нэнси, чтобы та проводила меня к выходу.
Я отодвинулась от окна, вытерла запотевшее стекло и слезла со стула.
Мой чемодан лежал там, где я его кинула — с другой стороны кровати, и я подтащила его к комоду, который теперь стал моим. Стараясь не глядеть на умирающего оленя, я сложила в верхний ящик одежду: две юбки, две блузки и пару черных рейтуз, которые связала под руководством мамы, чтобы не мерзнуть зимой. Потом, оглянувшись на дверь, я с заколотившимся сердцем распаковала свое главное сокровище.
Целых три тома. Потрепанные зеленые обложки с золотыми буквами. Я засунула их в нижний ящик и обернула шалью: тщательно, чтобы нигде ничего не торчало. Мистер Гамильтон выразился предельно ясно: Библия — пожалуйста, а все остальные книги не приветствуются и должны быть предъявлены ему для рассмотрения и возможной конфискации. Я вовсе не собиралась бунтовать — напротив, в те времена я четко знала, что хорошо, что плохо, — но жизнь без Холмса и Ватсона казалась просто невозможной.
Чемодан я задвинула под кровать.
На крючке у двери висела форма — черная юбка, белый фартук, кружевная наколка — я оделась, чувствуя себя ребенком, который залез к маме в шкаф. Юбка была грубой, складка слишком широкого для меня воротника блузки царапала шею. Когда я расправила фартук, из него выскочила маленькая белая моль и полетела искать себе новое пристанище. Я с завистью проводила ее глазами.
Белая кружевная наколка должна была торчать прямо надо лбом, я заглянула в зеркало над комодом — проверить, что надела ее ровно, и зачесать волосы за уши, как учила мама. Девочка в зеркале поймала мой взгляд, и я подумала — что за серьезное у нее лицо! Редкий и странный момент — когда застаешь врасплох себя самого, такого как есть, без всякого притворства.
Сильвия приносит мне небольшую чашку горячего чая и кусок лимонного пирога. Садится совсем рядом на железную скамью и, оглянувшись на дом, вытаскивает пачку сигарет (вот интересно — как только ей хочется курить, мне срочно требуется свежий воздух!). Предлагает мне. Я, как обычно, отказываюсь, Сильвия, как обычно, кивает:
— Оно и правильно, в вашем возрасте. Я за вас с удовольствием покурю.
Сильвия хорошо выглядит — сделала что-то с волосами. Я сообщаю ей об этом, она кивает, выдыхает струйку дыма и, потряхивая головой, демонстрирует роскошный хвост.
— Нарастила волосы, — объясняет она. — Всегда хотела иметь такую прическу и, наконец, сказала себе: «Жизнь так коротка, спеши быть красивой!». Правда, как настоящие?
Я медлю с ответом, и Сильвия принимает это за согласие.
— Потому что они и есть настоящие. Все знаменитости так делают. Вот потрогайте.
— И правда, — подтверждаю я, поглаживая жесткий хвост. — Настоящие волосы.
— Сейчас чего только не делают. — Сильвия взмахивает сигаретой с ярко-красным кружком помады. — За деньги, понятно. Хорошо, что я отложила кое-что на черный день.
Она прямо светится, и я наконец-то догадываюсь о причине таких изменений. Ну разумеется — из кармана блузки извлекается фотография.
— Энтони, — сияя, поясняет Сильвия.
Я с готовностью надеваю очки, гляжу на мужчину средних лет с седеющими усами и объявляю:
— Очень приятный.
— Еще какой, — счастливо вздыхает Сильвия. — Мы встречались всего несколько раз, за чаем, но у меня хорошее предчувствие. Настоящий джентльмен, заметно, да? Не то что те, прежние. Открывает передо мной дверь, дарит цветы, в кафе отодвигает стул, чтобы я села. Такой старомодный!
Последнее слово говорится для меня — все знают, что старушки любят старомодных.
— И кем он работает? — интересуюсь я.
— Учителем в местной школе. История и английский. Он такой умный! И благородный — помогает местному историческому обществу. Его хобби — всякие там графы и графини. Он столько знает об этом вашем семействе, что жило там, в большом доме на холме.
Она снова оглядывается и испуганно таращит глаза.
— Черт, сестра Рэтчет. Я сейчас должна разносить чай. Небось, Берти Синклер опять настучал. А ему, между прочим, вовсе не помешает время от времени отказываться от печенья.
Сильвия тушит сигарету и заворачивает окурок в салфетку.
— Ладно, работа не ждет. Ничего не нужно, пока я здесь, а? Вы почти не притронулись к чаю.
Я уверяю Сильвию, что все в порядке, и она убегает по зеленой лужайке, хвост подпрыгивает в такт движениям бедер.
Приятно, когда за тобой ухаживают, приносят чай. Приятно думать, что я заработала эту маленькую роскошь. Бог знает, сколько раз я сама подавала чай другим людям. Иногда я ради смеха представляю себе, что было бы, если б Сильвия попала в Ривертон. Да какое там — молчаливое подчинение не для нее. Она слишком самоуверенна и не стала бы слушать замечаний вроде «знай свое место» и «не заносись». Нет, Нэнси Сильвия бы точно не понравилась, я была гораздо покладистей.
Хотя что сравнивать — люди с тех пор сильно изменились. Прошедшее столетие порядком нас потрепало. Даже самые молодые и благополучные носят свой цинизм как орден, глаза их пусты, а головы полны мыслей, которым там не место.
Кстати, именно поэтому я так никому и не открыла, что случилось с сестрами Хартфорд и Робби Хантером. А были минуты, когда мне очень хотелось облегчить душу и все рассказать. Руфи. А еще лучше — Марку. Но прежде чем произнести первое слово, я понимала, что они слишком молоды. Вытаращат глаза и спросят: «А почему она просто не…» или «А они что, не могли…», а мне придется бормотать надоевшее: «Времена были другие…»
Конечно, прогресс коснулся нас уже тогда. Первая мировая война изменила все — и наверху и под лестницей. Мы просто не знали, что и подумать, когда после войны появилась прислуга, которая увольнялась так же легко, как и поступала на работу, и толковала о профсоюзах, минимальных зарплатах и обязательных выходных. До этого мир был прост и понятен, различия между людьми ясны и незыблемы.
В первое же рабочее утро меня вызвали в буфетную, к мистеру Гамильтону, который склонился над свежей газетой. При моем появлении он выпрямился и поправил круглые очки на длинном, похожем на щипцы для свечей, носу с широкими ноздрями. И столь серьезным было мое «введение в должность», что миссис Таунсенд оставила ненадолго обеденные хлопоты и явилась, чтобы присутствовать при этом событии. Мистер Гамильтон придирчиво осмотрел мою форму и, признав ее удовлетворительной, прочел мне лекцию о различиях между нами и Ими.
— Никогда не забывай, — поучал он, — в какой необыкновенный дом тебе посчастливилось попасть. Это не только редкая удача, но и огромная ответственность. Что бы ты ни сделала, это тут же отразится на Семье, и потому служи им верой и правдой, храни их тайны и не обмани оказанного тебе доверия. Помни: хозяин всегда прав. Заботься о нем и его близких. Служи им безмолвно, преданно, благодарно. Работа хороша лишь тогда, когда она незаметна, вышколенную прислугу не видно и не слышно.
Мистер Гамильтон поднял голову и загляделся вдаль. Его румяные щеки покраснели еще больше.
— Ты поняла меня, Грейс? Не вздумай забыть, какая честь тебе оказана.
Можно только предположить, что сказала бы на это Сильвия. Наверняка не прониклась бы, в отличие от меня: меня-то переполняли благоговение и смутное чувство, что я поднялась на ступень выше по жизненной лестнице.
Я усаживаюсь поудобней и тут замечаю забытое Сильвией фото: тот самый новый ухажер, который завлекает ее знанием истории и интересом к аристократам. Видала я таких. Собирают газетные вырезки и фотографии, рисуют фамильные древа семейств, к которым не имеют никакого отношения.
Я не презираю их, вовсе нет. Мне и самой интересно, как это время стирает живую жизнь, оставляя лишь бледный отпечаток. Плоть и душа исчезают, остаются имена и даты.
Я снова закрываю глаза. Солнце переместилось, и щеки наконец согрелись.
Обитатели Ривертона давно умерли. Время состарило меня, но не их — по-прежнему юных, навеки прекрасных.
Нет, хватит. Я стала слезливой и сентиментальной. Никакие они не юные и не прекрасные. Мертвые, вот и все. Давно похоронены. Обрывки воспоминаний тех, кто когда-то с ними встречался.
* * *
Когда я впервые увидела Ханну, Эммелин и их брата Дэвида, они обсуждали, как выглядят прокаженные. К этому времени дети пробыли в Ривертоне уже около недели — ежегодный летний визит — но до тех пор я лишь изредка ловила взрывы смеха и топота, от которых устало покряхтывал старый дом.
Нэнси считала, что я еще слишком неопытна, чтобы прислуживать хозяевам — даже таким молодым — и находила мне работу там, где я не могла с ними столкнуться. Остальные слуги готовили дом к приезду взрослых гостей, а мне поручили заняться детской.
Правда, внуки у хозяина уже большие, добавила Нэнси, и детская вряд ли понадобится, но такова традиция, и потому самую большую комнату на втором этаже положено проветривать, убирать и ежедневно менять там цветы.
Я постараюсь описать ее, хотя и знаю, что никакой рассказ не передаст того странного очарования, которое охватывало меня при входе в эту комнату. Огромная, квадратная, мрачная и какая-то, несмотря на все уборки, заброшенная. Необыкновенная, загадочная, как старая сказка, спящая тысячелетним колдовским сном. Воздух тут висел холодной завесой, а в кукольном домике у камина стоял накрытый к обеду стол, за который никогда не сядут гости.
Обои, когда-то голубые в белую полоску, посерели от сырости, а кое-где и отслоились. По одной стене висели выцветшие иллюстрации к сказкам Андерсена: стойкий оловянный солдатик на каминной полке, девочка в красных башмачках, русалочка, оплакивающая свою судьбу. Пахло плесенью и пылью, комната казалась давно покинутой обителью каких-то призрачных детей.
У закопченного камина стояло кожаное кресло, сводчатые окна выходили во двор: если влезть на потемневший деревянный диванчик у окна и высунуться подальше, увидишь двух бронзовых львов на изъеденных временем и непогодой постаментах, они внимательно глядят на раскинувшееся в соседней долине кладбище.
У окна коротал свои дни потрепанный конь-качалка: статный, серый в яблоках жеребец с добрыми черными глазами, которые — я была уверена — светятся благодарностью, когда я вытираю с него пыль. Рядом с ним, бок о бок, сидел Реверли. Огромный черный пес, любимец маленького лорда Эшбери, погиб, угодив лапой в лисий капкан. Чучельник, как мог, постарался замаскировать рану, но полностью скрыть повреждения так и не удалось. Во время уборки я обычно накидывала на Реверли тряпку, и тогда можно было почти поверить, что он не сидит тут, в комнате, глядя на меня тусклыми стеклянными глазами и скрывая дыру под заплатой.
И все-таки, несмотря на Реверли, запах сырости и облезающие обои, детская стала моей любимой комнатой. День за днем, как и предсказывала Нэнси, я находила ее пустой — дети бегали по всему имению и сюда не заглядывали. Я старалась побыстрее покончить с остальными делами и побыть тут подольше, в полном одиночестве. Вдали от непрерывных указаний Нэнси, мрачноватых замечаний мистера Гамильтона, оживленной суматохи остальных слуг, напоминающей мне о том, как мало я еще умею. Я перестала замирать от страха, научилась ценить одиночество. Представляла, что это моя комната.
А еще тут были книги, много книг я никогда не видела столько в одно время в одном месте: приключения, исторические романы, сказки — они стояли рядами на огромных стеллажах по обе стороны камина. Как-то я вытянула одну, корешок которой мне особенно понравился. Провела ладонью по покоробившейся обложке, открыла и прочла четко напечатанное имя «Тимоти Хартфорд». Перевернула страницу, вдохнула годами копившуюся пыль и… провалилась в другую жизнь.
Читать я научилась в деревенской школе, и наша учительница, мисс Руби, приятно удивленная столь нечастым для ее учеников рвением к учебе, стала снабжать меня книгами из ее собственной библиотеки: «Джейн Эйр», «Франкенштейн», «Замок Отранто». Когда я возвращала книги, мы обсуждали полюбившиеся места. Мисс Руби даже говорила, что я и сама могла бы стать учительницей. Однако мама, услышав об этом, рассердилась. Очень мило со стороны мисс Руби вбивать мне в голову разные идеи, сказала она, только идеи на стол не поставишь. И вскоре после этого отправила меня в Ривертон — к Нэнси, мистеру Гамильтону и детской…
Которая ненадолго стала моей детской, а книги — моими книгами.
Но однажды имение накрыл туман, заморосил дождь. Я шла по коридору, предвкушая, что просмотрю сейчас детскую энциклопедию с картинками, которую обнаружила за день до этого, и вдруг остановилась, как вкопанная. Из-за двери доносились голоса.
Это просто ветер, уговаривала я себя, он принес голоса откуда-то издали. Отворила дверь, заглянула внутрь и вздрогнула. В детской были люди. Юные люди, которым эта загадочная комната подходила как нельзя лучше.
И в тот же миг, без всякого предупреждения, детская перестала быть моей. Я стояла в нерешительности, не зная, стоит ли мне заняться уборкой или лучше прийти попозже. Снова заглянула, робея от взрывов смеха. Звонких, уверенных голосов. Блестящих волос и разноцветных лент.
Дело решили цветы. Они стояли в вазе на каминной полке и совершенно завяли. Лепестки за ночь опали и лежали на полу, как укор нерадивой прислуге. Если Нэнси увидит — мне несдобровать, она ясно выразилась: если я буду плохо выполнять свои обязанности, мама тут же об этом узнает.
Помня инструкции мистера Гамильтона, я покрепче прижала к груди метелку и щетку и на цыпочках пробралась к камину, стараясь остаться незамеченной. Не стоило волноваться. Дети даже не обернулись — привыкли делить свое жилище с целой армией невидимок. Они и впрямь не видели меня, тогда как я лишь притворялась, будто не вижу их.
Две девочки и мальчик: младшей около десяти, старшему не больше семнадцати. Все типичной для Эшбери внешности — золотые волосы и синие, словно узоры веджвудского фарфора,[1] глаза — наследство матери лорда Эшбери, датчанки, которая, по словам Нэнси, вышла замуж по любви и лишилась за это приданого (хотя посмеялась-то она последней, добавляла Нэнси, когда умер брат ее мужа и она сделалась леди Эшбери).
Старшая девочка стояла посреди комнаты с пачкой бумаги в руке и в красках расписывала, как должны выглядеть прокаженные. Младшая сидела на полу, скрестив ноги, и, вытаращив глаза, слушала сестру; рука ее обвивала шею Реверли. Я удивилась и слегка испугалась, увидев, что пса вытащили из угла и приняли в компанию. Мальчик стоял коленями на диване и сквозь туман вглядывался в долину.
— А потом, Эммелин, ты оборачиваешься к зрителям, а лицо у тебя все в проказе! — радостно закончила высокая девочка.
— А что такое проказа?
— Кожная болезнь, — ответила старшая. — Пятна, слизь и все такое.
— Ханна, а давай у нее сгниет кончик носа? — предложил мальчик, оборачиваясь и подмигивая Эммелин.
— Здорово, — серьезно кивнула Ханна. — Давай.
— Нет! — взвыла Эммелин.
— Эммелин, ну что ты как младенец. Он же сгниет не по правде, — объяснила Ханна. — Сделаем тебе какую-нибудь маску попротивней. Я поищу в библиотеке книги по медицине. Там должны быть картинки.
— А почему именно у меня будет эта проказа? — спросила Эммелин.
— Спроси Господа Бога, — пожала плечами Ханна. — Это он придумал.
— Нет, почему я должна играть Мариам? Я хочу кого-нибудь другого.
— А других ролей нет. Дэвид будет Аароном, потому что он самый высокий, а я — Богом.
— А почему не я — Бог?
— Потому что ты хотела главную роль. Или нет?
— Хотела, — сказала Эммелин. — Хочу.
— Тогда в чем дело? Бог даже не появляется на сцене. Я буду говорить из-за занавеса.
— А если я буду Моисеем? — спросила Эммелин. — А Мариам пусть сыграет Реверли.
— Никаких Моисеев, — отрезала Ханна. — Нам нужна настоящая Мариам. Она гораздо важней Моисея. Он появляется всего один раз, за него будет Реверли, а слова скажу я из-за занавеса. Или Моисея вообще уберем.
— А может, разыграем другую сцену? — с надеждой предложила Эммелин. — Про Марию и младенца Иисуса?
Ханна недовольно фыркнула.
Репетируют, поняла я. Альфред, лакей, говорил мне, что в одни из ближайших выходных состоится семейный концерт. По традиции в этот день кто-то поет, кто-то читает стихи, а дети ставят сценку из бабушкиной любимой книги.
— Мы выбрали эту, потому что она очень важная, — объяснила Ханна.
— Не мы, а ты выбрала, потому что она важная, — возразила Эммелин.
— Именно, — согласилась Ханна. — Она про отца, у которого двойные правила: для сыновей — одни, а для дочерей — другие.
— Что на редкость благоразумно, — добавил Дэвид.
Ханна не обратила на него внимания.
— Мариам и Аарон виновны в одном и том же грехе: осуждали женитьбу брата…
— И что они говорили? — заинтересовалась Эммелин.
— Неважно, они просто…
— Ругались?
— Нет, дело не в этом. Важно то, что Бог решил наказать Мариам проказой, а с Аароном просто поговорил. Как ты считаешь, Эммелин, разве это честно?
— А Моисей женился на африканке? — спросила Эммелин.
Ханна сердито тряхнула головой. Я уже успела заметить, что это ее привычный жест. Длиннорукая, длинноногая, она вся горела какой-то нервной энергией и очень легко срывалась. Эммелин, напротив, походила на ожившую куклу. И хотя черты их были похожи — носы с легкой горбинкой, ярко-голубые глаза, одинаковый рисунок рта — на лице каждой из сестер они смотрелись совершенно по-разному. В то время как Ханна напоминала сказочную фею — порывистую, загадочную, нездешнюю — красота Эммелин казалась более земной. И уже в то время ее манера складывать губы и слишком широко распахивать глаза напоминала мне фотографии красоток, которыми торговали в наших краях лоточники.
— Ну, женился или нет? — допытывалась Эммелин.
— Да, Эмми, — засмеялся Дэвид. — Моисей женился на ефиоплянке. А Ханна злится потому, что мы не разделяем ее взглядов на женскую независимость. Она у нас суфражистка.
— Ханна! Ну что он дразнится? Скажи ему, что ты не такая!
— Почему же? Конечно я суфражистка. И ты тоже.
— А Па не знает? — шепотом спросила Эммелин. — А то он страшно рассердится.
— Ерунда, — фыркнула Ханна. — Наш Па — просто котеночек.
— Никакой он не котеночек, а настоящий лев, — дрожащими губами возразила Эммелин. — Пожалуйста, не зли его, Ханна.
— Не бойся, Эммелин, — сказал Дэвид. — Сейчас все женщины — суфражистки, это модно.
— А Фэнни никогда ничего такого не говорила, — недоверчиво произнесла Эммелин.
— Все девушки, которые хоть что-нибудь из себя представляют, в этом году на первый выезд в свет наденут не платье, а костюм, — продолжал Дэвид.
Эммелин вытаращила глаза.
Я слушала, притаившись за стеллажами и гадая, о чем это они. Я никогда раньше не слыхала слова «суфражистка», но догадывалась, что это, должно быть, такая болезнь, вроде той, что подхватила миссис Наммермит из нашей деревни, когда на пасхальном празднике она начала скидывать с себя одежду и мужу пришлось отвезти ее в Лондон, в больницу.
— Ты просто вредный, — сказала Дэвиду Ханна. — И так несправедливо, что Па не отдает нас с Эммелин в школу, а тут еще и ты стараешься выставить нас дурочками при любой возможности.
— Да с вами и стараться не надо, — парировал сидевший на ящике с игрушками Дэвид и откинул упавшую на глаза прядь. У меня перехватило дыхание, такой он был красивый, золотоволосый, похожий на сестер. — В любом случае, вы ничего не теряете. Нечего там делать, в этой школе.
— Да? — иронически подняла брови Ханна. — Обычно ты, наоборот, с удовольствием расписываешь мне все, чего я лишена. С чего это ты изменил свой взгляд?
Тут глаза ее широко раскрылись — две пронзительно-голубые луны, голос дрогнул.
— Только не говори, что натворил что-то ужасное и тебя выгнали!
— Разумеется, нет, — быстро ответил Дэвид. — Просто мне кажется, что учеба — не главное в жизни. Мой друг, Хантер, говорит, что настоящая жизнь — сама по себе лучшее образование…
— Хантер?
— Он поступил в Итон только в этом году. Его отец — какой-то ученый. Недавно открыл что-то очень важное, и ему пожаловали титул маркиза. Он чуть-чуть чокнутый, и сын такой же, во всяком случае так говорят наши ребята, хотя по мне — Робби просто отличный парень.
— Ну хорошо, — сказала Ханна. — Пусть твой чокнутый Роберт Хантер презирает учебу сколько ему угодно, но я — как я стану знаменитым драматургом, если Па отказывается дать мне образование? — Она горько вздохнула. — Ну почему я не мальчик?
— А мне бы не понравилось в школе, — заявила Эммелин. — И я уж точно не хочу быть мальчиком. Никаких платьев, эти ужасные шляпы и разговоры только о спорте и политике.
— А мне интересно говорить о политике, — сказала Ханна. В пылу спора ее аккуратная прическа растрепалась, локоны выбивались со всех сторон. — Первым делом я бы заставила Герберта Асквита[2] дать женщинам право голоса. Даже молодым.
— Ты бы стала первым министром-драматургом Великобритании, — усмехнулся Дэвид.
— Да, — не стала спорить Ханна.
— Ты же хотела стать археологом, — напомнила Эммелин. — Как Гертруда Белл.
— Я могла бы быть и археологом и политиком. На дворе двадцатый век. — Ханна нахмурилась. — Если бы только Па согласился дать мне достойное образование.
— Ты же знаешь, что Па думает о женском образовании, — сказал Дэвид.
— Прямая дорожка к тому, чтобы стать суфражисткой, — заученно отчеканила Эммелин. — Тем более, он говорит, что мисс Принс учит нас всему, что нужно знать.
— Это только Па так считает. Надеется, что она сделает из нас тоскливых женушек для тоскливых мужей — чуть-чуть пианино, чуть-чуть французского и умение вежливо поддаваться, играя в бридж. Конечно, так с нами гораздо меньше хлопот!
— Па говорит: никому не понравится женщина, которая слишком много думает, — сообщила Эммелин.
Дэвид закатил глаза.
— Как та канадка, что везла его домой с золотых приисков и всю дорогу болтала о политике. Она сослужила нам плохую службу.
— А я и не желаю нравиться, — упрямо выпятив подбородок, сказала Ханна. — И не стану думать о себе хуже, если кто-то там меня не любит.
— Тогда могу тебя обрадовать, — сообщил Дэвид. — Я совершенно точно знаю, что тебя не любят почти все наши друзья.
Ханна попыталась было снова нахмуриться, но не смогла сдержать непрошеной улыбки.
— Значит так: я не собираюсь сегодня делать ее дурацкое задание. Надоело читать наизусть «Леди Шалотт»[3] и слушать, как мисс Принс сморкается в платок.
— Она оплакивает утерянную любовь, — вздохнула Эммелин.
Ханна вытаращила глаза.
— Это правда! — обиделась Эммелин. — Я слышала, как бабушка рассказывала леди Клем. Раньше, до того, как она стала работать у нас, мисс Принс была помолвлена.
— Думаю, жених вовремя пришел в себя, — заметила Ханна.
— Он женился на ее сестре, — объяснила Эммелин.
Ханна осеклась, правда, ненадолго.
— Надо было подать на него в суд за нарушение обязательств.
— Леди Клем тоже так сказала — и даже хуже — а бабушка ответила, что мисс Принс не желала ему неприятностей.
— Ну и дура, — подытожила Ханна. — Тогда так ей и надо.
— Но ведь это так романтично, — хмыкнул Дэвид. — Несчастная безответно влюблена, а тебе жалко почитать ей грустные стихи. До чего же ты такая жестокая, Ханна!
— Не жестокая, а реалистичная, — подняла подбородок Ханна. — А влюбленные вечно ничего не соображают и творят всякие глупости.
Дэвид улыбнулся — многозначительная улыбка старшего брата, который уверен, что совсем скоро сестра заговорит по-другому.
— Нет, серьезно, — упрямо продолжала Ханна. — Ты же знаешь, как я отношусь ко всей этой романтике. А мисс Принс стоило бы унять слезы и заинтересоваться чем-нибудь, да и нас заинтересовать. Строительством пирамид, к примеру, или исчезновением Атлантиды, походами викингов…
Эммелин зевнула, а Дэвид поднял руки, показывая, что сдается.
— Ну ладно, — хмуро сказала Ханна, глядя на листы в руке. — Мы только зря теряем время. Начнем с того места, где Мариам поражает проказа.
— Мы это уже сто раз репетировали, — запротестовала Эммелин. — Давайте поиграем во что-нибудь!
— А во что?
— Не знаю, — растерянно пожала плечами Эммелин, переводя взгляд с Дэвида на Ханну. — Может, в Игру?
* * *
Нет, не «в Игру», а «в игру». Тогда еще она была для меня просто игрой. Эммелин могла иметь в виду шарики или прятки. Только некоторое время спустя их игра стала Игрой с большой буквы, дорогой к приключениям, фантазиям и тайнам. А тем хмурым, сырым утром, когда дождь уныло барабанил в окна детской, я почти не обратила внимания на слова Эммелин.
Скрючившись за спинкой кресла и сметая разлетевшиеся по полу сухие лепестки, я пыталась представить себе, каково это — иметь братьев и сестер. Мне всегда хотелось кого-нибудь. Я даже раз спросила у мамы: не могла бы она завести мне сестренку, чтоб было с кем сплетничать и шептаться, фантазировать и мечтать. Мне жилось так одиноко, что я с удовольствием представляла себе даже наши ссоры. Мама как-то грустно рассмеялась и сказала, что ни к чему повторять одну ошибку дважды.
Как это — гадала я — ощущать себя чьей-то, глядеть на мир, зная, что ты — часть племени, чувствуя за спиной союзников? Погрузившись в свои мысли, я рассеяно водила щеткой по спинке кресла, как вдруг она за что-то зацепилась, на пол свалилось одеяло, и я услышала хриплый вскрик:
— Что случилось? Ханна! Дэвид!
Старушка, древняя, как само время, дремала в кресле, завернувшись в плед так, что до сих пор ее не было ни видно, ни слышно. Должно быть, няня Браун, сообразила я. О ней говорили тихо и благоговейно, как наверху, так и под лестницей, она вырастила самого лорда Эшбери и считалась такой же принадлежностью семьи, как и дом.
С щеткой в руке я застыла за спинкой кресла под взглядами трех пар голубых глаз.
— Что стряслось, Ханна? — снова спросила старушка.
— Ничего, няня Браун, — обретя дар речи, ответила Ханна. — Мы репетировали. Будем потише.
— Смотрите, чтобы Реверли не слишком распрыгался здесь, взаперти, — велела няня.
— Нет-нет, он ведет себя замечательно, — сказала Ханна, очень отзывчивая, несмотря на вспыльчивость. Она шагнула к няне и снова укрыла одеялом ее высохшее тело. — Отдыхай, милая, у нас все хорошо.
— Ну если только совсем чуть-чуть, — сонно согласилась няня. Ее глаза закрылись, и через минуту она уже мирно похрапывала.
Я затаила дыхание, ожидая, когда кто-нибудь из детей заговорит. Они всё смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Я уже представила, как меня волокут к Нэнси или даже к самому мистеру Гамильтону, а те требуют объяснить, как это я осмелилась вытереть пыль с няни, и недовольное лицо мамы, когда меня вернут домой, даже не дав рекомендаций…
Но никто не ругал меня, не бранил, даже не хмурился. Случилось то, чего я совершенно не ожидала. Будто по команде они расхохотались: свободно, безудержно, рушась друг на друга и сплетаясь в клубок.
Я молча стояла, ожидая сама не знаю чего, смех напугал меня гораздо больше, чем молчание. Губы предательски задрожали.
Наконец, старшая девочка вытерла глаза и смогла выговорить:
— Я — Ханна. Мы с тобой раньше не встречались?
Я торопливо сделала книксен и выдохнула:
— Нет, миледи. Меня зовут Грейс.
— Никакая она не миледи, — рассмеялась Эммелин. — Она просто мисс.
Я снова присела, стараясь не поднимать глаз.
— Меня зовут Грейс, мисс.
— А выглядишь как-то знакомо, — сказала Ханна. — Ты точно не работала здесь на Пасху?
— Нет, мисс. Я новенькая. Меня взяли месяц назад.
— Ты слишком маленькая для горничной, — заметила Эммелин.
— Мне четырнадцать, мисс.
— Опа! — воскликнула Ханна. — Мне тоже! Эммелин — десять, а Дэвид у нас старичок — ему шестнадцать.
— А ты всегда протираешь тех, кто уснет в кресле, Грейс? — спросил в свою очередь Дэвид. Эммелин снова захохотала.
— Нет, нет, сэр. Только сегодня, сэр.
— Жалко. А то можно было бы никогда не мыться.
От смущения у меня вспыхнули щеки. Никогда раньше я не встречала настоящего джентльмена, да еще почти моего ровесника. От его последних слов сердце у меня в груди заколотилось как птица в клетке. Странно. Даже и сейчас, когда я вспоминаю Дэвида, я чувствую что-то вроде того, давнего волнения. Выходит, я еще не совсем умерла.
— Не обращай внимания, — посоветовала Ханна. — Дэвид считает себя жутким остряком.
— Да, мисс.
Ханна смотрела на меня с интересом, словно собираясь спросить что-то еще. Но прежде чем она открыла рот, мы услышали звук шагов — сперва по лестнице, а потом и по коридору. Ближе, ближе… Цок, цок, цок…