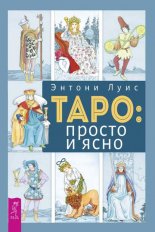Когда рассеется туман Мортон Кейт

— Совпадение? — Я почему-то холодею.
— Ни за что не догадаетесь, с кем я была в театре. Боюсь, долго гадать не придется.
— С Альфредом Стиплом. Вы помните Альфреда? Из Ривертона?
— Да, — выдавливаю я.
— Все вышло неожиданно. У него оказался лишний билет. Кто-то в последний момент не пришел. Альфред вспомнил, что я в Лондоне. Мы наткнулись друг на друга около года назад, и у него остался мой адрес. В результате, мы пошли вместе — жаль было бы, если бы билет пропал, сами знаете, сколько они стоят.
Мне кажется или румянец, проступивший на бледных веснушчатых щеках, и впрямь делает ее похожей на нескладную девчонку? И это притом, что она лет на десять старше меня…
Я заставляю себя кивнуть в знак прощания, пока она закрывает за мной дверь. Где-то гудит автомобиль.
Альфред, мой Альфред водил чужую женщину в театр. Развлекал ее, потом повел ужинать и проводил до дому.
Я спускаюсь по лестнице.
Пока я искала его, бегала по улицам, он зашел сюда и попросил мисс Старлинг пойти с ним вместо меня. Отдал ей мой билет.
Я останавливаюсь, прислоняюсь к стене. Зажмуриваю глаза, стискиваю кулаки. Не могу отогнать ужасное видение: они вдвоем, веселые, наслаждаются чудесным вечером. Вечером, о котором мечтала я. Невыносимо.
Неподалеку что-то шуршит. Открываю глаза. У подножия лестницы стоит хозяйка, скрюченной рукой держится за перила и, поблескивая очками, смотрит на меня. На недобром лице — неизъяснимое удовольствие. Конечно, он пошел с ней, — говорит ее взгляд, — зачем ему ты, если он может сводить в театр такую девушку, как Люси Старлинг? Слишком ты зарвалась, дорогая, слишком зазналась. Надо было слушать маму и знать свое место.
Мне хочется залепить ей оплеуху.
Я одолеваю оставшиеся ступеньки, проскакиваю мимо хозяйки и вылетаю на улицу.
И клянусь себе никогда больше не приходить к мисс Люси Старлинг.
Ханна и Тедди ругаются из-за войны. Сейчас весь Лондон делает то же самое. Прошло уже достаточно времени, и хотя горе не иссякло — оно никогда не иссякнет — люди уже способны оценить трагедию со стороны.
Ханна делает маки из алой папиросной бумаги и черной проволоки, а я помогаю. Мысли заняты другим. Я никак не заставлю себя забыть об Альфреде и Люси Старлинг. Я и растерялась, и расстроилась, но больше всего обиделась, что он так легко нашел мне замену. Написала ему письмо, однако ответа пока нет. Мучает чувство странного опустошения, по ночам, в темноте моей одинокой комнаты на меня нападают неожиданные слезы. Днем легче, я отгоняю мрачные мысли, надеваю маску преданной служанки и стараюсь быть самой лучшей камеристкой на свете. Иначе и жить не стоит. Без Альфреда Ханна — единственное, что у меня осталось.
Маки — новое увлечение Ханны. Это маки с полей Фландрии,[20] объясняет она, как в стихотворении одного канадского медика, который так и не вернулся с войны. Они помогут нам не забыть об убитых.
Тедди считает ее занятие чепухой. Несомненно, погибшие не зря принесли себя в жертву, но сейчас пришло время двигаться дальше.
— Не было никакой жертвы, — откликается Ханна, сворачивая очередной цветок. — Одни потери. Их жизни пропали даром. Тех, кто остался там, и тех, кто вернулся — живых мертвецов, сидящих теперь на улицах с бутылкой в обнимку и шляпой для милостыни.
— Жертвы, потери — какая разница! — раздражается Тедди. — Не цепляйся к словам.
В ответ Ханна обзывает Тедди бестолковым и советует приколоть к пиджаку один из маков. Не поднимая глаз, она добавляет, что это могло бы помочь уладить недоразумения с прислугой.
В последнее время под лестницей неспокойно. Ллойд Джордж отметил заслуги Саймиона во время войны. Некоторые слуги сами воевали, у других погибли отцы и братья, и они с презрением относятся к «послужному списку» хозяина. Людей, вроде Саймиона и Тедди, не любят. Поговаривают, что они делали деньги на чужой смерти.
Тедди не отвечает, только бурчит что-то неразборчивое. О людской неблагодарности, о том, как трудно в наше время найти работу. Впрочем, он держит мак за черный стебелек и задумчиво вертит в пальцах. Потом берет газету и притворяется, что погрузился в чтение. Мы с Ханной все вертим папиросную бумагу и насаживаем цветки на стебли.
Тедди складывает газету и кидает ее на журнальный стол. Встает, одергивает пиджак. Сообщает, что едет в клуб. Подходит к Ханне и полушутливо втыкает мак в ее волосы. Предлагает ей поносить за него цветок, ей такое украшение пойдет больше. Наклоняется, целует ее в щеку и выходит из комнаты. Будто вспомнив что-то, останавливается у двери.
— Есть только один надежный способ похоронить войну, — говорит Тедди. — Заменить потерянные жизни новыми.
Теперь замолкает Ханна. Она чуть напрягается, почти незаметно. И не смотрит на меня. Быстро выдергивает из волос мак, который сунул туда Тедди.
Ханна никак не может забеременеть. Это вечный камень преткновения между ней и мужем, да еще Эстелла подогревает конфликт, постоянно заговаривая о детях. Мы никогда не обсуждаем такие вопросы, я даже не знаю, что сама Ханна думает по этому поводу. Сначала я думала, что она втайне предохраняется — пьет какие-нибудь таблетки или что-то в этом роде. Но никаких следов медикаментов не обнаружила. Возможно, Ханна из тех женщин, которым не дано иметь детей. «Везет же некоторым», — говорила, бывало, мама.
Осенью двадцать первого года мне делают лестное предложение. Подруга Эстеллы, леди Пембертон-Браун, перехватывает меня в углу на одной из загородных вечеринок и предлагает работать у нее.
Я польщена. Первый раз кто-то по достоинству оценил мою работу. Пембертон-Брауны из Гленфилд-холла — одно из старейших и благороднейших семейств Англии. Мистер Гамильтон часто рассказывал нам о Гленфилде, о тамошних слугах, на которых должен равняться каждый уважающий себя английский дворецкий.
Я благодарю леди Пембертон-Браун за предложение и объясняю, что не могу оставить свою нынешнюю службу. Она советует мне не спешить. Говорит, что зайдет на следующий день — узнать, что я надумала.
И действительно заходит. Сплошная лесть и улыбки.
Я снова говорю «нет». На этот раз гораздо жестче. Объясняю, что знаю свое место. Кому и для чего я служу.
Проходит несколько недель, мы давно вернулись в дом номер семнадцать, и тут Ханна узнает о предложении леди Пембертон-Браун. Однажды утром она зовет меня в гостиную, и, войдя, я сразу понимаю, что хозяйка недовольна, только пока не знаю, чем.
— Можешь представить себе, Грейс, каково это — сидя за обедом, за одним столом с семью дамами, которые только и мечтают выставить тебя дурой, — узнать, что кто-то пытался переманить твою горничную?
От неожиданности я лишаюсь дара речи.
— А они болтают об этом, смеются и страшно удивляются, что я ничего не знаю. Что ничего не замечаю у себя под носом. И почему ты мне ничего не сказала?
— Прошу прощения, мэм…
— Да уж попроси! Неужели я не могу доверять тебе, Грейс? Я-то думала, что после стольких лет, когда так много пережито вместе…
Альфред так и не написал. От обиды и усталости у меня срывается голос:
— Я отказалась от предложения леди Пембертон-Браун, мэм. И не знала, что должна уведомить вас о нем, раз уж я сказала ей «нет».
Ханна словно приходит в себя. Вздыхает, садится на край дивана и покачивает головой. Растерянно улыбается.
— Прости меня, Грейс. Как мерзко с моей стороны… Сама не знаю, что на меня нашло…
Она даже бледнеет. Опускает голову на руки и несколько минут сидит молча. Потом говорит странным, вибрирующим голосом:
— Как же все это отличается от того, что я себе напридумывала, Грейс.
Ханна кажется такой несчастной, что я тут же раскаиваюсь в своей резкости.
— Что «это», мэм?
— Все. — Она поводит рукой вокруг. — Это. Эта комната. Этот дом. Лондон. Моя жизнь. — Ханна поднимает голову и глядит на меня. — Я чувствую себя никчемной, лишней. Иногда пытаюсь вспомнить последние годы и понять, где я совершила неверный шаг? — Она тоскливо смотрит в окно. — Как будто Ханна Хартфорд сбежала, чтобы жить своей настоящей жизнью и оставила меня здесь, вместо нее. — Ханна снова переводит на меня глаза. — Помнишь, в прошлом году я ходила к предсказательнице?
— Да, мэм, — с опасением отвечаю я.
— Она отказалась мне помочь.
Я облегченно вздыхаю, но тут Ханна продолжает:
— Не смогла, хотя собиралась: усадила меня, велела вытащить карту. Когда я подчинилась, она засунула ее обратно в колоду, перетасовала и предложила попробовать еще. По ее лицу я поняла, что вытянула ту же самую карту, я поняла, какую. Пикового туза. — Ханна встает и нервно мерит шагами комнату. — Сперва она вообще ничего не хотела мне говорить. Вместо этого взяла меня за руку и снова не сказала ни слова. Верней, сказала, что ничего не понимает, что все в тумане, ее внутренний взор тоже в тумане, и точно она может сказать только одно. — Ханна поворачивается ко мне. — Вокруг меня бродит смерть, я все время должна быть настороже. Где эта смерть — в прошлом или в будущем, она сказать не может, все слишком туманно.
Я собираю все силы и начинаю говорить, что не стоит беспокоиться, что предсказательница просто пугала ее, чтобы заставить прийти еще раз. В конце концов, сейчас, после войны о смерти можно сказать любому, и не ошибешься — почти каждый потерял кого-то из близких, потому и ходят к гадалкам. Но Ханна нетерпеливо мотает головой:
— Я знаю, что это значит. Сама догадалась, потому что много читала о таких вещах. Это метафорическая смерть. Время от времени карты говорят языком метафор. Это я умерла. Внутри. Я чувствую это уже давно. Как будто меня нет, а все, что происходит, это чей-то дурной сон.
Не знаю, что и сказать. Заверяю ее, что она жива. Что все кругом происходит на самом деле. Ханна горько улыбается.
— Какая разница. Если все происходит на самом деле, у меня вообще ничего не осталось.
Наконец-то я соображаю, что сказать. Сестра, а не служанка.
— У вас осталась я, мэм.
Ханна смотрит мне в глаза, берет меня за руку. Сильно, почти до боли стискивает пальцы.
— Не бросай меня, Грейс! Слышишь? Не бросай меня.
— Никогда, мэм, — отвечаю я, тронутая ее порывом. — Никогда.
— Обещаешь?
— Обещаю.
И я сдерживаю свое обещание. Уж не знаю — к добру или к худу.
ВОСКРЕШЕНИЕ
Темнота. Тишина. Неясные фигуры. Это не Лондон, не комната в доме номер семнадцать на Гроувенор-сквер. И Ханна куда-то делась. Ничего, вернется.
— Добро пожаловать домой.
Голос в темноте. Надо мной кто-то склоняется.
Голос знакомый. Это Сильвия, и я тут же чувствую себя старой и немощной.
Даже веки совсем ослабли. От них нет никакого проку. Как пара истлевших занавесок.
— Вы так долго спали. Перепугали нас. Как вы себя чувствуете?
Беспомощной. Заброшенной. Выкинутой из времени.
— Пить хотите?
Наверное, я кивнула, потому что во рту оказывается соломинка. Я сосу воду. Тепловатую воду. Как знакомо.
Мне отчего-то грустно. Да нет, понятно, отчего. Весы качнулись, и я знаю, что будет дальше.
И снова суббота. С весенней ярмарки прошла неделя. С моего недомогания — тоже. Я в своей комнате, в кровати. Занавески открыты, и солнце золотит вересковую пустошь. Утро, птицы. Я жду гостя. Приходила Сильвия, привела меня в порядок. Усадила в подушки, что твою куклу, и аккуратно расправила одеяло на коленях. Ей хочется, чтобы я хорошо выглядела. Даже расчесала меня, добрая душа.
Стук в дверь.
Петли скрипят, Урсула просовывает голову в щель, убеждается, что я не сплю, улыбается. Сегодня она зачесала челку назад, открыв лицо. Небольшое круглое личико, которое мне почему-то очень нравится.
Урсула подходит к моей кровати и, склонив голову, рассматривает меня.
Какие же у нее глаза — темные, большие — словно на картине маслом!
— Как вы себя чувствуете? — повторяет она уже привычный мне вопрос.
— Гораздо лучше. Спасибо, что заглянули.
Урсула нетерпеливо качает головой — ни к чему тут глупые любезности.
— Я пришла бы раньше, если бы знала. Только вчера позвонила, и мне сказали.
— Даже хорошо, что не пришли. Ко мне трудно было пробиться. Дочь стояла на страже с тех пор, как мне стало плохо. Я здорово ее напугала.
— Я знаю. Встретила ее в фойе. — Урсула заговорщически улыбается. — Она велела мне вас не волновать.
— Не слушайтесь.
Она садится на стул около кровати, ставит сумку на пол.
— Как там фильм? — спрашиваю я. — Движется?
— Почти готов. Досняли финал, почти разобрались с закадровым звуком и саундтреком.
— Саундтрек… — повторяю я. Ну конечно. Трагедии в кино всегда разворачиваются под музыку.
— И что там за мелодии?
— Несколько песен двадцатых годов. Танцевальные мелодии и пианино. Грустное, загадочное, романтическое пианино, в стиле Тори Амос.
Наверное, у меня глупый вид, поэтому Урсула начинает перечислять композиторов, с которыми я должна быть знакома.
— Немного Дебюсси, немного Прокофьева.
— А Шопен?
— Шопен? — удивленно поднимает брови Урсула. — Нет. А нужно? — Она даже пугается. — Только не говорите мне, что кто-то из сестер страстно любил Шопена!
— Нет, — отвечаю я. — Шопена любил брат, Дэвид.
— Слава богу! Он не самый главный персонаж. Слишком рано погиб, чтобы всерьез повлиять на события.
Спорное утверждение. Впрочем, сейчас мне не до споров.
— И что у вас вышло? Хороший фильм?
Урсула прикусывает губу.
— Надеюсь, да. Думаю, что да. Боюсь, мне трудно оценить его объективно.
— Но хоть похоже на то, что вы задумали?
Она покачивает головой. Вздыхает.
— И да, и нет. Трудно объяснить. Когда я только начала снимать, он весь был у меня в голове, полный нерастраченной энергии. А теперь он снят — будто загнан в какие-то рамки.
— Наверное, так бывает с любым произведением.
Урсула кивает.
— Понимаете, я чувствую такую ответственность перед героями, перед всей их историей. Хотелось сделать все идеально.
— В мире мало идеального.
— Мало, — улыбнувшись, соглашается Урсула. — Иногда я боюсь, что я не тот человек, которому стоило браться за историю семьи Хартфорд. Вдруг я все перепутала? Я так мало знаю!
— Литтон Стрейчи[21] как-то сказал, что неведение — главный инструмент историка.
Урсула непонимающе хмурится.
— Неведение — лучший советчик, — объясняю я. — Оно бесстрашно выбирает главное и отбрасывает лишнее.
— Хочешь испортить рассказ — сделай его правдивым, так что ли?
— Что-то в этом роде.
— Но ведь для биографии самое главное — правда.
— А что такое правда? — говорю я. Были бы силы — пожала бы плечами.
— То, что случилось на самом деле. — Урсула глядит на меня так, словно у меня окончательно съехала крыша. — Кому и знать, как не вам. Вы долгие годы раскапывали прошлое. Искали правду.
— Раскапывала. И ни разу не нашла. — Я медленно, но верно сползаю с подушек. Урсула замечает это и мягко поправляет меня. Я спешу продолжить, пока она не перебила. — Когда я была молодой, я хотела быть сыщиком.
— Серьезно? Служить в полиции? И почему передумали?
— Мне никогда не нравились полисмены.
— Да, это действительно проблема, — ухмыляется Урсула.
— Поэтому я пошла в археологи. Почти то же самое, если подумать.
— Только жертвы убиты гораздо раньше.
— Да.
— Эту мысль подсказала мне Агата Кристи. Верней, один из ее героев. Он сказал Эркюлю Пуаро: «Из вас вышел бы неплохой археолог, мистер Пуаро. У вас настоящий талант восстанавливать прошлое». Я читала это во время войны. Второй войны. К тому времени я была сыта по горло тайнами, но у одной из медсестер оказалась с собой книжка, а старые привычки долго живут.
Урсула улыбается и неожиданно встает.
— Ой, чуть не забыла. Хорошо, что вы мне напомнили. Я тут кое-что принесла. — Она ныряет в сумку и достает оттуда маленькую коробочку.
Размером с книгу, но гремит.
— Это кассета. Агата Кристи. — Урсула неуверенно пожимает плечами. — Я не знала, что вы сыты по горло тайнами.
— Не беспокойтесь, то была временная сытость, нескладная попытка забыть прошлое. Я снова увлеклась детективами, как только кончилась война.
Она указывает на плеер на прикроватном столике.
— Поставить вам кассету?
— Давайте, — командую я.
Она разрывает пластиковую упаковку, достает первую кассету и открывает магнитофон.
— Тут уже что-то стоит. — Урсула достает кассету — ту, что я сейчас пишу для Марка, — и показывает мне. — Это для него? Для вашего внука?
Я киваю.
— Положите ее на стол, пожалуйста. Я потом поставлю обратно.
Конечно, поставлю. Время мое подходит, и я это чувствую, мне надо закончить, пока оно не взяло надо мной верх.
— Слышно что-нибудь от него? — спрашивает Урсула.
— Пока нет.
— Услышите, — обещает она. — Обязательно.
У меня уже не осталось сил надеяться, но уверенность Урсулы так заразительна, что я киваю.
Она ставит вместо моей кассеты Агату Кристи и кладет магнитофон на место.
— Вот.
Вешает сумку на плечо. Значит, собирается уходить. Я дотягиваюсь до ее руки, и она поворачивается, сжимая мою. Такая нежная кожа.
— У меня к вам просьба, — говорю я. — Сделайте мне одолжение, пока Руфь…
— Конечно, — тут же откликается Урсула. — Что угодно. — Заметно, что ее разбирает любопытство, видно, в моем голосе звучит что-то необычное. — Что именно?
— Ривертон. Отвезите меня в Ривертон. Мне нужно его увидеть.
Урсула хмурится, сжимает губы. Я поймала ее на слове.
— Ну пожалуйста.
— Даже не знаю, Грейс. А что скажет Руфь?
— Она скажет: ни в коем случае. Потому я и попросила вас.
Урсула смотрит в стенку. Не знает, как выкрутиться.
— Может быть, лучше привезти вам то, что мы там наснимали? Я запишу на видео и…
— Нет, — твердо говорю я. — Мне надо съездить туда самой. И скорей. — Она все прячет глаза. — Как можно скорей.
Урсула поворачивает голову, и, еще до того, как она кивает, я понимаю, что мы договорились.
Я благодарно киваю в ответ и показываю глазами на кассету.
— А я ведь встречала ее однажды. Агату Кристи.
Это было в конце тысяча девятьсот двадцать второго. Тедди и Ханна принимали гостей у себя дома. Тедди и его отец вели какие-то дела с Арчибальдом Кристи, что-то по поводу изобретений.
В начале двадцатых годов у Лакстонов всегда было много гостей. Однако тот обед я запомнила особо по нескольким причинам. Во-первых, на нем присутствовала сама Агата Кристи. В то время она выпустила всего лишь одну книгу — «Загадочное происшествие в Стайлз», но Эркюль Пуаро тут же вытеснил Шерлока Холмса из моего сердца. Тот был другом детства, а этот стал частью нового мира.
В те дни у нас гостила Эммелин. Она приехала в Лондон на месяц. Ей уже исполнилось восемнадцать, и первый бал решили устроить здесь. Никаких разговоров о замужестве, как у Ханны, уже не было. Прошло всего-то навсего четыре года, а времена полностью изменились. Изменились и девушки. Они сбросили корсеты лишь для того, чтобы тут же нацепить на себя тяжкое ярмо диет. В моду вошли жеребячьи ноги, упругая грудь и гладко зачесанные волосы. Никто не шептал, прикрывая рот ладонью, и не кидал стыдливых взглядов. Девушки смеялись и выпивали, курили и ругались не хуже мальчишек. Талии на платьях стали низкими, сами платья — свободными, а нравы — еще свободней.
Возможно, именно поэтому разговор за столом пошел на совершенно неожиданную тему, а может быть, все дело было в присутствии миссис Кристи. Сыграл свою роль и недавний поток газетных статей о нашумевшем убийстве.
— Их обоих вздернут, — бодро обещал Тедди. — Эдит Томпсон и Фредди Байуотерса. Как того парня, что убил свою жену. Совсем недавно, в Уэльсе. Как же его звали? Он ведь был военным, правда, полковник?
— Майор Герберт Роуси, — подтвердил полковник Кристи.
Эммелин театрально вздрогнула.
— Вообразите только — убить собственную жену, женщину, которую ты обещал любить до скончания жизни.
— Большинство убийств совершаются людьми, которые клялись друг другу в любви до гроба, — спокойно сказала миссис Кристи.
— Люди вообще стали более жестоки, — заметил Тедди, прикуривая. — Достаточно открыть газету, чтобы в этом убедиться. Несмотря на запрет огнестрельного оружия.
— Это Англия, мистер Лакстон, — сказал полковник Кристи. — Родина лисьей охоты. Тут трудно запретить оружие.
— У одного из моих друзей всегда при себе пистолет, — беспечно сообщила Эммелин.
— Быть не может, — покачала головой Ханна и посмотрела на миссис Кристи. — Боюсь, моя сестра насмотрелась американских фильмов.
— Да может! — стояла на своем Эммелин. — Этот парень — не стану называть имени — сказал, что добыть оружие так же просто, как купить пачку сигарет.
— Не иначе как Гарри Бентли, — проницательно заметил Тедди.
— Гарри? — рассмеялась Эммелин, хлопая длиннющими черными ресницами. — Да Гарри и мухи не обидит! Вот его брат Том — дело другое.
— Неподходящие какие-то у тебя знакомства, — нахмурился Тедди. — Неужели ты не понимаешь, что ношение оружия незаконно, я уже не говорю — опасно.
— Я с детства умею стрелять, — пожала плечами Эммелин. — В нашей семье все женщины отлично стреляли. Бабушка лишила бы нас наследства, разочаруй мы ее. Можешь спросить у Ханны: как-то раз она попыталась пропустить охоту — сказала бабушке, что это недостойно — стрелять в беззащитных животных. Бабушка за словом в карман не полезла, да, Ханна?
Ханна только пожала плечами и сделала глоток вина. А Эммелин продолжала:
— Сказала: «Чепуха! Ты — Хартфорд. Стрельба у тебя в крови».
— Как бы там ни было, — подытожил Тедди, — в этом доме никакого оружия не будет. Представляю, что сказали бы мои избиратели, если б меня обвинили в незаконном хранении оружия.
Эммелин закатила глаза, а Ханна заметила:
— Будущие избиратели.
— Расслабься, Тедди, — посоветовала Эммелин. — Если ты будешь таким занудой, тебе не понадобится оружие. Умрешь от разрыва сердца. Я же не говорила, что сама хочу купить пистолет. Я просто имела в виду, что девушке в наши дни надо быть настороже. Раз мужья стреляют в жен, а жены — в мужей. Не правда ли, миссис Кристи?
Миссис Кристи следила за дискуссией с безмятежным любопытством.
— Я не очень уважаю пистолеты, — призналась она. — Яды — вот мой конек.
— Неуютно, должно быть, существовать рядом с женой, у которой такое странное хобби, верно, Арчи? — с редким для него юмором поддел Тедди.
Арчибальд Кристи тонко улыбнулся.
— Всего лишь одно из ее маленьких забавных увлечений.
Муж и жена обменялись взглядами.
— Да уж позабавней твоих, — парировала миссис Кристи.
Поздно вечером, когда чета Кристи уже уехала, я достала из-под кровати «Загадочное происшествие в Стайлз». Подарок от Альфреда, между прочим, и я так увлекалась, читая и перечитывая дарственную надпись, что пропустила телефонный звонок. Трубку взял мистер Бойли и переключил звонок наверх, на Ханну. Я не обратила на это никакого внимания. Только когда Бойли стукнул в мою дверь и передал, что госпожа велела подойти, я заволновалась.
Ханна еще не сняла своего шелкового перламутрового платья. Как льющаяся вода. У щек вились светлые локоны, прическу украшала нить бриллиантов. Она стояла спиной к двери, но как только я вошла, тут же повернулась.
— Грейс, — сказала она, беря меня за руки. Жест испугал меня — слишком ласковый. Что-то случилось.
— Да, мэм?
— Сядь, пожалуйста. — Она усадила меня рядом с собой на кушетку, большие голубые глаза глядели с сочувствием.
— Мэм?
— Звонила твоя тетя…
И тут я все поняла.
— Мама.