Безумство Мазарини Бюсси Мишель
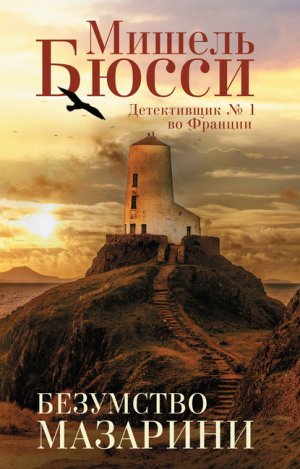
У Симона хватало амбиций – и в учебе, и в личной жизни. Он споро карабкался вверх по образовательной лестнице. Что касается внешности – он принадлежал к спокойному и естественному типу, был в ладу со своим телом, умел за ним ухаживать и выставлять в лучшем свете. Не подкачала и психика – природа наделила его редким упорством, какое мало кто из близких мог в нем заподозрить. Он был уверен в себе и ждал подходящего случая, чтобы рвануть вперед. И было бы удивительно, если бы за эти два летних месяца ему так ничего и не подвернулось.
Без чего-то три пополудни Симон, перегородив железным конем велосипедную дорожку, которая тянулась вдоль ведущего к аббатству шоссе, читал нотацию славному семейству отдыхающих, чьи дети в возрасте от четырех до восьми лет катались без шлемов. Отец кивал с понимающим видом, мать не скрывала раздражения, а старшая дочь, очень хорошенькая и очень загорелая, смотрела в землю. Симону казалось, что ее глаза, занавешенные длинными черными волосами, должны быть темными. Красивая девушка из тех, что весь день скучают в обществе родителей и младших братьев и ждут вечера, когда все святое семейство ляжет спать и можно будет свалить к друзьям у костра на пляже. Вообще-то в задачу Симона входило запрещать незаконные костры – из-за кораблей и рифов, но, представив, как он преследует малолетних береговых разбойников, как появляется на своем красном велосипеде среди ночных купальщиков, он не мог не вспомнить жандарма из Сен-Тропе[2].
Думая о другом, он продолжал пересказывать семейству кодекс поведения велосипедистов на острове. Старшая красотка по-прежнему не поднимала глаз. При родителях притворяется паинькой, а сама, наверное, мечтает о красавце-голландце, к которому побежит, как только стемнеет. Симон дошел до опасностей, которыми угрожает дозорная тропа из-за обвалов в скалистой части острова, – и тут на поясе завибрировал мобильник.
– Извините.
Он отошел от них на несколько метров. Посмотрел на экран: Клара. Секретарша мэрии, единственная из служащих, которая не ушла в отпуск и не была на лето переброшена в туристско-информационную службу.
– Да, Клара?
– Каза? Рядом с цитаделью творится что-то подозрительное. В мэрию позвонили туристы. – Голос Клары выдавал панику.
– Что значит «подозрительное»?
– Они толком не объяснили. Вроде бы слышали выстрелы. И крики. Напротив кладбища, рядом с тюрьмой.
Клара была не из тех, кто трепыхается по любому поводу. Симон быстро распрощался со славным семейством отдыхающих, напоследок еще раз попытавшись перехватить взгляд хорошенькой девчонки.
«Черт возьми, – думал он, крутя педали и с удовольствием ощущая выброс адреналина, – неужели на этом острове наконец происходит что-то интересное?»
До кладбища Симон добрался за десять минут. На первый взгляд все выглядело спокойно. На дороге почти пусто. Никаких гильз, дымом не пахнет. На серой кладбищенской ограде грелась на солнышке неподвижная ящерица, она сбежала, как только Симон прислонил к стене велосипед.
Бдительных островитян и след простыл.
Никакой суеты.
Ничего.
Было даже слишком спокойно, тишина казалась не вполне естественной, как будто все затихло по команде священника, учителя или режиссера. Только высокая трава на откосе шуршала под морским ветром.
Симон Казанова посмотрел в сторону северо-западной оконечности острова, той его части, куда почти не заглядывали туристы и где не было ничего, кроме цитадели, теперь превращенной в тюрьму.
Там суета была.
Он мало что мог разглядеть – только фигурки, мечущиеся, как сбившиеся с пути муравьи. Снова оседлав велосипед, Симон проехал оставшиеся шестьсот метров по дороге к тюрьме.
С каждым оборотом педалей перед ним открывалось огромное восьмиугольное сооружение, стали видны валы в стиле Вобана, пологие склоны, заросшие чуть пожелтевшей травой, – точно как в Сен-Ва-ла-Уг или на острове Татиу. Двести лет назад цитадель стала каторжной тюрьмой, промежуточным этапом для преступников, которых затем отправляли в Гвиану, на Реюньон или в Новую Каледонию. После Второй мировой войны крепость превратили в тюрьму. С моря к ней было не подступиться. Со стороны острова ее защищали глубокие, метров по десять, рвы, теперь осушенные, но огражденные двойным рядом колючей проволоки. Преодолеть оплот из камня, земли и металла можно было, только пройдя через широкий сводчатый проем в крепостной стене и бетонный мост.
Какой-то тип с автоматом, в военной форме, больше похожий на наемника, вернувшегося из Чада, чем на сотрудника министерства юстиции, преградил ему дорогу.
«Не поддаваться!» – подумал Симон и решительным тоном представился:
– Служба безопасности острова Морнезе. Жители прибрежных районов сообщили мне…
Наемник поднял автомат. В его снаряжении ничего упущено не было. Тесак вдоль ноги. Патронташ через плечо. Бинокль на шее. Стрекочущая рация. Симон увидел еще десятка три таких же солдат в форме десантников, вооруженных до зубов, – они выходили из ворот крепости и садились в джипы, четверо в машину. Один человек в каждой группе сидел за рулем, второй неотрывно смотрел в бинокль, третий и четвертый целились из автоматов в невидимого врага. Два джипа уже покинули крепость.
Странно – летом тюремная охрана остается неприметной. Надо было встать на рассвете, чтобы увидеть, как взмыленные бритоголовые парни с мускулистыми ногами маленькими группами бегут по велодорожкам.
Клара была права! Что-то происходило. Дуло автомата чадского наемника было наставлено точнехонько в отчаянно колотившееся сердце Симона.
– Мсье, вам нельзя здесь оставаться, – строго сказал военный.
Симон притворился раздраженным.
– Говорят вам – служба безопасности острова. Мэрия Морнезе!
И уверенно протянул ему свое «молодежное» удостоверение. Тип с автоматом внимательно изучил карточку с печатью мэрии. Она его не очень убедила, и он не знал, что делать.
Симон начал терять терпение.
– Сколько можно! Я хочу поговорить с кем-то из ваших командиров!
Военный с облегчением пробормотал в свою рацию что-то совершенно неразборчивое, и тут же под сводом появился человек лет сорока с отличной выправкой. Все в нем контрастировало со зрелищем метавшегося по двору апокалиптического отряда: зеленовато-синий мундир, фуражка с лакированным козырьком, надвинутым на высокий лоб, орлиный взор, способный и на горизонте высмотреть перископ вражеской подводной лодки.
Он внимательно изучил удостоверение Симона и с сообщнической улыбкой вернул его владельцу.
– Лейтенант Дюллен. Благодарю вас, мсье Казанова, за то, что добрались сюда, но вы напрасно беспокоились. Все в порядке. Обычная работа.
Обычная работа?
Ага, как же!
5
Сирота
Парусник мягко покачивался, баюкая мои воспоминания. Арман все еще спал, свернувшись калачиком рядом, и улыбался во сне, как большой младенец, угнездившийся в коляске, которую катят по ухабистой дороге. Я смотрел на линию берега, на смешение красок Морнезе, словно на картинах импрессионистов, – дома над серым гранитом отвесных прибрежных скал, красные пятна, разбросанные по ландам с сотней оттенков зеленого.
Остров Морнезе.
Мое незавершенное прошлое.
Я жил здесь в детстве, до шести лет. Мои отец и мать были не то археологами, не то историками, не то чем-то средним между тем и другим. Они восстанавливали аббатство Сент-Антуан, стоявшее посреди острова, лет десять потратили на эту работу. Жили там вместе с группой молодых любителей древних камней, среди которых были Тьерри, брат моей матери, и его жена Брижит. Все происходило в начале восьмидесятых. Я родился на пятом году раскопок и был единственным ребенком в этой научно-хипповой общине. От того времени у меня в памяти сохранились расплывчатые картины: солнце, ветер, пыль, большие столы, за которыми взрослые смеются и пьют, я – одинокий и несколько заброшенный ребенок.
Вот, собственно, и все, что я помню про первые шесть лет.
Все закончилось в 1990 году.
Внезапно оборвалось.
Однажды утром на школьном дворе во время перемены появился муж моей няни. Зачем так рано? Он велел мне идти с ним, ничего объяснять не стал, сказал только, что это срочно и важно и чтобы я ни о чем не спрашивал. Я-то больше всего волновался из-за своего мяча. Нянин муж взял меня за руку как раз после того, как я сделал пас другу по имени, кажется, Лоран. Я толком этого Лорана теперь и не помню, мы с ним с тех пор больше не виделись. Тогда он даже не успел отбить мяч мне обратно.
Вполне вероятно, что мой мяч с того дня так у него и живет.
Нянин муж отвел меня к себе домой. Мне дали поесть и сказали, чтобы я шел играть. Все были очень ласковы и до ужаса фальшивы, что я отчетливо сознавал. Я и сейчас, хотя напрочь забыл, что ел на обед, что смотрел по телевизору и во что играл, помню странную атмосферу неловкости, ощущение беспокойства и неестественно заботливых людей вокруг меня.
А потом, уже под вечер, ко мне пришла Мартина, моя няня. Она плакала. Я впервые видел ее в слезах. Она сказала, что с моим папой произошел несчастный случай. Что он ушел на небо. Что я должен держаться. И все время твердила: «Это несчастный случай, это несчастный случай».
Кажется, я не плакал. Потому что не понимал.
Мой папа на небе?
Что это значит? Я больше никогда его не увижу? Я не грустил, но мне было не по себе. Равновесие нарушилось, и как теперь себя вести? Меня этому не учили. Я думал: «А можно мне поиграть, покататься на велосипеде, включить телевизор? Когда будет можно?»
Я и сегодня спрашиваю себя, чудовищной ли была такая реакция или нормальной. Смерть казалась мне взрослым делом, таким взрослым, что я ничего не понимал, не был знаком с правилами. Это была запретная тема, как взрослые разговоры про секс. Именно так я это ощущал – нечто грязное, тайное, предназначенное только для взрослых. Запретная тема.
Я не плакал. Я не знал, надо плакать или нет. С тех пор я больше никогда не плакал. Никогда.
Моему детскому уму понятно было одно, и только за это я и цеплялся.
Несчастный случай.
Няня все твердила про несчастный случай.
Но это звучало фальшиво. Что-то было не так. Иначе зачем няне настаивать, мне-то было все равно. Такому малышу, каким я был тогда, дела не было до объяснений взрослых.
Если она так на этом настаивала… значит, это не был несчастный случай.
И я, шестилетний, уже тогда знал, что она врет.
Наверное, осознание этого все и расшатало.
Мне не хотелось плакать, слез не было, только вопросы, много вопросов. Произошло нечто страшное, ужасно печальное, и мне не хотели об этом рассказывать. Отодвигали подальше от взрослых тайн. И потому это становилось важнее смерти моего отца самой по себе. Мои детские рассуждения были просты.
Это не был несчастный случай…
Мой отец не погиб в результате несчастного случая. А значит, если он не умер из-за несчастного случая…
Вполне может быть, что он вообще не умер.
Два дня спустя дядя Тьерри и тетя Брижит увезли меня с острова Морнезе. Помню, что ехал на заднем сиденье их «рено» и смотрел, как меняется пейзаж за окном. Во всяком случае, мне кажется, что я это помню. Все затянулось туманом, остались только отдельные вспышки. Крест аббатства Сент-Антуан вдалеке, самая высокая точка острова. Это – да, это я помню. От парома, на котором мы плыли на материк, и от остальной части пути – дороги через Нормандию – ни одной картинки в памяти нет. Должно быть, я спал. Сначала мы с Тьерри и Брижит два года прожили в дешевой квартирке в Понтуазе, я ее почти совсем забыл. Потом они купили домик в Кормей-ан-Паризи, предместье, зажатом между Аржантеем и Мезон-Лаффитом. Убогая лачуга в уродском поселке. Соседи, в том числе и в первую очередь дети моего возраста, все тупые.
Можно было сдохнуть от скуки.
Родственники сделали все, что смогли, на те деньги, какие удалось наскрести. Наверное, ради домика влезли в долги, с которыми им до самой пенсии было не расплатиться. Я на них не в обиде. Во всяком случае, за это.
С мамой я виделся еще один раз, в понтуазской квартире, вскоре после того, как вместе с Тьерри и Брижит покинул Морнезе. В какой именно из дней, я не очень отчетливо помню. Она пришла вечером, когда я купался. И об этом у меня тоже не осталось в памяти ни слов, ни картинок – только обрывки воспоминаний, только впечатления.
И главное среди них – мама меня испугала!
Она была пугающе серьезной. Темнота – единственное, о чем я думал. Темнота и холод. Мама была грустная, осунувшаяся. Почти как мертвая. Чувствовалось, что все дни и часы перед нашим свиданием она не переставала плакать. При мне она сдерживалась, но у нее не было сил даже на улыбку, шутку или ласку. А ведь я только того и ждал. Чтобы все стало как раньше.
Выбраться из темноты.
Выбраться из вранья.
Снова жить по нормальным правилам. Снова стать обычным ребенком. Играть.
Но нет – женщина, которая наклонилась надо мной в ванной комнате, моя мать, выглядела так, будто уже умерла. Я ее не узнавал. Она говорила важные вещи, но это было не то, что я хотел услышать.
Ты должен быть мужественным. Ты уже большой. Ты мужчина.
Но я не был ни большим, ни мужественным.
Нет!
В тот вечер она осталась ужинать. Потом они втроем уложили меня спать в моей комнате, но я не уснул и слышал, как они разговаривают за стенкой, хотя ничего не понимал. Во всяком случае, я ничего не помню, кроме того, что часто звучало имя отца.
Жан.
Они всегда говорили о нем в настоящем времени. Каждый раз я поеживался в своей постели, как будто они говорили о призраке. Как будто они говорили о ком-то живом.
Поздно ночью ко мне в комнату пришла мама. К тому времени я, наверное, уже спал. Она меня разбудила. Постаралась улыбнуться, но лицо у нее было… За все эти годы я не нашел другого слова: мертвенное. После этого мне долго снились кошмары, и во всех кошмарах я видел это лицо. Мама наклоняется надо мной, чтобы поцеловать. Ее дрожащая рука с серебряным обручальным кольцом. И потом – последняя картинка, которая от нее осталась. Осунувшееся лицо с запавшими щеками, мне страшно на него смотреть, она и сама почти призрак. И последние слова, которые она произнесла, такие странные.
Твой папа теперь далеко, Колен, очень далеко. Но ты не грусти. Надо набраться терпения. Ты снова его увидишь. Когда-нибудь ты с ним встретишься.
Когда-нибудь ты с ним встретишься…
С тех пор мне не дает покоя вопрос: мама прошептала это, чтобы меня утешить? Она говорила про рай и про небо? Это были всего лишь сказки, которыми обычно успокаивают детей? Вся эта чушь, в которую я никогда не верил?
Назавтра ко мне пришла Брижит. Мне кажется, была уже вторая половина дня. У меня тогда было смутное представление о времени. Она рассказала, что моя мама тоже отправилась на небо, к папе. Пробормотала скороговоркой, что она попала в автомобильную аварию. Что не мучилась. Что хотела уйти к папе. Что ушла к нему.
Я сразу поверил Брижит, поверил и продолжаю верить каждому ее слову. Не про небо, само собой, про аварию. Наверное, потому, что это звучало правдиво. Наверное, потому, что я уже видел маму почти мертвой. Потом Брижит сказала, что теперь я буду жить с ней и с дядей Тьерри. Насколько я помню, она почти ничего к этому не прибавила. Не говорила, чтобы я держался или еще что-нибудь в том же роде, не спрашивала, грустно ли мне, скучаю ли я по родителям. Вероятно, ей тоже было не по себе. А сам я, думаю, предпочитал, чтобы все это прошло так, без разговоров. Брижит ни о чем меня не спросила. Тьерри тоже, он ждал в соседней комнате.
За десять лет мы больше ни разу об этом не говорили. Ни разу. День шел за днем, а о моей матери и моем отце, Анне и Жане, больше никто не упоминал.
По молчаливому согласию между нами.
Это называется табу.
Теперь я понимаю, что не говорить со мной о родителях – лучшее, что Брижит и Тьерри сделали для меня. Не донимали ласками, психологическими разборами или ностальгическими воспоминаниями.
Не обсуждали это, забыли, оставили меня в покое.
Я не слишком привязан к дяде и тете и не в восторге от них. Они, скажем так, люди другого типа. Мне стало тесно в их пошлом мелкобуржуазном мирке. Надоел бытовой расизм. Тупые друзья. Убогие знакомые. Но они, по крайней мере, никогда не доставали меня моими чувствами к родителям, обошлись без слезливых воспоминаний о трагедии. Ни разу меня не выставляли диковиной, которую выводят к гостям после ужина: Бедный ребенок, потерял родителей, когда ему и шести лет не исполнилось… Мы его приютили. Нелегко тебе пришлось, должно быть, да, малыш?
От этого, дядюшка и тетушка, вы меня все же избавили. И на том спасибо.
6
Смутные предчувствия
Симон Казанова и лейтенант Дюллен несколько мгновений молча изучали друг друга. Из цитадели на большой скорости вылетели два джипа. Лейтенант почти дружески улыбнулся, явно рассчитывая на ответную улыбку Симона. Нашел способ привлечь его на свою сторону, ничего не объясняя.
– Не пугайтесь, мсье Казанова, это всего лишь тактические учения.
– Тактические учения? – удивился Симон.
Лейтенант наградил его еще одной заговорщической улыбкой – можно подумать, они вместе воевали в Афганистане или Катанге. Приблизившись, офицер доверительно произнес:
– Вот именно, мсье Казанова. Тактические учения. Тренировка, если вам так больше нравится.
– Для обычной тренировки они слишком уж стараются. Вы им пообещали вечером костер на пляже и пение под гитару?
Лейтенант, не сумев скрыть раздражения, стиснул рукой в перчатке белый ремень.
– Мсье Казанова, не думаю, что должен рассказывать вам что-то еще. Мы на вас рассчитываем. Серьезно. Вы играете решающую роль в том, что касается местных жителей и туристов. Я говорю искренне. Ваша задача – убедить их, что нет никакой опасности, никакого повода для беспокойства.
Решающая роль? На его-то должности? Симон Казанова не верил ни единому слову Дюллена.
Из крепости вышли еще три охранника с немецкими овчарками, похоже, отсидевшими двадцать лет в заключении – если судить по тому, как они натягивали поводки, принюхиваясь к вольному воздуху.
– Полагаю, собаки тоже тренируются, – заметил Симон. – Им же тоже надо размять лапы.
Офицер и глазом не моргнул, стоял все так же прямо в своем безупречном мундире, смотрел из-под козырька.
– Лейтенант, – начал Симон, стараясь не отводить глаз, – давайте начистоту. Если хотите, чтобы я с вами сотрудничал, будьте поразговорчивее.
Лейтенант поправил козырек, не сдвинувшийся ни на миллиметр. Веки прикрыли глаза подобно двум железным занавесам. Улыбка исчезла. Тело напряглось, как у классного надзирателя, когда тот свистком оповещает об окончании перемены.
– Я сказал все, что вам надо знать, мсье Казанова. А теперь займемся каждый своей работой. Я знаю, что должен делать. Вы тоже. Постарайтесь, чтобы на острове Морнезе не случилась паника.
Кинологи уходили в ланды, двигаясь прямо на юг. За ними, держа строй, следовал десяток тюремных охранников, методично прочесывавших территорию. Симон Казанова не сдавался.
– Прибрежные жители слышали выстрелы рядом с кладбищем. Туристы звонили в мэрию.
Лейтенант Дюллен хотел было одернуть наглеца, но не успел. Красно-белый «пежо», зигзагом пробравшись между военными автомобилями, припарковался, подняв облако пыли, в нескольких сантиметрах от рвов.
Симон разглядел на дверце логотип «Островитянина», местной газеты. На водителя тут же наставили три автомата. Он не спеша вылез из машины, улыбаясь, вскинул руки:
– Спокойно, парни. Я всего лишь хозяин «Островитянина», местной газеты. Дидье Дельпеш. Я не военный репортер.
Симон знал Дидье Дельпеша. Вернее, знал его в лицо и был о нем наслышан. Дельпеш издавал «Островитянина», единственную газету на Морнезе. Весь год она выходила раз в неделю, но на два летних месяца становилась ежедневной и тираж ее вырастал в десять раз. Несколько тысяч экземпляров. Раньше Дидье Дельпеш работал в «Либерасьон», потом ушел на вольные хлеба и основал собственную газету. Наверное, ему порой приходилось нелегко, но газета делала его влиятельной фигурой. Он был со всеми знаком. На Морнезе от него некуда было деться. Он вечно болтался в сент-арганском порту, с легкостью переходил на «ты» и запоминал имена. Крепко пожимал руку, не стеснялся обниматься и целоваться с мужчинами. Обладал отточенным стилем, писал цинично и смешно. Симон не мог этого не признавать и с удовольствием читал его статьи.
И наконец, Дельпеш в свои пятьдесят лет был настоящим мачо. Не скрывал возраста и седины, любил белые рубашки. Хищник. Лето было его временем: фотографии местных красоток, сделанные камерой с крутым телевиком, какие теперь редко встречаются. Бредовые гороскопы. Куча хороших кадров со всего побережья. «На самом деле, – думал Симон, – Дельпеш развлекается на всю катушку, выпуская свою газетку».
Журналист почти с вызовом продолжал держать руки над головой. В этой своей белой рубашке, распахнутой на седеющем торсе, он выглядел героем-освободителем, в одиночку и без оружия вышедшим на бой против тирана, – словно прямиком с картины Гойи.
Лейтенант Дюллен приблизился к журналисту и исполнил ему ту же песню, что и Симону. Нет, на острове ничего тревожного не происходит. Да, речь идет о простой тренировке. Нет, население острова не подвергается ни малейшей опасности.
Дельпеш, которого все еще держали под прицелом, слушал почти с радостным видом и явно верил Дюллену не больше, чем если бы тот сообщил, что репетирует со своими людьми «Лебединое озеро» к празднику местного святого.
– Я действительно рассчитываю на ваше чувство ответственности, – заключил Дюллен, обращаясь одновременно к Дидье Дельпешу и Симону.
Ответа он не ждал. В облаке охристой пыли выехал последний джип. Лейтенант помахал свите, и вооруженные охранники вернулись в цитадель – за исключением двоих, замерших у моста с таким серьезным видом, будто заступили на пост у Букингемского дворца. В окрестностях пенитенциарного центра Мазарини снова воцарилось спокойствие. Опять стало слышно, как чайки дразнят заключенных, пролетая вплотную к бойницам крепости, узким щелям свободы.
– Ты-то что об этом думаешь, мальчик? – спросил Дельпеш. – Они над нами издеваются, да?
Симону не понравилось ни то, что журналист назвал его мальчиком, ни то, что он сам ответил на свой вопрос. И все же он послушно кивнул.
– Что они, по-твоему, затевают? – продолжал Дельпеш. – Я считаю – кто-то сбежал из тюрьмы. Ничего другого в голову не приходит. Так что они тянут время, надеются поймать его до того, как придется протрубить тревогу и перепугать население. Эвакуировать кемпинги, устраивать облаву в ландах, прочесывать пляжи… Они сильно рискуют, правда?
Симону удалось вклиниться в монолог журналиста:
– Необязательно. Если положить на одну чашу весов размер острова, эти несколько квадратных километров, а на другую – имеющиеся ресурсы, тот отборный отряд, который мы только что видели, то весы вряд ли склонятся на сторону беглеца.
Дельпеш смерил его взглядом:
– Ты на острове новичок?
Симону и это не понравилось, но он стерпел.
– Тебя наняли на лето, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, так, да? Видишь ли, мальчик мой, на ту чашу твоих весов, где беглый арестант, надо добавить несколько гирек. К примеру, все, что ты видишь на острове Морнезе, это кемпинги, площадки для игры в петанк, семейные прогулки на велосипедах и девушки топлес. Но ты наверняка слышал, что под всем этим монахи за восемь веков выкопали настоящий лабиринт, километры коридоров, которые начинаются от аббатства Сент-Антуан. И теперь ни у кого нет планов этих подземелий.
Симон хотел ответить, но не успел. Дельпеш продолжил:
– И еще не надо забывать, что с 1794-го по 1946-й остров Морнезе был каторгой, тогда соседями честных островитян были самые отъявленные бандиты Франции и Наварры. Ведь отношения таким образом завязываются, правда? Ты вряд ли мне поверишь, мальчик мой, решишь, что я делаю рекламу своей газете, но на острове Морнезе самая высокая плотность жулья на квадратный километр во всей Франции. Так что если этот беглый арестант хоть как-то подготовился, то они не скоро его поймают даже со своими биноклями и псинами, и вся эта тайная операция может обернуться очень фигово!
Дельпеш улыбнулся, вытащил компактную камеру и сделал несколько снимков цитадели. Симон решил, что журналист драматизирует ситуацию. Естественно – страх повышает продажи.
Сам он на это не повелся. Дельпеш повернулся к нему:
– Ты работаешь в мэрии? Кажется, я тебя уже видел. Может, будешь собирать для меня информацию?
Симон вздохнул. Этот тип не отцепится. Упрямый, как чайка, нацелившаяся на пакет чипсов.
– Послушай, мальчик, с виду ты сообразительный. Ты…
У Симона завибрировал телефон.
Клара.
Он извинился и отошел на несколько шагов. Дельпеш явно будет подслушивать, этот наверняка способен даже по губам читать.
– Каза? Это Клара. Возвращайся в мэрию, ты мне нужен.
– Это срочно? Я возле тюрьмы, тут что-то затевается, и…
– Возвращайся, говорю! – перебила его Клара. – Речь именно о тюрьме! Я только что получила свежие новости. И очень паршивые. Мы крупно влипли, Каза!
7
Папа!
Арман, все так же лежа, приоткрыл один глаз.
– Не спишь? – спросил он.
– Нет. Думаю.
– Правильно делаешь, дураком не останешься. Разбудишь меня к аперитиву?
Арман снова закрыл глаза, повернулся на бок и почти бессознательно сунул руку в плавки. На его губах появилась довольная улыбка. Наименее дебильный из всех ребят в этом лагере – но все равно озабоченный.
Что я здесь делаю?
Море спокойное, где-то у самого горизонта маячат белые треугольники парусов. На этот раз меня все устраивало – море, штиль, парусник. Мне надо было подумать.
Полгода назад, листая каталог лагерей для подростков, я наткнулся на этот унылый и скучный парусный лагерь, но он находился на острове Морнезе.
И немедленно всплыли воспоминания, дремавшие близко к поверхности. Точнее, впечатления. Солнце и большие столы, за которыми сидят взрослые. Тень от креста Святого Антония. Камни и пыль. Кажется, цитадель. Или маяк, точно не скажу.
Я сижу в дядином псевдовольтеровском кресле. Святотатство!
Чем строже я приказывал себе образумиться, тем сильнее мне хотелось вернуться на Морнезе.
И все из-за сомнения, от которого я не мог отделаться с того дня, когда няня сообщила мне о смерти отца, упирая на то, что это был несчастный случай. Слишком упирая.
Я долго размышлял. Если это не было несчастным случаем, значит, мой отец, скорее всего, покончил с собой. Я всегда так считал с тех самых пор, как дорос до мыслей о подобных вещах. Свою роль сыграли и намеки из подслушанных разговоров Тьерри и Брижит. В аббатстве случилась какая-то беда, что-то серьезное. Трагическое происшествие. Команде пришлось прекратить раскопки и в страхе бежать с острова. Мой отец отвечал за работу, он возглавлял товарищество или что-то такое. Наверное, из-за этой истории он покончил с собой, а мама не перенесла и нарочно разбилась на машине. Официально – еще один несчастный случай, на самом деле – еще одно самоубийство.
Вот к чему я пришел после того, как десять лет складывал вместе краденые обрывки разговоров и разрозненные улики. И вот на какой версии остановился.
Наиболее правдоподобной версии…
Той, в которую меня поневоле заставили верить.
Я долго выстраивал гипотезу преступления. Меня защищали от чудовища! Мои родители были убиты. Меня поспешно увезли с острова Морнезе под охраной, может быть, целого отряда полицейских, которых я, маленький, не заметил. Я был ребенком. Я был в опасности. Синдром Гарри Поттера. По дороге в школу я смотрел, не сопровождают ли меня невидимые телохранители.
Те времена прошли, хотя иногда я все еще продолжал искать улики. Помню, как высматривал признаки страха у окружавших меня взрослых. Лежа в постели, настораживался, если где-то в городе внезапно начинали завывать сирены, за окном шуршали шины, вспыхивали мигалки. Сейчас явятся полицейские. Они придут за мной.
Это помешательство прошло. Тем более странным было безотчетное желание вернуться на Морнезе. Странным и в то же время объяснимым.
Со временем в глубине души поселилась убежденность. Маленькое сомнение день ото дня все разрасталось и несколько лет назад превратилось в уверенность, которая окрепла за последние месяцы.
Мой отец не умер!
К такой мысли меня подталкивал целый ряд признаков. Например, моя тетя Брижит до сих пор не вычеркнула папино имя из своей записной книжки. Она каждый год ее меняла, переписывая на страничку с буквой «Р» все имена нашей семьи: «Реми Мадлен», моя бабушка… и «Реми Жан», мой отец. Вот уже десять лет она переписывала из книжки в книжку один и тот же адрес: «1012, шоссе де л’Аббе» – дорога, ведущая к аббатству, – и тот же номер телефона. Я ни разу не решился позвонить по этому номеру или написать на этот адрес. Думаю, боялся прямого ответа. Я так и не научился принимать реальность, привык к намекам и недомолвкам.
Конечно, улика может показаться незначительной – всего-навсего имя и адрес в записной книжке, но были и другие, много других. Так что, увидев в этом каталоге лагерей для подростков «остров Морнезе», я и не посмотрел на то, чем там занимаются, парусным спортом или макраме. Я лишь подумал: «Это знак судьбы, единственный шанс, который нельзя упустить, сейчас или никогда». Вечером вернулись Тьерри и Брижит, я сказал им, что согласен ехать в лагерь, что не буду все лето путаться у них под ногами и что сделал выбор.
Дядюшка с тетушкой были в восторге.
До тех пор, пока я не объявил, что выбрал лагерь с парусным спортом. Вот тут-то они заподозрили подвох – парусным спортом я не увлекался. И тогда я показал им картинку в каталоге и решительно – чуть ли не впервые за десять лет – произнес:
– Я хочу поехать туда!
Они смертельно побледнели.
– Думаешь, это удачный выбор? – спросил Тьерри.
Сказать больше означало нарушить табу.
В тот момент я едва не взорвался, меня бесило, что они никогда не упоминают моего отца. Но нет. Мы, все трое, знали, почему я хочу поехать на остров Морнезе. Мы, все трое, знали, почему им не хочется, чтобы я туда ехал. Мы разговаривали, зная, какие слова под запретом. Так зачем их произносить? Это был дурацкий, бредовый разговор, но по-другому повернуть его было невозможно.
– Хочу поехать туда, – уперся я.
Спокойно и твердо.
Брижит полистала каталог, попыталась соблазнить меня театром или ролевыми играми, тем, что могло бы меня увлечь, но оба быстро поняли, что я не уступлю. И Тьерри – а решал всегда именно он – в конце концов сдался.
– Ну, раз ему этого хочется…
Вот так и вышло, что в тот день, 16 августа 2000 года, я мерз на паруснике посреди Ла-Манша, а тупой тренер орал на меня. Ему не нравилось, что я боюсь откренивать.
И так уже десять дней!
Арман продолжал спать. Я опустил руку в воду, чтобы почувствовать холод.
Я точно для этого не создан. Вдали, за западе, возвышался маяк Кандальников, и на мгновение мне привиделись каторжники, которых насильно везли на работы на остров Морнезе. Отец Дюваль иногда рассказывал нам историю острова во время посиделок после ужина. Он был неплохим рассказчиком, но большинство подростков во время навязанных им уроков истории хихикали или приставали к девчонкам.
Веками маяк Кандальников был последним, что видели тысячи каторжников, навсегда покидая мир свободы.
Покинуть Морнезе.
Вернуться на Морнезе?
Собираясь вернуться на остров, я не забыл списать из тетушкиной записной книжки старый папин адрес – шоссе де л’Аббе, 1012. Не попасть на это ведущее к аббатству шоссе невозможно, оно тянется от Сент-Аргана, столицы острова, к причалу парома, в сторону континента, проходя мимо расположенного посреди острова аббатства Сент-Антуан. Можно сказать, оно идет вдоль берега моря. Единственная проблема – на этом шоссе не оказалось дома № 1012!
Нумерация здесь была по расстоянию, номер 1012 означал, что от порога дома до мэрии Сент-Аргана ровно 1012 метров. Но на расстоянии 1012 метров от мэрии находилось… поле! Маленькое кукурузное поле. Чуть ближе – старая ферма под номером 927. Чуть дальше – другая ферма, под номером 1225.
А между ними – ничего.
Ошибиться я не мог, по этой самой дороге мы каждый день ходили на занятия и обратно. Мне удалось поговорить с фермером, и он заверил меня, что между двумя фермами никогда никакого дома не было. Только поле. Шоссе заканчивалось на отметке 1521, слева было аббатство, справа – дикий, пустынный полуостров, где разместился наш лагерь.
Загадка.
Может быть, Брижит ошиблась, переписывая адрес? Может быть…
А что я, собственно, искал на острове Морнезе, зачем вернулся сюда? Не стану ходить вокруг да около, мне представлялось, что воспоминания так и посыплются на меня, что на месте я все так и увижу заново. Аббатство Сент-Антуан. Порт Сент-Аргана. Маяк Кандальников. Цитадель Мазарини. Рубиновая бухта. Дикий полуостров. Я думал, что шесть первых лет моей жизни пройдут у меня перед глазами, будто фильм.
Результат оказался нулевым – полное разочарование.
Воспоминаний у меня, можно считать, нет.
К тому, что было, ничего не прибавилось.
И я почти ничего не узнал на острове. Аббатство за эти годы окончательно разрушилось, туда лишь изредка забредали случайные туристы. Окрестности Сент-Аргана и порта были теперь хаотично застроены унылыми, безликими домами. Повсюду, откуда было видно море, то есть почти по всему острову, как грибы выросли кемпинги. Цитадель, маяк, Рубиновая бухта выглядели в точности как на фотографиях, которые я восемь лет тайком собирал дома, в Кормей-ан-Паризи. Обыкновенные виды, ничего особенного.






