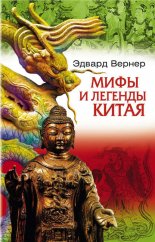Рулетка судьбы Чиж Антон
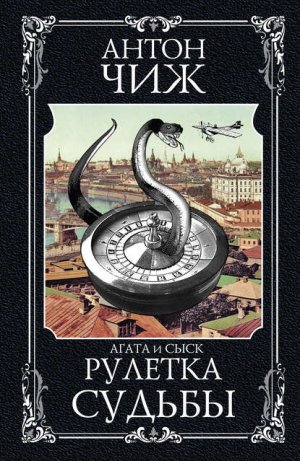
– Сидит в участке, – застенчиво сказал подпоручик. – Я его на всякий случай с городовым под арест отправил.
Похвалив столь полезное усердие, Пушкин обернулся к приставу.
– Игорь Львович, дозволите свидетеля в участке допросить или в сыскную вести?
Выбора не осталось. Уж лучше пусть под присмотром допрос будет. Еще наплетет почтальон неизвестно что… Пристав пригласил Пушкина в Арбатский дом. Без радушия, но уж как есть…
Воздух был чист и свеж, как ее мысли. Мадемуазель Бланш вышла из «Лоскутной» в чудесном настроении. Новые знакомые, милые девочки, казались беззащитными перед опасностями большого города. Надо не иметь сердца, чтобы не опекать их и не присмотреть за их шалостями на рулетке. Сердце у мадемуазель Бланш было. И в нем уже созрел план, который она видела во всех подробностях.
Для успеха плана нужно было устроить небольшой маскарад, чтобы произвести нужный эффект. Она выбирала, в каком образе предстать: убогой старушки или негритянки – или выдумать нечто совсем неожиданное. Ей хотелось, чтобы человек, ради которого затевается игра, по-настоящему удивился. Поменять платье и прическу – бесполезно. Он узнает в кокошнике или под маской. Нужно совсем измениться, чтобы шалость удалась. Бланш подумала: а не предстать ли в мужском обличье? Но тут возникала сложность: с ее комплекцией сыграть купца с бородой будет тяжело – столько подушек придется навесить, а без бороды, модным денди с усиками – наверняка будет раскрыта сразу.
И тут пришла замечательная мысль: переодеться в ямщика. Дескать, прислали по важному делу с санями. Грубый голос получится, а под бородой и зипуном узнать будет невозможно. Она уже представила, как объект розыгрыша садится, как она везет его на край Москвы, да хоть к «Яру», а там…
Там должно случиться веселое разоблачение и что-то хорошее, о чем она давно мечтала. Фантазия с ямщиком понравилась еще потому, что будет достойным ответом на одно происшествие, которое Бланш простила, но забыть не могла. Происшествие, которое устроил ей почти две недели назад этот самовлюбленный господин. Ради которого она так старается.
Бланш стала думать, у кого в Ямской слободе лучше одолжить сани и одежку, как ее больно дернули за локоть. Она резко повернулась, чтобы ответить, но девица успела отскочить. Поверх платья нацепила овчинную шубку с шапочкой, на которой болталась вуаль и развевалось чье-то яркое перо.
– Ты кто такая будешь? – спросила она. Губы в красном зло кривились.
Бланш смерила ее беспощадно-женским взглядом.
– А тебе какая нужда, курица крашеная?
Девица плюнула под ноги.
– Я Катя Гузова, меня все знают, а ты что за краля?
– Мадемуазель Бланш, – ответила она, зная, что это легко выяснить у портье.
Гузова недобро ухмыльнулась.
– Ишь ты… Мадемуазель… Бланш… Сдается мне, что не такая ты, как себя показываешь… Музыку знаешь?[21]
Бланш вдохнула холодный чистый воздух Тверской.
– Чтоб ноги твоей, Катя, в «Лоскутной» не было. Пока я здесь…
Такой наглости Гузова стерпеть не могла, уперла руки в боки, как перед дракой. Дракой женской, кровавой и беспощадной. Где летят перья, букли и слезы.
– И как ты мне запретишь, тщедушная?
– Еще раз увижу, что в ресторане промышляешь, лохань порву[22].
Тут уж Гузова заулыбалась.
– Вон как запела. Под мамзель наряжаешься, а, гляжу, нашенских кровей…
Бланш так резко шагнула к ней, что Гузова чуть не полетела в снег, попятившись.
– Ни ваша, ни наша, ничья, – тихо проговорила она. – Запомни это, Катя, и заруби на своем носике… Пока он цел.
Гузова невольно смахнула с носа морозную капельку.
– Жалостливая, что ль? – уже без вызова спросила она. – Дур этих пожалела, клеить[23] помешала…
– Совести у тебя, Катя, нет ни на грош. Они же дети, цыплята домашние. На кого руку подняла?
– У тебя-то совести, погляжу, целые закрома… Ладно, некогда мне с тобой лясы точить, такой сказ тебе будет: еще раз сунешься, запишут[24] тебя так, что охнуть не успеешь. Поняла, мамзель?
Девка наглая и самоуверенная. У нее наверняка есть дружок-покровитель с ножиком, у которого разговор короткий. Бланш это знала. Но помада на губах Кати горела так вызывающе, что удержаться было невозможно.
– Значит, будет другой сюрприз, – проговорила она.
И пока Гузова пыталась понять, чем ей угрожают, Бланш быстро шагнула к ней и нанесла короткий удар в известную точку под вздохом, от которого нет спасения. Был бы жулик[25], Кате пришел бы конец неминуемый. А так она не могла ни вздохнуть, ни охнуть, по-рыбьи таращила глаза и повалилась на руки Бланш. Удару этому, простому и коварному, обучил ее когда-то давно тихий господин, имя которого она старательно забыла. Но не забыла прием. В который раз выручил на крутых поворотах жизни.
Было неудобно и тяжело, но мадемуазель сумела свистнуть так, что прибежал городовой. Она что-то прошептала ему на ухо. После чего изумленный постовой принял у нее мягкое тело Кати и держал, пока Бланш не поймала извозчика. Городовой помог погрузить Гузову в пролетку и отправился вместе с ней, куда было сказано. Мужчинами, хоть в форме, хоть в статском, управлять Бланш умела.
Чувство глубокой обиды и бескрайней несправедливости переполняло Глинкина. Вместо того чтобы благодарность выразить, его, как преступника, под конвоем отправили в участок. И держат, словно арестанта. А писем половина адресов не дождалась. Думают, запил Глинкин, валяется в сугробе. Никто не поверит, что честный почтальон поплатился за щепетильность.
Обхватив сумку, Глинкин сидел на лавке для посетителей и даже отказался от чая, который ему по доброте душевной предложил городовой. Почтальон решил, что рта не откроет, пока пристав лично перед ним не извинится.
Стоило только помянуть пристава, как он явился. Не один, с моложавым господином, которого Глинкин не знал. Господин этот подхватил венский стул, поставил напротив, уселся и снял шляпу. Нефедьев держался позади него.
– Господин Глинкин, – сказал Пушкин строго официальным тоном. – От имени сыскной полиции Москвы приношу вам благодарность за проявленную расторопность. Если бы не ваши старания, тело бедной мадам Терновской еще долго бы не нашли… Благодарю вас…
Глинкину протянул руку. От такого уважения властей почтальон воспрянул духом и крепко пожал протянутую ладонь. Чем пристав был крайне недоволен: подобного либерального заигрывания с народом не одобрял. Народ должен знать, что власть – это кнут и кулак. А более народу знать не полагается. Так было, так есть и так будет. На том стоит полицейское государство. Крепко стоит, не своротишь…
– Позволите несколько вопросов по существу?
Теперь Глинкин готов был отвечать на любые вопросы, все одно график разноски безвозвратно погиб.
– Почему вы были уверены, что мадам Терновская дома?
– Как же иначе? – удивился почтальон. – Почитай, каждый день к ней захожу. В одно время по маршруту…
– Вчера заходили?
– Никак невозможно. Новый год, праздник, в почтово-телеграфной конторе день неприсутственный. Накопленную корреспонденцию сегодня разношу…
– Мадам Терновская много писем получает?
– Бывает, по три, а то и четыре за день. Да и сама корреспонденцию шлет. – Тут Глинкин осекся: не проболтаться бы про свой заработок.
Пушкин понял, что почтальон имеет небольшой интерес с этих писем: самый веский аргумент, чтобы поднять тревогу.
– Откуда она получала письма?
Почтальон уважительно присвистнул.
– Да уж множество мест. Из Лондона, из Парижа, даже из Нового Йорка в Америке. Также из европейских городов: Висбаден, Гамбург, Монте-Карло… Почитай, весь Всемирный почтовый союз. Таких марок навидался, доложу вам, редкая коллекция могла быть собрана…
– Сегодняшние письма при вас?
Глинкин выразительно похлопал по упитанному боку сумки.
– Здесь они, куда деться.
– Покажите…
Просьба была не так чтобы возможной. Глинкин покосился на пристава: дескать, как поступить, ваше благородие? В ответ получил равнодушную мину: делай как знаешь… Ничего не оставалось, как вынуть два письма. На одном адресом отправления значился Висбаден, на другом – княжество Монако. Глинкин уже протянул руку, чтобы получить их обратно, как вдруг Пушкин сорвал с конверта боковую полоску и вытряс содержимое.
Почтальон потерял дар речи. Да что же это за беззаконие… Что он теперь в конторе скажет, когда вернет недоставленные и вскрытые письма?
Пушкин раскрыл письмо. Все листки состояли из ровных столбцов цифр, написанных черными и красными чернилами. Пристав разглядывал их через плечо.
– Это что же такое, позвольте знать? – спросил он.
– К вам вопрос, господин Нефедьев, – ответил Пушкин, вскрывая другое письмо, пока Глинкин не опомнился; в нем оказались подобные записи. – Вы же с Анной Васильевной в дружеских отношениях. Доложите, чем она занималась, отчего получала из заграничных государств письма со столбиками цифр.
Тут пристава осенило, на что намекает чиновник сыска: уж не военный ли это шифр. Уж не шпионское ли послание?! Или революционерка? Выходит, проглядел у себя под носом такое, за что головы с погонами не сносить…
– Да нет, не может быть, чтоб Анна Васильевна… – начал он.
Пушкин сложил листки и с конвертами сунул Глинкину.
– Все может быть, господин пристав. Теория вероятности этого не отрицает…
– Господин Пушкин… Алексей Сергеевич… Вы уж не того, дорогой мой… – залепетал Нефедьев, вдруг обратившись в ягненка. Он понимал, что теперь жизнь его и карьера в руках этого непонятного человека. Говорят, он и подарков не берет, и не женат, и детей нет, из математиков в полицию пришел, к деньгам равнодушен, лентяй, каких свет не видывал. Как к такому подход найти, если, в самом деле, беда случилась…
– Мне надо вернуться в особняк, – сказал Пушкин, вставая и относя стул.
– Конечно-конечно! Вас проводить? – заторопился пристав.
Про Глинкина, так и сидевшего с ошметками писем, совершенно забыли.
Почтальон пребывал в глухом недоумении. Как жить дальше, если у него на глазах полиция совершила святотатство: вскрыла корреспонденцию? Хотя ведь взрослый мужчина, должен знать, что в обеих столицах на почтамтах никуда не делись «черные кабинеты», в которых бережно вскрывают над паром и читают любые письма, кажущиеся подозрительными. Особенно из заграницы. Но такое уж свойство человека: одно дело слышать слухи, другое – увидеть собственными глазами.
Пушкин еще не успел нацепить шляпу, а в участок вошел моложавый господин, одетый так, чтобы всем было ясно: мода для него не пустой звук, а смысл жизни. Невысокого роста, щуплый, с тончайшими усиками, походил он на начинающего жиголо. Брезгливо оглядев приемную часть, юноша спросил, где может видеть пристава. Нефедьев был тут как тут.
– Что вам угодно? – спросил вполне вежливо. – С кем имею честь?
– Позвольте представиться, Фудель Алексей Иванович, – сказал посетитель, снимая с поклоном наимоднейшую шляпу. – Племянник госпожи Терновской к вашим услугам…
Тут уж Пушкин снял шляпу, передумав уходить.
– Чем могу служить? – проговорил Нефедьев, поглядывая на чиновника сыска: дескать, правильно ли себя ведет?
– Дело деликатного характера, – ответил Фудель.
– Тогда прошу ко мне. – И пристав гостеприимно указал на лестницу.
Кабинет пристава 1-го участка Арбатской части, как и тридцать девять кабинетов других приставов Москвы, был обставлен под одну гребенку. Включая портреты царствующих особ над креслом у рабочего стола. Фуделю здесь явно не понравилось. А особенно не понравилось, что за ними увязался некто в черном.
– Позволю напомнить: дело деликатное, – сказал он.
– Это господин Пушкин, наш добрый друг из сыскной полиции, – ласково сообщил пристав, не зная, может ли теперь сесть в свое кресло. – От него никаких секретов, а только помощь и участие.
Фудель пожал плечиками: раз вам так угодно…
– Так что стряслось-то? – напомнил Нефедьев.
Бросив шляпу на приставной столик, Фудель вальяжно уселся.
– Дело в том, господа, что я пришел просить защиты и охраны для моей тетушки Анны Васильевны.
– Что с ней случилось? – опережая пристава, спросил Пушкин.
– Представьте, в новогоднюю ночь выиграла невероятную сумму!
– Где же она выиграла? – не унимался Пушкин.
– Здесь, на Спиридоновской, на рулетке, – ответил Фудель таким тоном, будто не знать о рулетке было невозможно.
– Насколько велика сумма выигрыша?
– Сто… двадцать… тысяч! – Каждое слово звучало, словно удар колокола.
У пристава перехватило дыхание. Это не сумма, а целое состояние. И детям, и внукам хватит…
– Выиграла на рулетке? – спросил Пушкин, будто не мог поверить в такое чудо.
Фудель понимал растерянность полиции.
– Все произошло на моих глазах, – заверил он.
– Мадам Терновская часто играет?
– Да что вы, и карт в руки не берет! На рулетке так вообще впервые оказалась… И такая удача, не зря говорят: новичкам везет… Тем, кто первый раз к столу подходит…
– Невероятная удача, – проговорил Нефедьев и получил от Пушкина строгий взгляд. Сейчас не время для эмоций.
– Терновская получила с рулетки всю сумму и принесла домой? – спросил он.
Фудель усмехнулся:
– Куда еще? Не в сугробе же закопала?!
Вот теперь Пушкин обратил на пристава по-настоящему вопрошающий взгляд. Игорь Львович прекрасно понял, о чем он. И мелко-мелко затряс головой: дескать, никаких денег в доме не находили. Думать нельзя о подобном…
– Сто двадцать тысяч в купюрах сколько места занимают? – спросил Пушкин.
Племянник развел руки, будто показывал размер улова.
– Вот такая, не меньше, куча ассигнаций… Анна Васильевна их в ридикюль засунула. У нее такой древний, слон поместится…
Старые московские барыни не признавали новомодных сумочек, в которых разве мышь можно засунуть. Они носили настоящие, размером с небольшое колесо. Солидной даме – достойный ридикюль.
– От Спиридоновской до Большой Молчановки ваша тетушка шла пешком?
– Только вообразите! Такая упрямица.
– И вы не проводили ее?
– Отказалась от провожатых… Но я, конечно, следовал за ней, сколько мог. Видел издалека, что дошла благополучно. И теперь прошу полицию взять дом под охрану. Чего доброго, кто-нибудь покусится…
– Кто покусится? – строго спросил Пушкин.
Племянник немного растерялся.
– Надеюсь, что никто, фигура речи, так сказать… Так я могу рассчитывать на охрану?
Пушкин как раз собирался задать очень важные вопросы, пока юноша не знает или делает вид, что не знает, о случившемся. Пристава дернуло за язык.
– Анна Васильевна умерла ночью, – сказал он, не уточнив, какой именно.
Известие Фудель воспринял слишком спокойно для любящего племянника.
– Значит, оглашение завещания будет завтра, – пробормотал он и встал. – Какое трагическое известие… Надо сообщить родственникам…
Как будто теперь судьба ста двадцати тысяч его перестала волновать.
Осталось узнать, где Фудель обитает. Племянник и будущий наследник проживал в Хлебном переулке рядом с усадьбой Забелиных. В двух шагах от Большой Молчановки и дома Терновской. Пушкин попросил заглянуть к нему в сыскную, чтобы ответить на формальные вопросы. Фудель обещал быть непременно, элегантно раскланялся и исчез.
– Ох, дела… – только и смог проговорить Нефедьев. – Ну Анна Васильевна и заварила кашу напоследок…
Пушкину хотелось знать, что связывало пристава с погибшей, теперь в этом сомнений не осталось. Но сейчас важнее было другое.
– Насколько тщательно осмотрели дом Терновской?
Нефедьев вынужден был признать, что никак не осматривали. Полагали ведь, что обычная смерть. Пушкин напомнил, что теперь вскрытие должно быть проведено безотлагательно, и покинул участок. Игорь Львович не посмел увязаться с ним. Хотя оказаться в доме Анны Васильевны ему захотелось как никогда…
В глазах стоял мутный туман. Катя Гузова только пыталась понять, куда ее везут, только хотела открыть рот, чтобы закричать и обложить как следует, только маленько оживала, как получала незаметный тычок и снова проваливалась в омут. Городовой замечал быстрое движение мадемуазель, но делал вид, что озирается по сторонам. Когда пролетка встала у полицейского дома в Гнездниковском, Катя свешивалась с рук городового тестом: мягка, молчалива и податлива. Так что пришлось ее маленько встряхнуть. Стоять на своих ногах у Кати не получалось.
– Куда теперь? – спросил городовой, держа ее под мышкой.
– На третий этаж, в сыск, – последовала команда.
Мадемуазель открыла перед ним дверь. Городовой поволок нелегкую ношу.
…Михаил Аркадьевич вполне обрел себя. Шустовский – лучше любого лекарства, творил чудеса. Начальник сыска вышел в приемную часть безо всякой цели, чтобы не оставаться в кабинете. Где шустовский нашептывал соблазны. Чему поддаваться было нельзя: как известно, излишнее лекарство превращается в яд. К тому же Эфенбах одержал над подчиненными блестящую победу, настояв на своем при выборе, в каком именно игорном доме будут искоренять карточный порок. Как раз там, где он никогда не играл. Настроение его было безоблачным, он уже собрался отправиться на обед. Немного раньше, чем полагалось, но ведь еще Святки… И тут в приемную часть с пыхтением и шумом ввалился городовой, неся на руках нечто обернутое в мех, как показалось Эфенбаху.
– Это куда посмели, что такое? – в изумлении проговорил он. И был прав. Далеко не каждый день городовые имеют наглость притаскивать в сыск с улицы мертвые тела, как к себе в участок. Вернее сказать: никогда такого не бывало…
– Ваш бродь, так это вот оне приказали, – ответил городовой, тяжело дыша и мотая головой влево.
Из-за его спины павой выплыла дама, приняла скульп-турную позу и красиво вознесла руку.
– В Москве по праздникам без подарков не ходят, так я с подарком!
В первое мгновение Эфенбах ее не узнал, так она изменилась. Зато во втором счастливо всплеснул руками:
– Птичка-небыличка наша сладкопевчая! Вернулась! Баронесса! Наша! Раздражайшая! Фон Шталь! Ай, сразила в самое дыхание! Ох, мороз по сердцу! – заливался он, страстно желая сжать в объятиях прелестное создание. Но не мог себе этого позволить. – Да вас же куда там узнать!
В самом деле, с последней встречи баронесса преобразилась: она стала яркой брюнеткой. Черной, как крыло ворона. Как ночь… Как бездонное озеро… Ну и так далее. Ничто так не меняет женщину, как тщательно подобранная черная краска.
– И я рада вас видеть, бесценный Михаил Аркадьевич! – ответила фон Шталь, посылая поцелуй. Воздушный, разумеется. – И вас, господа, очень рада найти в здравии! Примите мои поздравления с праздниками!
Лелюхин с Актаевым встали из-за столов и тоже улыбались нежданной гостье. Только Кирьяков сделал вид, что слишком занят бумагами, чтобы отвлекаться на пустяки.
– А где подарок? – спросил Эфенбах, невольно облизнувшись.
Ему указали на тело без чувств в руках городового. Катя сочла за лучшее притвориться. Так оно вернее будет.
– Гузова Катерина, воровка, промышляет в ресторане «Лоскутной», срезала ридикюль у невинной барышни… Извольте получить и оформить… Мой подарок!
Подарки Эфенбах получать любил. Но совсем не такие.
– Заявление барышня окраденная написала? – все же улыбаясь, спросил он.
– Нет, ридикюль ей вернула.
Подарок для сыска бесполезен – дело не завести.
Городовой вконец устал: девица с шубейкой имела вес немалый.
– Куда ее, ваш бродь?
Эфенбах махнул в угол, отгороженный прутьями. Нельзя же обидеть баронессу, отпустив при ней. Городовой поволок Катю, которая продолжала играть обморок.
Фон Шталь оглядела приемное отделение.
– А где господин Пушкин? – спросила она, старательно скрывая интерес.
– Беда с ним, – трагическим тоном ответил Михаил Аркадьевич, вдыхая аромат женщины.
– Что случилось?! – чуть не вскрикнула баронесса.
– Что ни день – так спит! Служба идет, а он спит, дремучее создание! Никакого с ним понимательного процесса не сладить. Мал пескарь, да пенек не объедешь!
– Совершенно с вами согласна, прелестный Михаил Аркадьевич, – сказала она с видимым облегчением. – Возмутительное поведение. Месье Пушкин совершенно отбился от рук.
– Еще как отбился! Осколков не собрать!
– Ну ничего. – Баронесса надела варежки с меховой опушкой, как доктор резиновые перчатки. – Придется ему ответить за ваши страдания…
– Уже уходите? – спросил расстроенный Эфенбах, уже собиравшийся пригласить даму отобедать с ним.
– Я обязательно вернусь, славный Михаил Аркадьевич, у меня имеются кое-какие интересные сведения… Кстати, где теперь месье Пушкин?
Эфенбах не мог вспомнить, куда делся его чиновник. Пришлось Лелюхину сообщить, что Пушкина вызвали в Арбатскую часть на Большую Молчановку. Баронесса знала эту улицу. Наговорив ворох комплиментов уму и талантам Эфенбаха и мило помахав ручкой чиновникам, она исчезла, как видение. Оставив за собой тонкий аромат духов Брокар: то ли «Царский виолет», то ли «Конец века». Нечто знакомое и волнующее, как тайный поцелуй.
Романтические мечтания разбил Кирьяков. Он спросил, что делать с задержанной: оформлять или отпускать. Эфенбах поморщился: задерживать не за что. Полицейского фотографа в сыске нет, а правильно делать бертильонаж[26] некому. Завести карточку, описать приметы и вытолкать в шею воровку Катю Гузову, всего и делов. Ну и припугнуть, конечно, чтоб в «Лоскутную» больше не смела нос сунуть. Место приличное, Эфенбах порой там обедал. Чиновник отправился исполнять поручение.
А Михаил Аркадьевич мечтательно вздохнул.
– Ах, стрекоза-дереза, чернявка-плутовка! – пробормотал он.
А вот что за мечты вились в его голове, знать не следует.
Из ворот выехала санитарная карета, увозившая тело. Дворник проводил ее с непокрытой головой, утерев слезу шапкой. Все, кончились подарки на праздники, нету доброй Анны Васильевны. Господина из сыскной полиции – Прокопий уже знал, кто это, – проводил горестным вздохом. Пушкин не стал спрашивать дворника, видел ли он кого-то выходящим из дома Терновской ночью первого января. Бесполезная трата времени: отмечание Нового года до сих пор не улетучилось из дыхания Прокопия.
В гостиной мало что изменилось. За исключением хозяйки, которая покинула свой дом навсегда. Трашантый закончил новый протокол и доложил, что обыскал где только можно: ключей нет. А потому распорядился, чтобы дворник приладил на входной двери навесной замок, раз врезной сломан окончательно.
– Ридикюль старой моды попадался?
Такой вещи Трашантому не встретилось.
Пушкин ждал, что помощник пристава спросит разрешения уйти. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Через дорогу виднелись высокие окна старинного особняка. И будто нарочно глядели прямиком в окна Терновской.
– Кто живет в доме напротив?
Оказалось, что пожилая дама по фамилии Медгурст столь преклонного возраста, что не покидает кресло-каталку. Особняк ей не принадлежит, только снимает, о чем в полицейской книге участка сделана запись регистрации. Без регистрации ни один житель не имеет права находиться в Москве. Что, впрочем, касается добропорядочных обывателей. Обитатели Хитровки и Сухаревки не то что регистрации, документов не имеют. И ничего, живут, пока не сопьются или не получат финкой в бок.
– Как-то зашел к ней для порядка, так она слепая и глухая, – добавил Трашантый, подчеркивая свою старательность по службе.
– Одна живет?
– При ней горничная или экономка, уж не знаю, невзрачная такая…
– Никодим Михеевич, если закончили, не смею задерживать, – сказал Пушкин. Чтобы поскорее остаться без лишних глаз. Которые все доложат приставу.
С большим облегчением Трашантый откланялся.
Пушкин притворил входную дверь и вернулся в гостиную. Рядом располагалась спальня, сразу за ней помещение, в котором стоял шкаф. Размеры резного чудовища черного дуба поражали. Казалось, не шкаф внесли в дом, а дом был построен вокруг него. План дома был привычным: без коридора в линию шести окон. Только у кухни окно выходило в сад. А вот лестница на мезонин была разобрана, проход заколочен. Вторым этажом Терновская не пользовалась. С ее комплекцией подниматься тяжело. Да и зачем одинокой даме второй этаж…
Тот, кто хочет спрятать нечто ценное, находит в доме потаенное место. Хозяин уверен, что никто не догадается, куда засунул драгоценности: за печную задвижку, или под матрац, или в старую шубу в шкафу. Зато воры и полиция знали, как похож выбор секретных мест. Особенно если прячут женщины. Не надо вскрывать половицы, не надо простукивать стены, не надо лезть на чердак. У Терновской, если она решила что-то спрятать, не было времени. Убийца пришел почти сразу: она не успела даже платье сменить на домашнее. Да и ридикюль не везде влезет.
Пушкин начал с кухни. Проверил большие кастрюли, заглянул в шкафчики с запасами и жестяные банки для круп. Не поленился сунуться в остывшую кухонную печь, перемазав руки в саже. Открыл бочку для квашения и порылся в мешке с горохом. Ридикюля не было. Не нашлось его в исполинском шкафу, ни на вешалках, ни среди склада тряпья. Тщательный досмотр спальни (под кроватью, под матрацами и подушками, в ящиках туалетного столика) не дал ничего, кроме пыли.
Он вернулся в гостиную. Проверив занавески, отодвинув кресла и обыскав буфет, Пушкин много узнал о хозяйских привычках Терновской. Даже ознакомился с памятными фотографиями. Но и только. Для очистки совести и руководствуясь привычкой доводить розыск до конца, он поискал в прихожей. Хотя заранее знал результат. Последнее, что вызывало интерес – рабочий стол с этажеркой.
На узком конторском стуле сидеть было крайне неудобно. Пушкин стал аккуратно, чтобы не испортить порядок, вынимать бумаги. Одни за другими.
Интересы мадам Терновской были не сказать чтобы обычные для женщины ее возраста. Анна Васильевна работала со сведениями… по биржевым торгам. В бумагах перечислялись котировки акций с лондонской, парижской, нью-йоркской и даже берлинской биржи. Не говоря уже о петербургской. Судя по записям, Терновская отслеживала графики курсов, как настоящий биржевой маклер. Бегло просмотрев бумаги почти во всех секциях этажерки, Пушкин сделал вывод: Анна Васильевна играла на бирже. И, вероятно, зарабатывала. Но сколько бы он ни искал, не попалось ни одного листка с черными и красными цифрами, какие были в недоставленных письмах. Зато среди бумаг, воткнутая будто случайно, торчала записка. А в ней всего одна строчка, написанная от руки:
«Обещаю, ты получишь то, на что так давно имеешь право. Твоя П.».
Конверта для записки не оказалось. Как и даты, когда была прислана. Пользуясь тем, что некому осудить дурной поступок, Пушкин сунул записку в черный блокнот. И затянул резинкой.
Оставался вопрос, где Терновская хранила купленные акции. Сохранных расписок от банков не попадалось. Неужели еще раз обшаривать дом? Он посмотрел на пол. На паркете виднелась еле заметная полоска, как будто столик часто перемещали. Пушкин встал и немного толкнул столешницу. Столик послушно сдвинулся. В ножках были небольшие колесики. Чтобы с удобством перемещать по конторе. Оставалось толкнуть сильнее.
Этажерка отъехала. За ней в стене открылась ниша, почти целиком занятая сейфом. Старая модель, какую поставили из Германии в конце 50-х годов. Даже нельзя сравнивать с современными английскими или американскими новинками. Они как крепость для денег. Старичок-немец казался скорее ненадежным бастионом. Каким бы древним сейф ни был, но сталь прочна и запросто не сдастся. Терновская могла успеть сунуть ридикюль в него. Оставалось придумать, как это проверить. Пушкин знал один коварный способ. Вернее, он знал странную привычку хозяев сейфов. Просунув руку в узкий проем между сталью и стеной, пошарил и вытащил ключ, висевший на крохотном гвоздике. Ключ мягко вошел в замочную скважину. После трех щелчков-поворотов дверца открылась.
Сейф хранил процентные бумаги. Сталелитейных заводов, бакинских нефтяных промыслов, пороховых фабрик Нобеля и торговых домов. Самые ходовые и выгодные. На глаз трудно оценить, но акции тянули не меньше чем на полмиллиона. Анна Васильевна оказалась чрезвычайно богатой дамой. Мало кто, так успешно вкладываясь в акции, жил столь скромно. Ее выигрыш в рулетку не казался чем-то невероятным. На акциях она заработала куда больше.
В глубине несгораемого ящика лежали пачки сторублевых ассигнаций. Пересчитывать купюры не имело смысла. Судя по толщине – не меньше тридцати тысяч рублей. А то и сорок тысяч. Возник неизбежный вопрос: почему огромное состояние на месте? Или убийца ничего не знал про них? Если Терновская не побоялась впустить его ночью в свой дом, вероятно, человек был ей знаком.
Вернув акции в сейф, Пушкин запер дверцу, засунул ключ в щель и установил рабочий столик на прежнее место. Он вышел в прихожую и толкнул дверь.
Перед крыльцом стояла барышня в короткой кацавейке с шапочкой-пирожком. Под мышкой зажат книжный том. Похожа на курсистку или приходящую учительницу. На Пушкина она взглянула с нескрываемым изумлением.
– Вы кто такой? Что вы тут делаете?
– Сыскная полиция… – только успел сказать он.
Барышня выронила книжку и бросилась бежать. Стремительному бегу не мешала длинная юбка.
Как ни странно, но тетушка Пушкина тоже была когда-то молодой. А потому не питала иллюзий в отношении племянника и особенно дочери Тимашева. Молодая барышня, вернувшись из заграницы, сбросив ярмо дядиного присмотра, попадает в Москву. Конечно, она мечтает получить от жизни все, изведать как можно больше удовольствий, поддаться соблазнам и просто весело провести время. Впереди ждет отцовская воля, от которой некуда деться. Мадам Львова знала, что не сможет, да и не имеет права держать Настасью в узде. Для этого родные тетки есть. Но не попробовать было нельзя. Если дочь наследовала характер матери, тут уж держись. Она еще не забыла, что вытворяла Амалия в возрасте дочери.
Дорогой племянник в качестве уздечки мало годился. Ленив, замкнут, вскружить ему голову и закружить так, что про себя забудет, бойкой барышне проще простого. Тетушка была невысокого мнения о стойкости Пушкина. Впрочем, как и всех молодых мужчин. Надо признать, что у нее имелся тайный умысел. Настасья – невеста достойная и богатая, что Пушкину совсем не будет лишним. Такую свадебку тетушка не прочь была бы обстряпать. Но и насильно женить Пушкина не собиралась. Случится – она с радостью будет нянчить его деток. А нет, так и не велика потеря. Москва невестами полна. В общем, тетушка решила нанести упреждающий визит.
Узнав у портье, в каком номере остановились мадемуазель Тимашева с компаньонкой, тетушка поднялась на второй этаж и постучала в дверь с цифрой «21». Она услышала смех, визг и возню, какую устраивают дети, когда в детскую стучит строгая воспитательница и надо спрятать следы шалости.
– Кто там? – наконец раздался девичий голосок.
– Мадам Львова. Откройте, моя милая, – как могла строго сказала тетушка, хотя ей хотелось совсем иного.
Потребовались еще возня и шушуканье, прежде чем дверь открылась. На пороге стояла Настасья, раскрасневшаяся, со сбитой прической. В глазках прыгали лукавые искорки. Девушка была свежа и хороша. Нельзя не пожелать такую невесту любимому племяннику.
Хоть горячая кровь молодости привлекала, тетушка взяла строгий тон.
– Что вы, моя милая, смотрите, будто не узнаете?
Настасья улыбнулась так чисто и беспечно, что не было сил на нее сердиться.
– Что вы, мадам Львова, как можно!
– Так пригласи уж войти… – сказала тетушка и, не ожидая формальностей, вошла сама.