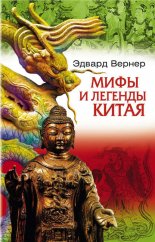Рулетка судьбы Чиж Антон
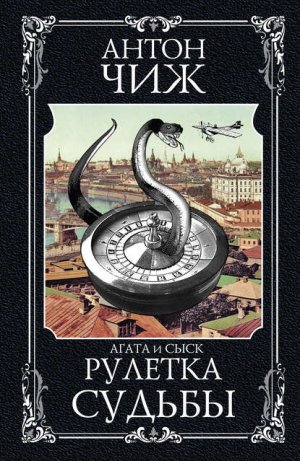
– В ночь на первое января заглянула, чтобы развеять скуку и поставить по маленькой, – продолжила Агата, наблюдая за каменным лицом Пушкина.
– Играет в азартные игры или глупец, или шулер.
– Одна дама, судя по виду – из московских купчих, – продолжила она, – взяла и в четыре удара обыграла рулетку, получив невероятную, фантастическую сумму…
Был выбор: заявить, что сыскной полиции все известно, или выслушать неожиданного свидетеля. Грош цена ее показаниям, конечно. Но все же…
– Неужели тысячу рублей? – спросил Пушкин.
Кажется, наживку заглотил. Агата была довольна.
– Берите выше!
– Что, две тысячи?
– Холодно, холодно! – она невольно вздрогнула. – Что подскажет ваша разнузданная фантазия?
– Неужели десять тысяч? – старательно изумляясь, спросил он.
Агата счастливо засмеялась.
– Ах, Пушкин, у вас фантазии чиновника. Мадам выиграла сто двадцать тысяч!
Требовалась пауза, чтобы пережить такой шок. Пушкин помолчал.
– Ей заплатили всю сумму?
– Крупье выгреб банк…
– Бывают чудеса в Москве. Какое дело сыскной полиции до такого везения?
– Ее собираются убить, – торжествуя, закончила Агата.
– Такое заявление требует серьезного обоснования, – сказал Пушкин. – Какие у вас факты?
Она поморщилась.
– У меня чутье, которое никогда не подводит. И сердце. Я знаю и вижу людей. Особенно мужчин. Кажется, я это доказала… В прошлом, разумеется…
– Будьте добры, факты…
– Около нее крутилось двое мужчин. Один не старше двадцати пяти, такой мерзкий, как зазнавшийся приказчик. Другой солидный и вальяжный, далеко за пятьдесят. Сначала умоляли даму не ставить деньги, а потом чуть не вырывали у нее из рук купюры. Правда, она отогнала их, как мошек… Дама строгая и суровая, сразу видно…
– Это все факты?
Агата не могла обижаться.
– Нет, не все, господин, сыщик, – ответила она с вызовом. – Рядом с ней крутилась девица, похожая на селедку. Всё советы давала, возмущалась, как делает ставки, по блокнотику что-то проверяла. А когда та выиграла, селедка чуть не лопнула от возмущения. Знаете, кто она?
Пушкин уже знал. Надо было позволить Агате нанести победный удар. Что она и сделала:
– Та самая девица, с виду курсистка, которую сначала гнали по сугробам, потом помогли встать и отвели в дом. Когда я мерзла под деревом…
В наблюдательности Агате нельзя было отказать. Особенно в навешивании ярлыков. Нельзя отрицать, что в барышне Рузо есть что-то от холодной селедки.
– Итог: двое мужчин и барышня, – сказал Пушкин. – В чем ваше обвинение?
– Уверена: кто-то из них намерен прикончить родственницу и забрать выигрыш… – ответила Агата. – Такие жадные, алчные и скользкие типы.
– Откуда известно, что они родственники?
– Юный прыщ называл ее тетушкой, а старый ловелас Аннушкой. Этого малого?
– Для обвинения в убийстве – да.
Наблюдения кончились. Агата старательно искала, что бы еще припомнить.
– Помяните мое слово: они ее прикончат, – сказала она.
– Видели, как эти господа сопровождали даму с рулетки?
– Нет, я ушла немного раньше… Но это ничего не меняет!
Формально Пушкин не имел права раскрывать никакие подробности посторонней. Но в данном случае Агата Керн была уже не посторонней, а свидетелем. Что меняло дело.
– Терновская Анна Васильевна скончалась в ту же ночь на первое января. У вас есть еще что-то, что можете сообщить по данному обстоятельству?
Когда смысл сказанного дошел в полной мере, Агата с трудом удержалась, чтоб не вскочить и не влепить наглому обманщику пощечину. Она перед ним карты выкладывает, можно сказать – душу наизнанку выворачивает, а он, оказывается, уже все знал? Как относиться после такого к мужчинам?..
Но ей хватило благоразумия.
– Убита, – проговорила Агата, как будто знала. – Какая мерзость: убивать женщину.
– А мужчину? – спросил Пушкин.
– Мужчины играют со смертью, мужчины убивают, что вас жалеть… А убийство женщины… Это противно человеческой натуре… Женщин убивать нельзя… – она хлопнула по столу так, что официант направился принять заказ. – Я выведу убийцу на чистую воду… Моя личная месть негодяям…
– Госпожа Керн… Агата, – поправился Пушкин. – Напоминаю, что никакое частное лицо не должно заниматься полицейским розыском. Запрещено законом. В случае нарушения – арест.
– Помогать сыскной полиции закон не запрещает?
Пушкин пробурчал нечто невнятное.
– Только помощь, ничего, кроме помощи, – сказала Агата. – Как помогает свидетель. Я так люблю давать показания полиции… Снимете с меня… показания? Вы же примете мою помощь? Это же совсем не то, что выбрасывать подарки от воровки… Кстати, покажите ваш блокнот.
– Зачем?
– Хочу взглянуть на вашу хваленую формулу сыска. Наверняка уже составили?
Раз мадемуазель настаивает…
Вынув блокнот, Пушкин стянул резинку и показал чистый лист. Агата склонила голову к плечу, будто хотела заглянуть между страницами.
– У вас же были рисунки… Мои рисунки… Где они?
Какая наблюдательность. Пушкин спрятал блокнот.
– Ненужные листы удаляю, – сказал он.
– Разумеется, зачем их держать, – согласилась Агата с тихой улыбкой.
Нельзя больше испытывать судьбу. По тому, как она держит край сервировочной тарелки, Пушкин догадывался, что блюдо сейчас прилетит ему в голову. А за ним и все, что есть на столе. Посуду ресторана следовало поберечь. Он резво встал.
– Прошу не предпринимать без моего ведома никаких действий, – и, поклонившись, быстро пошел к выходу.
Тарелка все еще могла ударить ему в спину. Пушкину повезло. Он перешел в холл гостиницы и направился к портье. Можно держать пари: Агата будет следить. Ставка настолько верная, что выигрыш гарантирован. Жаль, никто не собирался ставить.
Служба городового не так чтобы легка. Тяжкая это служба, безмерно тяжкая. На посту по двенадцать часов в любую погоду. Проживание в казарме, жалованье крохотное, да еще сам покупай сапоги и обмундирование. А коли не хочешь, так предоставят и сапоги, и шинель, да только вычтут из жалованья. Хорошо, если в квартале лавки. Купцы городовых балуют – кто съестное преподнесет, а кто отрез ткани. Чем торгуют, тем и делятся. Чтобы ночью присматривали, а если какое безобразие в лавке случится, пришли с подмогой. Городовые, конечно, и так порядок блюсти обязаны. Но ведь когда городовой из твоей лавки сыт – куда надежнее.
Хуже, когда в квартале жилые дома. Тут уж прибыток куда скромнее. А в Арбатской части и подавно. Домишки небольшие, живут которым поколением. Так что если на Рождество или Пасху поднесут рубль, на том спасибо. Большая Молчановка была такой вот невыгодной улицей.
Городовой Оборин топтался на морозе, и деваться ему было некуда. Разве что из конца в конец улицу пройти. Приказ чиновника сыска помнил и поглядывал за домом Терновской. Вот только никто в него не совался. Дворник Прокопий как замок навесил, так и отправился в сторожку греться. Звал с собой, да городовой не рискнул уйти с поста. В спокойный день, конечно, позволительно, а когда происшествие свежо, лучше быть на страже.
Быстро стемнело. Фонарей на Большой Молчановке было два, да и те газовые. Света от них, как от керосиновой лампы. Улица растворилась в черноте. Только сугробы белеют да окна светятся. Теплом манят. Со звонницы долетели удары колокола. Шесть часов… До конца смены еще стоять и стоять.
По другой стороне тротуара быстро шел господин. В темноте Оборин не мог толком разобрать, что за человек, но по манере держаться сразу видно: непростой. Важной птицей себя держит, тросточкой помахивает. Городовой стал посматривать. Господин вел себя немного странно: часто оглядывался, будто опасался погони. У ворот Терновской задержался, вроде собираясь зайти, затем двинулся к окнам, приник к третьему, стал выглядывать. Но не постучался, а направился назад и скрылся за каменным проемом.
Долго не размышляя, Оборин перешел улицу и вошел во двор дома. Господин стоял на крылечке и старался открыть навесной замок, тихо ругаясь. В темноте было заметно, как он торопится.
Городовой внушительно кашлянул. Господин вздрогнул и посмотрел, откуда звук. Оборин легонько отдал честь.
– Прощения просим, – сказал он. – Извольте сойти и следовать за мной в участок.
Бросив замок и торопливо сунув ключ в карман, господин принял самую независимую, если не сказать возвышенную позу. Что на крылечке получалось особенно удачно.
– В чем дело? – строго спросил он.
– Приказано доставлять в участок…
– С какой стати?
– Там объяснят, прошу следовать. – и Оборин сделал шаг вперед.
На крыльце деваться было некуда. Господин вжался в дверь.
– Что вы себе позволяете? Что за полицейский произвол? Да вы знаете, с кем имеете дело? Я с самим главой городской управы Александровым знаком! Это что еще за глупости!
Угроз и стращаний городовой наслушался достаточно. Каждая шишка норовит над ним свою власть показать. Оборин выразительно поправил шашку на боку.
– Извольте выполнять приказание полиции, – с явной угрозой сказал он.
Господин помахал палочкой.
– Ишь какой! Беззаконие! Хамство! Наглость! Я не позволю…
Вопли его звучали беспомощно.
– Подобру прошу, господин, идти в участок… Будьте разумны.
Вместо этого господин повел себя крайне неразумно.
– Помогите! Полиция! – вдруг закричал тонким го-лоском.
С Оборина было достаточно. Расстегнув кобуру, он достал револьвер и приподнял, насколько позволял шнурок, привязанный к рукоятке оружия и обвивавший шею городового. Стрелять он, конечно, не собирался, незачем поднимать переполох в тихом квартале. Пугнуть как следует… Угроза подействовала. Господин смолк, прижимая к груди тросточку.
– Прошу в участок, – сказал Оборин, указывая стволом на ворота.
Повторять не пришлось. Господин покорно сошел с крыльца и последовал на улицу. И даже не делал попыток сбежать. Так и шел под дулом до Арбатского дома.
Оборин был доволен, что ловко справился. Легонько толкнув в спину, завел пойманного в приемное отделение.
Поручик Трашантый как раз потчевал себя вечерним чаем. Явление городового с господином приличного, а не преступного вида не входило в его планы на вечер.
– Это что еще такое? – спросил поручик с откровенным раздражением.
– Выполнил указание сыскной полиции, – сказал Оборин, пряча револьвер. – Задерживать всех, кто явится в дом мадам Терновской.
Тут Трашантый вспомнил, что сам пристав требовал от каждого городового, кто дежурит на Большой Молчановке, полной бдительности. И сразу сменил тон.
– Молодец, Оборин, примерно службу несешь! Продолжай в том же духе…
Городовой довольно козырнул.
– Рады стараться, ваш бродь… Этого в загон или в сибирку?[27]
Трашантый присмотрелся к задержанному: на вид солидный, состоятельный господин. Наверняка невиновен. Будет потом жалобы строчить, одна головная боль. Пусть тот разбирается, кому это нужно. А участок не вмешивает.
– Вот что, Оборин… Веди-ка задержанного прямиком в сыск.
Новость была не из приятных. Хоть Малый Гнездниковский недалеко, но тащиться со скандальным субъектом по городу… Опять под дулом вести?
– Да как же… – только начал городовой.
– Не рассуждай, а выполняй! – приказал Трашантый. – Веди в сыск!
– Ужас! Я буду жаловаться! Я с прокурором в карты играю!
Под эти и прочие грозные крики Оборин вывел пойманного из участка. Правда, обошлось без револьвера. А Трашантый убедился, что поступил правильно: устроит господин с тросточкой неприятности. Такой может, одно пальто рублей сто стоит.
Он вернулся к чаю. Но этим вечером не суждено ему было насладиться покоем. В приемном отделении появилась девушка в скромном пальтишке, замотанная в платок. Трашантый узнал ее: экономка старухи, что снимает особняк, Агапой, кажется, зовут…
– Что вам угодно, милая? – довольно ласково спросил он, чувствуя превосходство.
– Прощения прошу, господин полицейский, не случилось ли чего в доме мадам Терновской? – говорила она взволнованно.
Приятно порою быть полицейским при чине. Трашантый принял горделивую позу.
– Что за печаль, Агапушка?
– Барыня моя спрашивает, волнуется, в окно видела: городовые к ней ходили и сам господин пристав наведался.
– Умерла Анна Васильевна, – сказал поручик, подкручивая усы.
Девушка заохала и прикрыла ладошкой рот.
– Горе-то какое… Когда же случилось?
– В ночь на Новый год…
– Значит, права барыня оказалась, – сказала она печально.
Трашантый насторожился:
– В чем же она права?
– Так ведь в ту ночь видела, как к Анне Васильевне приходил кто-то, а потом до утра у нее свет горел и на другой день тоже… Может, господин полицейский, заглянете к нам? Барыня приглашала, рассказать хочет…
Чуть не на блюдечке с голубой каемочкой поручику преподнесли свидетеля. Да не простого, а золотого, буквально. Свидетельница видела ночного гостя. Наверняка убийца. Больше некому по ночам ходить к Терновской. Только опросить старуху хорошенько – и бери его, голубчика… Но тут Трашантый вспомнил, как охарактеризовал Пушкину мадам Медгурст. Сболтнул, не подумав, первое, что с языка слетело. С кем не бывает… Что же теперь окажется: она видит? Да и пристав настрого приказал не лезть, пусть сыск сам разбирается. Что оставалось поручику, попавшему меж двух огней?
– Это, милая, не к нам, – сказал он. – Извольте в сыск мадам Медгурст направить. Они делом занимаются…
Агапа совершенно растерялась.
– Да что вы, господин полицейский, она же в коляске… Из дома не выходит, как ей до сыска добраться…
– В сыск, все в сыск, – ответил Трашантый и нашел на столе бумажку, которую срочно надо было прочесть.
– Воля ваша, как знаете, – сказала Агапа, пожав плечами.
Подоткнув платок, она ушла. Трашантый только вздохнул с облегчением.
Чтобы молодой неженатый мужчина поднялся в номер к юной барышне, пусть и с компаньонкой? О таком и подумать было нельзя. Приличная барышня, не актриса, не проститутка, должна заботиться о своей репутации. Не важно, что в Москве, далеко от родителя. Злые языки найдутся, до Твери дойдет. Ну и так далее…
Пушкин просил портье послать за мадемуазель Тимашевой. Наверх был отправлен мальчонка в красном мундирчике, вышитом шнурками на манер гусарского ментика.
Мягкие кресла холла манили утонуть в тихой плюшевой неге. Пушкин сел ждать так, чтобы видеть и лестницу, и выход из ресторана. Хоть Агата не показывалась, он не сомневался: мадемуазель там. На пару со своим безграничным любопытством.
Ждать пришлось не менее получаса. Наконец на лестнице появилась барышня в светлом платье. Она прямо держала спину и осматривала холл с независимым, если не сказать дерзким видом. Внешность довольно милая, если не сказать симпатичная. В таком немного кукольном стиле… За ней держалась компаньонка в темном. Пушкин подошел, поклонился, представился. Мадемуазель Тимашева ответила, что рада знакомству. Глаза ее говорили о другом. Кивком указала на компаньонку, назвав Прасковьей. Пушкин предложил пройти в холл.
Тимашева пошла впереди. Выбрала кресла рядом с окнами на Тверскую улицу. Свое кресло Пушкин отодвинул чуть подальше от барышень. Соблюдая самые строгие приличия. При этом старательно не замечал взглядов, какие бросала на него компаньонка.
– Мадемуазель Тимашева… – начал он. Но на него махнули ручкой.
– Оставьте этот официальный тон, мы же не в Петербурге… Просто Настасья Андреевна…
Он благодарно склонил голову пред такой милостью.
– Так вот, Настасья Андреевна, полагаю, моя тетушка Львова смогла достаточно испортить мнение обо мне. Мнение ошибочно…
Настасья готовилась к скучной светской беседе с благовоспитанным юношей, занудным и правильным. И никак не ожидала подобного поворота. Она взглянула на Пушкина с интересом.
– Служу в сыскной полиции, занят с утра до позднего вечера, единственный неприсутственный день, воскресенье, предпочитаю проводить на диване… К тому же я человек грубый и скучный. Имею дело с ворами да убийцами. Развлекать барышень не умею. И не хочу. Достаточно ясно я выразился?
Настасья не верила своим ушам. И переглянулась с Прасковьей.
– То есть не будете нас опекать?
– Нет, не буду.
– И не будете составлять план нашего пребывания в Москве?
– Предпочитаю не заниматься подобной ерундой.
– И следить за нами не станете?
– Ни малейшего желания, – сказал Пушкин. – Я слишком ленив для этого…
Если бы не приличия, Тимашева наверняка вскочила и запрыгала бы на одной ножке. А так вздохнула с облегчением.
– Боже, какое счастье… Благодарю, что не покушаетесь на мою свободу…
– Рад услужить…
Важная мысль, и, главное, вовремя, посетила Настасью.
– Только мадам Львова ничего не должна узнать, – сказала она.
Пушкин согласно кивнул.
– Составим список мест, куда я вас возил. Чтобы обманывать мою милую и добрую тетушку… Врать будем параллельно, то есть и вы, и я говорим одно и то же…
Совершенно по-детски Настасья захлопала в ладошки. Шалость ей нравилась.
– Как это славно! А то нам жизни нет от московских тетушек… То езжай к вашей тетушке, то к Живокини, то к Терновской… Сил никаких нет…
Он и ухом не повел. Напротив, изобразил внезапную радость.
– Так вы племянница Анны Васильевны?
Настасья выразила удивление.
– Разумеется, она родная сестра моей покойной матушки… Разве мадам Львова вам не сказала?
– Конечно, говорила. С делами сыска из головы вылетело, – сказал Пушкин. – Когда же вы навещали ее?
– Третьего дня, – ответила Прасковья, помогая не менее забывчивой Настасье.
– Выходит, вечером тридцать первого декабря… А признайтесь, тетушка потом повезла вас на рулетку? – И он шутливо погрозил пальцем.
Секреты барышень только им кажутся тайнами. Все было на виду. В обмене взглядами, в подавленных смешках.
– Только не выдавайте нас мадам Львовой, – хихикнув, сказал Настасья.
– Ни за что не выдам, – обещал Пушкин. – Много проиграли?