Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века Ирвин Уильям
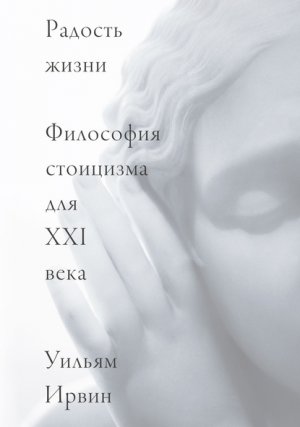
В этой связи Сенека описывает реакцию Катона, которого побил в общественных банях незнакомец, не знавший, кто он такой. Поняв впоследствии, на кого поднял руку, этот человек пришел просить прощения. Вместо того чтобы рассердиться или наказать его, Катон спокойно сказал: «Я не помню, чтобы меня побили»[239]. Не признав стычки, он проявил более сильный дух, полагает Сенека, чем если бы простил за нее[240].
Отказ отвечать на оскорбление парадоксальным образом оказывается одним из самых эффективных ответов. Во-первых, указывает Сенека, это может сбить с толку обидчика, который будет теряться в догадках, поняли мы его оскорбление или нет. Во-вторых, мы лишаем его удовольствия видеть нас расстроенными – из-за чего, скорее всего, расстроится он сам[241].
Игнорируя оскорбителя, мы показываем ему и всем очевидцам, что у нас просто нет времени на ребяческие выходки этого человека. Если шутливый ответ предполагает, что его не воспринимают всерьез, то отсутствие ответа – что нам нет до него дела: мы не просто не воспринимаем его всерьез, но не воспринимаем вообще! Однако поскольку никому не нравится, когда им пренебрегают, обидчик наверняка почувствует себя униженным из-за того, что ему не ответили – ни оскорблением, ни хотя бы шуткой.
Из вышеприведенного рассуждения можно заключить, будто в отношении оскорблений стоики – абсолютные пацифисты, которые никогда не ответят встречным выпадом и не захотят проучить грубияна. Это не так. Согласно Сенеке, бывают случаи, когда оскорбления требуют в ответ самых решительных действий.
Опасность шутливого или молчаливого ответа в том, что некоторые собеседники слишком глупы, чтобы понять, что таким образом вы демонстрируете пренебрежение. Вместо того чтобы посрамить, шутка или молчание может только раззадорить их – и они начнут бомбардировать вас бесконечным потоком оскорблений. Ситуация может быть особенно неловкой, если оскорбитель оказался чьим-то рабом в Античности, а в современности – чьим-то подчиненным, учеником или ребенком.
Стоики объясняли, как вести себя с такими людьми. Подобно матери, которая может пожурить или наказать малыша, дергающего ее за волосы, в некоторых случаях стоит сделать замечание или проучить человека, который донимает вас, словно непоседливый ребенок. Так, если ученик перед всем классом оскорбит учителя, неразумно оставлять это без ответа. Хулиган и его одноклассники могут принять отсутствие реакции за слабость и обрушить на учителя шквал издевательств. Такое поведение, очевидно, нарушит порядок в классе и помешает учебному процессу.
В таких случаях стоик не должен забывать, что наказывает нарушителя спокойствия не за оскорбление, а для исправления его неподобающего поведения. Сенека сравнивает это с дрессировкой животного: если тренер и наказывает лошадь, то не потому, что злится на ее непослушание в прошлом, а поскольку хочет, чтобы она слушалась в будущем[242].
Конечно, мы живем в такое время, когда мало кто готов встретить оскорбление шуткой или молчанием. Для сторонников политкорректности единственная правильная реакция – наказать того, кто нанес оскорбление. Больше всего их беспокоят выпады в адрес «ущемленных» социальных групп, включающих представителей меньшинств и ограниченных в физическом, психическом, социальном или экономическом отношении. Эти притесняемые лица, утверждают они, эмоционально уязвимы и будут страдать от психологических травм, если позволить оскорблять их, поэтому поборники политкорректности обращаются с петициями к вышестоящим инстанциям – чиновникам, работодателям, администрациям школ, – призывая наказать любого, кто задевает угнетенных.
Эпиктет отверг бы такую стратегию как ужасающе контрпродуктивную. Для начала он указал бы, что движение за политкорректность имеет несколько побочных эффектов. Во-первых, усилия по защите ущемленных от оскорблений чреваты тем, что те станут сверхчувствительны к ним: их будут ранить уколы не только явных оскорблений, но и мнимых. Во-вторых, они в конечном счете уверуют, что бессильны справиться с ними самостоятельно и беззащитны, если только власти не вступятся за них.
Затем Эпиктет сказал бы, что лучший способ противостоять подобным оскорблениям – не наказывать обидчиков, а обучать пострадавших техникам психологической самообороны. В частности, они должны научиться лишать жала любые оскорбления, какие бы ни получали, иначе так и продолжат страдать от них из-за своей сверхчувствительности.
По нынешним меркам Эпиктет считался бы ущемленным вдвойне: одновременно хромой и раб. Несмотря на эти ограничения, он нашел способ подняться над оскорблениями. И что еще важнее, научился радоваться жизни вопреки своей тяжелой участи. Современным «ущемленным», надо думать, есть чему поучиться у Эпиктета.
Глава 12. Горе. Разум против слез
Большинство родителей, пережив смерть ребенка, окажутся эмоционально раздавлены. Они будут плакать, возможно, сутки напролет, не в состоянии заниматься повседневными делами. Даже долгое время спустя их может настичь приступ горя, и они разрыдаются, скажем, при виде фотографии своего малыша. Как отреагирует на такую смерть стоик? Можно было бы вообразить, что никак: будет подавлять чувства или, еще лучше, научится не испытывать горя вообще.
Убеждение, что стоики никогда не скорбят, сколь распространено, столь же и ошибочно. Они признавали, что эмоции наподобие горя в определенной степени рефлекторны. Мы не можем не вздрогнуть, неожиданно услышав громкий шум (физический рефлекс), и точно так же не можем не горевать, потеряв любимого человека (эмоциональный рефлекс). В утешении к Полибию, скорбящему о смерти брата, Сенека пишет: «Природа отчасти от нас требует скорби, но чаще мы омрачаемся беспричинно. Я никогда не потребую от тебя, чтобы ты совсем не печалился»[243].
Насколько сильно должен горевать стоик? При надлежащем горе, пишет Сенека, «разум сохраняет ту умеренность, которая не похожа ни на нечестие, ни на безрассудство, и пусть он держит нас в таком состоянии, какое соответствует любящей, но не смятенной душе». Как он рекомендует Полибию, «пусть слезы текут, но пусть они и прекращаются, пусть исторгаются из глубины души вздохи, но пусть они и кончаются»[244].
Хотя полностью устранить горе невозможно, Сенека полагает, что нам вполне под силу предпринять шаги, которые сведут его к минимуму. А раз такие шаги возможны, мы обязаны их осуществить. В конце концов, мир, в котором мы живем, предоставляет немало поводов для горя. Ввиду этого, говорит Сенека, мы должны расходовать свои слезы бережливо, ибо «ни в чем не следует проявлять больше сдержанности, как в том, что приходится употреблять так часто»[245]. Именно с этими мыслями Сенека и другие стоики придумали стратегии, позволяющие избежать беспросветного горя и быстро преодолеть любое другое, выпавшее на нашу долю.
Основная стоическая стратегия предотвращения горя основывалась на практике негативной визуализации. Представляя смерть любимых людей, мы смягчаем шок, который рано или поздно испытаем от нее; в каком-то смысле мы предвидим ее наступление. Более того, размышляя о смерти любимых, мы будем больше ценить отношения с ними, поэтому, когда они умрут, не испытаем угрызений совести по поводу всего того, что могли бы и должны были сделать для них, но упустили возможность.
Негативная визуализация помогает не только предотвратить горе, но и подавить его. Вспомните совет, который Сенека дает Марции – женщине, которая спустя три года после смерти сына была так же убита горем, как в день похорон. Вместо того чтобы проводить дни в горьких раздумьях, какого счастья лишила ее смерть ребенка, Марции следовало бы думать о том, насколько ей было бы хуже, если бы она никогда не испытала счастья материнства. Другими словами, она должна не оплакивать его кончину, а быть благодарной за то, что у нее вообще был сын[246].
Такой подход можно назвать ретроспективной негативной визуализацией. При обычной, проспективной негативной визуализации мы представляем потерю того, что имеем; при ретроспективной – будто никогда не имели того, что потеряли. Ретроспективная техника, по Сенеке, помогает испытать вместо чувства сожаления из-за потери чего-то чувство благодарности за то, что некогда у нас это было.
В утешении к Полибию Сенека дает совет, как преодолеть любое горе. Наше лучшее оружие против него – разум, ибо «если разум не положит конец нашим слезам, то судьба этого не сделает». Римский стоик думает, что разум, даже если не избавит от горя полностью, способен устранить из него «то, что излишне и чрезмерно»[247]. Затем Сенека прибегает к рациональным доводам, призванным излечить Полибия от безутешного горя. Например, утверждает, что брат, смерть которого он оплакивает, либо желал бы, либо не желал, чтобы Полибий так страдал. Если он желал ему этих страданий, то недостоин слез и Полибий должен перестать плакать; во втором случае на Полибии, если он любит и уважает брата, лежит обязанность перестать плакать. Также Сенека указывает, что брат Полибия, умерев, больше никогда не испытает горя и это благо, в свете чего было бы безумием продолжать убиваться по нему[248].
Еще одно утешение Сенека адресовал своей матери Гельвии. В то время как Полибий скорбел о смерти близкого человека, Гельвия горевала об изгнании сына. В утешении к ней Сенека развивает аргумент к Полибию, что человек, из-за чьей смерти он скорбит, не желал бы видеть его скорбящим: так как Гельвия горюет из-за обстоятельств, в которые попал сын, он заявляет, что раз сам, будучи стоиком, не скорбит о своем положении, то не должна и мать. (По словам Сенеки, его утешение уникально: он прочел все сочинения в этом жанре, какие только мог найти, но ни в одном автор не утешал человека, который сокрушается по поводу самого автора[249].)
В некоторых случаях такие обращения к разуму, несомненно, облегчат (хотя бы на время) чью-то скорбь. Однако при всепоглощающем горе они едва ли увенчаются успехом по той простой причине, что эмоции скорбящего управляют его интеллектом. Но даже в этих случаях попытки донести до него доводы разума могут оказаться полезны, если заставят унывающего осознать, до какой степени его интеллект капитулировал перед эмоциями, – и тем самым, возможно, побудить вернуть интеллекту его законное место.
Эпиктет тоже касается управления горем. Он советует следить за тем, чтобы не дать «увлечь себя» чужим страданиям. Предположим, мы встретили убитую горем женщину. Мы должны сочувствовать ей и, быть может, даже сопровождать ее стенания своими собственными. Но при этом следует остерегаться «плакать в своей душе»[250]. Другими словами, нужно проявлять признаки горя, не позволяя себе испытывать его на самом деле.
Кого-то возмутит такой совет. Когда другие скорбят, будут настаивать они, мы не можем просто притворяться: необходимо чувствовать их утрату и горевать с ними на самом деле. На этот упрек Эпиктет возразил бы, что откликаться на горе друзей собственным горем так же глупо, как помогать отравленному, приняв яд, или больному гриппом, намеренно подхватив от него вирус. Горе – негативная эмоция, ее следует избегать настолько, насколько это возможно. Когда друг скорбит, наша цель – помочь ему преодолеть это состояние (вернее, если мы интернализируем цели должным образом, в том, чтобы сделать для этого все возможное). Если этого можно добиться неискренним плачем, давайте же воспользуемся подобной возможностью. В конце концов, «увлечься» горем друга означало бы не помочь ему, а только навредить себе.
Здесь некоторые читатели поставят мудрость и эффективность стоических техник управления негативными эмоциями под вопрос. Консенсус, которого в нашу эпоху придерживаются как врачи, так и общество в целом, гласит, что для эмоционального здоровья мы должны принимать свои чувства, делиться ими с окружающими и выражать без каких-либо оговорок. Стоики, напротив, рекомендуют иногда симулировать эмоции, а иногда подавлять подлинные. Вот почему кто-нибудь из читателей придет к выводу, что следовать стоическим советам касательно эмоций опасно, – а поскольку эти советы лежат в основе стоицизма, они откажутся рассматривать его в качестве философии жизни.
В главе 20 я обязательно отвечу на эти возражения – к удивлению некоторых, поставив под сомнение общепринятые представления об эмоциональном здоровье. Несомненно, определенным людям (например, охваченным глубоким горем) пойдет на пользу психотерапия. Однако я убежден, что многие способны поддерживать крепкое эмоциональное здоровье, не прибегая к консультациям. На мой взгляд, практикуя стоицизм, можно избежать множества эмоциональных кризисов, которым подвержены люди. А оказавшись во власти негативных эмоций – совладать с ними без посторонней помощи.
Глава 13. Гнев. Главный враг радости
Гнев – еще одна негативная эмоция, способная изничтожить покой. Это чувство можно по праву назвать антирадостью, поэтому стоики разработали стратегии, сводящие к минимуму количество испытываемого нами гнева.
Лучший источник советов по его предотвращению и управлению – трактат «О гневе» Сенеки. По его словам, ущерб от этого «кратковременного помешательства» огромен: «Ни одна чума не обошлась человеческому роду так дорого». Из-за гнева мы видим кругом людей, которых убивают, травят и судят; видим сокрушенные им города и народы. И помимо городов с народами его жертвой можете стать вы лично. В конце концов, в нашем мире много вещей могут вызвать гнев, а значит, пока мы не научимся им управлять, постоянно будем выходить из себя. Гнев, заключает Сенека, представляет собой пустую трату драгоценного времени[251].
Кто-то считает, что у гнева есть свои преимущества. Например, разгневанный человек сильнее мотивирован. Сенека не согласен. Люди и правда иногда выигрывают от гнева, говорит он, но из этого едва ли следует, что мы должны приветствовать его в своей жизни. Потерпевшие кораблекрушение тоже, бывает, извлекают из случившегося какую-то выгоду, но кто же в здравом уме будет прилагать усилия, чтобы поскорее в него угодить? Что касается гнева как мотивирующего инструмента, Сенеку беспокоит, что, один раз включив, выключить мы его уже не сможем: какую бы пользу он ни принес вначале, она (в среднем) нивелируется вредом, нанесенным в дальнейшем. Иными словами, «разум никогда не возьмет себе в помощники непредсказуемые и неистовые побуждения, для которых он сам ровно ничего не значит»[252].
Значит, Сенека запрещает человеку, на чьих глазах убивают отца и насилуют мать, приходить в ярость? Говорит ему стоять, опустив руки? Нисколько. Он обязан спасти родителей и покарать преступника, но при этом, насколько возможно, сохранять спокойствие. Наверняка он лучше справится, если не будет разгневан. Шире говоря, когда кто-то причиняет нам зло, его надлежит исправить «увещанием и силой, мягко и сурово». Однако такие исправления нельзя делать в гневе. Людей следует наказывать не для возмездия за содеянное, а ради их же блага, чтобы удержать от повторения ошибок. Другими словами, наказание должно быть «выражением не гнева, а предосторожности»[253].
В главе про оскорбления мы видели, что Сенека делает исключение из своего правила отвечать на них шуткой или молчанием: если нас оскорбил взрослый, шкодящий словно ребенок, ему можно пригрозить наказанием. Ведь это единственное, что он понимает. Также встречаются люди, причиняющие нам зло и не останавливающиеся, даже услышав взвешенные, рациональные просьбы. Имея дело с такого рода мелким негодяем, незачем впадать в настоящий гнев (что наверняка испортит нам весь день), но, пишет Сенека, не лишено смысла его симулировать[254]. Поступая так, мы сможем заставить этого человека исправиться, потревожив собственный покой наименьшим образом. Иными словами, Сенека против того, чтобы гневаться для поднятия своей мотивации, но не против притвориться разгневанным, чтобы мотивировать других. Сенека дает много конкретных советов по предупреждению гнева. Мы должны бороться со склонностью видеть в других худшее и делать поспешные выводы об их мотивах. Должны помнить, что, если обстоятельства складываются не так, как нам хочется, это не значит, что с нами поступили несправедливо. Нам надлежит помнить, что в некоторых случаях человек, на которого мы сердимся, на самом деле помог нам, а гневаемся мы из-за того, что он не помог нам еще больше[255].
Если мы чересчур чувствительны, то будем быстро выходить из себя. Как говорит Сенека, если мы балуем себя, если позволяем удовольствиям разрушать себя, нам все будет казаться непереносимым. Вещи покажутся несносными, но не потому, что они жесткие, а потому, что мы мягкие. Во избежание этого Сенека рекомендует принять меры, чтобы никогда не ощущать избыточный комфорт. (Это, конечно, лишь одна из причин, почему стоики отказываются от комфорта, – другие рассмотрены в главе 7.) Если мы закаляем себя таким образом, то будем обращать гораздо меньше внимания на крик слуги или хлопанье дверью, а потому гораздо реже сердиться из-за таких вещей. Мы перестанем остро реагировать на чужие слова или дела, и с меньшей вероятностью нас рассердят такие «ничтожные мелочи», как слишком теплая питьевая вода или незастеленная постель[256].
Чтобы уклониться от гнева, говорит Сенека, следует держать в уме, что раздражающие нас вещи обычно не несут реального вреда – они просто раздражают. Позволяя себе сердиться по пустякам, мы берем едва заметный повод для волнения и взвинчиваем себя до состояния, не оставляющего от покоя и следа. Более того, «гневаемся мы дольше, чем ощущаем причиненную нам боль»[257]. Какими же глупцами нужно быть, чтобы позволять мелочам нарушать нашу безмятежность.
Стоики, как мы видели, рекомендуют противопоставлять оскорблениям юмор: Катон пошутил, когда ему плюнули в лицо, Сократ – получив по голове. Сенека предполагает, что юмор не только служит эффективным ответом на оскорбление, но и предохраняет от гнева: «Насколько достойнее смеха то, из-за чего мы то и дело льем слезы!»[258] Если мы считаем неприятности, в которые попадаем, курьезными, а не возмутительными, то инцидент, который мог разгневать, вместо этого станет источником смеха. И правда, легко представить, как Катон и Сократ, отвечая с юмором на оскорбление, не только парировали его, но и избегали гнева.
Марк Аврелий тоже дает советы против гнева. Как мы помним, он рекомендует созерцать бренность окружающего мира. Это позволяет увидеть, что многие вещи, кажущиеся важными, на самом деле незначительны – по крайней мере, в масштабах космоса. Марк Аврелий обращается ко временам почти столетней давности – эпохе императора Веспасиана. Люди повсюду занимались своими обычными делами: женились, растили детей, возделывали землю, любили, завидовали, сражались и пировали. Но, заключает он, «что сталось с их жизнью? Она сгинула»[259]. Схожая участь постигнет и наше поколение: что сегодня кажется жизненно важным, наши внуки сочтут чем-то несущественным, поэтому, чувствуя прилив возмущения, мы должны остановиться и оценить его космическую (не)значительность. Это даст нам шанс подавить гнев в зародыше.
Предположим, несмотря на все усилия, чье-то поведение все же разгневало вас. Чтобы преодолеть это чувство, пишет Сенека, полезно напомнить себе, что наше поведение тоже кого-то бесит: «Нам приходится жить дурными среди дурных. Единственное, что может обеспечить нам покой, – это договор о взаимной снисходительности». Следующий его совет имеет параллели в буддизме. Находясь в гневе, следует «все его внешние признаки сменить на прямо противоположные». Нужно расслабить лицо, смягчить голос, замедлить темп ходьбы. Если это удастся, вскоре внутреннее состояние придет в соответствие с внешним и гнев рассеется[260]. Буддисты практикуют похожую технику замещения мыслей. Когда их посещает болезненная мысль, они принуждают себя думать о ее здоровой противоположности. Например, ощутив гнев, думать о любви. Идея в том, что две противоположные мысли не могут пребывать в уме одновременно, поэтому здоровая вытеснит тлетворную[261].
Но что делать, если мы не в состоянии контролировать гнев? Если набрасываемся на того, кто нас разгневал? Мы должны извиниться. Во-первых, это может мгновенно устранить причиненный ущерб. Во-вторых, акт извинения полезен для самого извиняющегося: он не только окажет успокаивающее воздействие, но и поможет впоследствии не зацикливаться на том, что его разгневало. Наконец, извинения за вспышку гнева могут сделать вас лучше как человека: признавая свои ошибки, мы уменьшаем вероятность их повтора.
Каждый из нас время от времени испытывает гнев: как и горе, это эмоциональный рефлекс. Но бывают люди, раздраженные чуть ли не всегда. Их не просто легко разгневать – они на взводе даже тогда, когда никакого повода нет. В часы досуга они припоминают, с некоторым смакованием, события, которые бесили их или бесят сейчас. В то же самое время, когда гнев поглощает их, он, по-видимому, дает им энергию.
Подобные случаи стоики назвали бы трагедией. Жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее в пелене гнева. Кроме того, если человек постоянно злится, общение с ним – настоящая пытка для окружающих. Почему бы вместо этого, спрашивает Сенека, не «постараться, чтобы при жизни тебя все любили, а после смерти о тебе жалели?»[262] И вообще, ради чего испытывать антирадость, когда в нашей власти получать от жизни радость? Ради чего, в самом деле?
Глава 14. Личные ценности. О тщеславии
Стоики утверждают, что люди несчастливы во многом потому, что заблуждаются насчет ценности вещей. Из-за этой путаницы они проводят жизнь, стремясь к вещам, которые делают их не счастливыми, а тревожными и несчастными.
Одна из таких ошибочных целей – слава. Люди стремятся к ней в разной степени. Некоторые хотят быть всемирно известными. Другие ищут не мировой славы, а региональной или окрестной. Те, кому не нужна даже окрестная слава, тем не менее добиваются популярности в своем социальном кругу или признания в профессии. И почти все ждут восхищения друзей и соседей. Люди убеждены, что обретение славы (в самом широком смысле этого слова) принесет им счастье. Они не осознают, что слава, будь то всемирная или межсоседская, имеет свою цену. И цена эта, согласно стоикам, настолько высока, что намного перевешивает любые возможные выгоды.
Чтобы лучше представить цену славы, рассмотрим пример, который приводит Эпиктет. Допустим, вы стремитесь быть социально значимым, «знаменитым» в своем кругу, и ваш знакомый устраивает вечеринку. Если вас не пригласили, вы, вероятно, заплатите определенную цену, расстроившись из-за этого. Но даже если пригласили, пишет Эпиктет, то лишь потому, что вы заплатили соответствующую цену в прошлом: постоянно уделяли внимание этому знакомому, осыпая его похвалами. Того, кто рассчитывает на место за праздничным столом, не заплатив требуемую цену, философ называет одновременно жадным и глупым[263].
Гораздо лучше в такой ситуации, полагает Эпиктет, быть безразличным к социальному статусу. Во-первых, вам не придется тратить время на заискивание перед организатором вечеринки. Во-вторых, вы лишите его возможности расстроить вас такой мелочью, как отсутствие приглашения.
Стоики ценят свою свободу, поэтому c крайней неохотой совершают поступки, из-за которых кто-то может получить власть над ними. Добиваясь высокого социального положения, мы наделяем других подобной властью, поскольку вынуждены делать вещи, рассчитанные на их восхищение, и воздерживаться от тех, что вызовут неодобрение, поэтому Эпиктет рекомендует не заботиться о социальном статусе: поставив перед собой цель угождать другим, вы потеряете свободу угождать себе. Вы добьетесь только того, предупреждает он, что поработите сами себя[264].
Желающий сохранить свободу, говорит Эпиктет, должен при взаимодействии с людьми не забывать оставаться безразличным к тому, что о нем думают. Более того, нужно быть последовательным в своем безразличии, с одинаковым пренебрежением воспринимая как чужие похвалы, так и порицания. По словам Эпиктета, когда другие хвалят вас, правильнее всего рассмеяться над ними[265]. (Но не вслух! Хотя Эпиктет и остальные стоики советуют быть безразличными к тому, что о нас думают, они рекомендуют скрывать свое безразличие. В конце концов, сказать кому-то, что вам нет до его мнения никакого дела, – возможно, самое болезненное оскорбление, которое можно нанести.)
Марк Аврелий согласен с Эпиктетом: глупо переживать из-за того, что думают о нас окружающие, и еще глупее искать одобрения тех, чьи ценности нам чужды, поэтому нашей целью должно быть безразличие к чужому мнению. Достигнув его, добавляет он, мы заметно повысим качество своей жизни[266].
Обратите внимание: совет игнорировать чужие мнения согласуется с советом не беспокоиться о том, что находится вне нашего контроля. Я не в силах заставить людей не насмехаться надо мной, поэтому глупо тратить время на попытки остановить их. Согласно Марку Аврелию, я должен уделить это время тому, что полностью контролирую, то есть не делать ничего заслуживающего насмешки[267].
Император касается и той формы славы, которая многим кажется наивысшей, а именно посмертной. «Вздор все это», – заявляет Марк Аврелий. Вдумайтесь, как глупо желать, чтобы о вас помнили после смерти. Во-первых, будучи мертвы, мы не сможем насладиться славой. Во-вторых, глупо надеяться, что будущие поколения будут нас расхваливать, ни разу не увидев, учитывая, как редко мы хвалим даже тех современников, которых видим регулярно. Вместо надежд на славу в веках, говорит Марк Аврелий, следует озаботиться своим текущим положением и «подарить себе вот это время»[268],[269].
Допустим, мы признали, что стоики правы: нужно игнорировать то, что думают о нас другие. Большинству людей будет нелегко последовать этому совету. В конце концов, многие из нас буквально одержимы чужим мнением: сначала мы лезем из кожи вон, чтобы завоевать людское восхищение, затем – чтобы не потерять.
Один из стоических способов преодолеть эту одержимость – осознать: чтобы завоевать восхищение других, придется принять их ценности. Точнее, вести такую жизнь, которая считалась бы успешной в соответствии с их представлениями об успехе. (Если ваша жизнь неуспешна с их точки зрения, у них не будет причин вами восхищаться.) Следовательно, прежде чем добиваться расположения этих людей, мы должны спросить себя, совместимы ли их представления об успехе с нашими. И что еще важнее, достигают ли они, преследуя свои цели, безмятежности, которой ищем мы. Если нет, следует без раздумий пренебречь их восхищением.
Еще один способ преодолеть одержимость расположением окружающих – делать все, чтобы вызвать у них презрение. Так, Катон взял за правило игнорировать веяния моды: когда все облачались в светло-пурпурные ткани, он одевался в темное, и хотя римляне появлялись на публике в сандалиях и тунике, не носил ни того ни другого. Согласно Плутарху, он хотел не «снискать этими странными замашками славу», а приучить себя «стыдиться только истинно позорного, на любое же иное неодобрение отвечать презрительным равнодушием»[270]. Другими словами, Катон сознательно вызывал у окружающих презрение, чтобы практиковаться в его игнорировании.
Многих людей преследует страх поражения, сильно сковывающий их свободу. Они могут размышлять над каким-то поступком, который испытал бы их мужество, решительность и умения, но в результате откажутся от него из-за страха неудачи. С их точки зрения, лучше не пытаться чего-то достичь, чем попытаться и потерпеть неудачу.
Безусловно, бывают неудачи, которых надеется избежать любой здравомыслящий человек – например, приводящие к смерти или увечью. Однако многие опасаются неудач, которые не будут стоить им ни жизни, ни здоровья. Для таких людей цена поражения включает необходимость испытать на себе открытые насмешки или, возможно, молчаливую жалость тех, кто стал свидетелем их провала. Они убеждены, что лучше не браться за дело, чем подвергнуться риску публичного унижения.
Многих других людей, включая, вполне возможно, ваших друзей и родственников, обрадует, если фиаско потерпите вы. Они могут не говорить вам этого в лицо, но желать неудачи втихаря. Отчасти люди поступают так потому, что ваши успехи причиняют им дискомфорт, выставляя в невыгодном свете: если преуспели вы, чем они хуже? Если вы решите воплотить какую-то смелую идею, они начнут высмеивать вас, пророчить катастрофические последствия и пытаться отговорить. Если же, несмотря на их потуги, вы все же осуществите задуманное и добьетесь успеха, в конечном счете они могут поздравить вас – а могут и проигнорировать.
Вспомним женщину из главы 5, чья цель – написать роман. Предположим, она поделилась своими литературными амбициями с друзьями, близкими и коллегами. Некоторые из тех, кому она доверяет, искренне поддержат ее. Однако другие отреагируют ликующим пессимизмом. Например, примутся доказывать, что она никогда не закончит роман (и чтобы досадить ей, будут то и дело интересоваться, как продвигается дело). Если же закончит – что ей не удастся найти издателя. Если издатель найдется – что продажи книги будут плохими. А если окажутся хорошими, объяснят ее успех дурным вкусом читателей.
Женщина, конечно, может снискать одобрение этих скептиков – стоит ей отказаться от карьеры писательницы. Тогда скептики признают в ней родственную душу и примут с распростертыми объятиями. Позовут к себе на удобный диван, чтобы всем вместе издеваться над теми, кто преследует свои мечты, несмотря на риск провала. Но действительно ли эта компания подходит ей? Стоит ли жертвовать своей мечтой, чтобы добиться признания подобных людей?
Стоики заметили бы, что эта женщина поступила бы правильно, отнесись она с безразличием к мнению окружающих о ней. И упомянутые маловеры, следует понимать, находятся в самом верху списка тех, чьи взгляды ей предстоит научиться игнорировать.
По иронии судьбы стоик может завоевать людское восхищение (возможно, подспудное), хоть ничего для этого и не предпринимает. Многие, скажем, сочтут его безразличие к общественному мнению признаком уверенности в себе: только тот, кто доподлинно знает себя, кто в ладу с самим собой, может оставаться таким невозмутимым. Эти люди тоже хотели бы научиться игнорировать то, что о них думают другие.
В некоторых случаях их восхищение будет столь велико, что заставит их поинтересоваться, как ему это удается. Когда он раскроет тайну – что является практикующим стоиком, – приведет ли это к обращению собеседников в стоицизм? Едва ли. Они могут подумать, что над ними подшучивают: какие еще стоики в наши дни, в самом деле? Или решить, что стоицизм, даже если для кого-то работает, им не подойдет из-за персональных особенностей. Или же, в подавляющем числе случаев, придут к выводу, что обрести стоическую уверенность, конечно, здорово, но есть и более стоящие вещи – например, слава… или жизнь в роскоши.
Глава 15. Личные ценности. О роскоши
Помимо славы традиционно люди ценят богатство. Эти ценности могут показаться несвязанными, но легко показать, что главная причина, по которой ищут богатства, заключается в жажде славы[271]. Точнее, мы ищем богатства, поскольку думаем, что материальные блага, которые оно дает, вызовут восхищение других и тем самым принесут некоторую толику славы. Но если слава не стоит того, чтобы к ней стремиться, тогда как главным инструментом ее достижения служит богатство, оно тоже не должно заслуживать нашего внимания. Согласно стоикам, оно и не заслуживает.
Сенека в утешении к Гельвии, описав, как малы наши тела, спрашивает: «Разве не дикость и не полное умопомрачение – желать многого, когда можешь усвоить так мало?» До чего безрассудно, продолжает он, когда человек предпочитает иметь «много денег», а не «хоть сколько-то ума»[272]. Музоний разделяет эту позицию. По его словам, богатство не освобождает человека от печалей и не утешает в старости. И хотя может обеспечить материальные блага и чувственные наслаждения, оно не способно принести удовлетворение или прогнать горе. В качестве примера Музоний приводит богачей, которые грустны и несчастны, несмотря на свое состояние[273]. В том же духе Эпиктет заявляет, что «лучше умереть с голоду свободным от печали и страха, чем жить в изобилии, не имея покоя»[274]. Шире говоря, на его взгляд, отсутствие потребности в богатстве ценнее, чем само богатство[275].
Плохо, когда богатство не приносит счастья, однако Музоний полагает, что все еще хуже: оно делает человека несчастным. И правда, хотите сделать кого-то по-настоящему несчастным – сделайте его богатым. Однажды Музоний дал крупную сумму денег незнакомцу, выдававшему себя за философа. Когда ему объяснили, что это самозванец, плохой и порочный человек, Музоний не забрал деньги, но оставил ему. И с улыбкой заметил: если это действительно дурной человек, он заслужил их[276].
Большинству людей богатство нужно для поддержания роскошной жизни, вызывающей восхищение окружающих. На взгляд стоиков, такой образ жизни контрпродуктивен, если наша цель в благой, а не зажиточной жизни.
Подумайте об изысканных блюдах – одном из элементов роскошной жизни. Неужели те, кто их ест, получают больше удовольствия, чем довольствующиеся простой пищей? Музоний так не считает. Люди с экстравагантным рационом напоминают ему тупые ножи, постоянно требующие заточки: они недовольны едой, если только с ней не подают «чего-то остренького» вроде неразбавленного вина, уксуса или едкого соуса[277].
Если вести роскошную жизнь, несомненно, высока опасность разучиться получать удовольствие от простых вещей. Некогда человек мог наслаждаться тарелкой макарон с сыром и стаканом молока, но после нескольких месяцев жизни в роскоши макароны перестанут удовлетворять его взыскательному вкусу; теперь он предпочел бы феттуччине Альфредо и бутылку минеральной воды определенной марки. А вскоре, если сможет себе позволить, променяет и это блюдо на ризотто со сладкими креветками и свежесобранными цветками тыквы, к которым подается бутылка того самого рислинга, нахваливаемого критиками, и пикантный салат фризе, сервированный тушеными артишоками, бобами фава, сыром валансе, молодой спаржей и конфи из помидоров черри[278].
Когда привыкшим к роскоши людям становится сложно угодить, происходит любопытная вещь. Вместо того чтобы оплакивать потерю способности наслаждаться простыми вещами, они гордятся новоприобретенной неспособностью наслаждаться чем-либо, кроме «самого лучшего». Стоики посочувствовали бы им, указав, что, разучившись получать удовольствие от простого и легко достижимого (тех же макарон с сыром), они в немалой степени разучились получать удовольствие от жизни в целом. Последователи стоицизма строго следят за тем, чтобы не стать жертвами подобной изнеженности. Само собой, они высоко ценят умение наслаждаться простой жизнью – и различать источники удовольствия, находясь даже в самых стесненных обстоятельствах.
Отчасти именно по этой причине Музоний ратовал за простую еду. На его взгляд, лучше всего есть продукты, которые не нужно готовить: фрукты, свежие овощи, молоко, сыр. Мясо он не ел, так как считал его пищей диких зверей. Он советовал выбирать еду «не для удовольствия, а для пропитания, не для ублажения глотки, а для укрепления тела». А также следовать примеру Сократа: не жить, чтобы есть (то есть тратить свою жизнь на удовольствия от еды), а есть, чтобы жить[279].
Почему Музоний лишал себя безобидных, на первый взгляд, гастрономических радостей? Потому что считал их не такими уж безобидными. Он вспоминает слова Зенона о том, что следует остерегаться приобретать вкус к деликатесам: начав двигаться в этом направлении, сложно остановиться. Бывают вещи, приносящие нам удовольствие раз в месяц или даже в год, тогда как едим мы ежедневно, и чем чаще будем чувствовать искушение при этом, тем выше опасность ему поддаться, поэтому, говорит Музоний, «из многих наслаждений, которые завлекают человека в прегрешения и побуждают его предаваться им в ущерб пользе, наслаждению пищей противостоять труднее всего»[280].
Помимо смакования экстравагантных блюд живущие в роскоши носят дорогие костюмы и живут в изящно обставленных домах. По стоикам же, человек должен отдавать предпочтение простоте не только в еде, но и в одежде, жилище и мебели. Музоний рекомендует одеваться так, чтобы защищать тело, а не впечатлять окружающих. Таким же функциональным должен быть и дом: от него не требуется ничего, кроме как укрывать от сильной жары и холода, солнца и ветра. Какой-нибудь пещеры вполне хватило бы. Как указывает Музоний, усадьбы с внутренними двориками, причудливым декором и золочеными потолками трудно содержать. Кроме того, простой дом должен быть прост и внутри. Посуду на кухне лучше иметь не серебряную или золотую, а глиняную и железную: как замечает философ, она дешевле, в ней удобнее готовить и менее вероятно, что ее украдут[281].
Люди, ведущие роскошную жизнь, редко бывают довольны: роскошь лишь разжигает в них жажду еще большей роскоши. Сенека предлагает своему другу Луцилию представить, что тот невероятно разбогател, живет в доме с мраморными полами и золотыми украшениями, носит пурпурные тоги. Все это не сделает его счастливым: «Излишества лишь научат тебя желать еще большего». Так происходит потому, что желание роскоши не является естественным. Естественные желания (например, воды, когда мы испытываем жажду) могут быть утолены, противоестественные – нет[282]. Поэтому, ощутив какое-то желание, нужно остановиться и спросить, естественно ли оно, – и в противном случае подумать дважды, прежде чем его удовлетворять.
Роскошь, предостерегает Сенека, своей изобретательностью способствует порокам: сначала она заставляет хотеть бесполезное, затем – вредное. Не успеем мы заметить, как разум станет рабом прихотей и плотских удовольствий[283]. Музоний заявляет, что лучше заболеть, чем жить в роскоши. По его словам, болезнь может повредить телу, тогда как роскошь вредит душе, заражая ее «распущенностью и трусостью», поэтому роскошной «жизни следует всевозможно избегать»[284].
Если мы прислушаемся к стоикам и откажемся от роскоши, то увидим: наши потребности легко удовлетворить, ибо, как говорит Сенека, самое необходимое в жизни дешево и легко достижимо[285]. Те, кто жаждет роскоши, как правило, тратят уйму времени и сил, чтобы овладеть ею; те же, кто роскоши избегает, могут посвятить это время и силы гораздо более достойным делам.
Насколько обеспеченным нужно быть? По Сенеке, «наилучшая мера состояния та, которая и в бедность не впадает, и недалеко от бедности отстоит». Нужно учиться ограничивать роскошь, культивировать бережливость и «хладнокровно взирать на бедность»[286]. Стоический образ жизни, добавляет он, где-то посередине между образом жизни мудреца и простого человека[287].
Совет Эпиктета строже: «Заботы о теле принимай не далее необходимого». А что необходимо? Столько еды, чтобы поддерживать в теле жизнь, столько одежды, чтобы укрывать его, и такой дом, чтобы вместить[288]. Стоит ли говорить, что стоик, даже если ведет спартанский образ жизни, благодаря негативной визуализации будет более доволен тем, что имеет, чем живущие в роскоши.
Эпиктет призывает помнить, что самоуважение, надежность и великодушие ценнее богатства, поэтому, если его можно достичь, только пожертвовав этими качествами, поступать так было бы крайне неразумно. Не говоря уже о том, что, если один человек богаче другого, это не означает, что он лучше[289]. Следует иметь в виду и замечание Сенеки, что «богат тот, кто приспособился к своей бедности, кто, имея мало, считает себя зажиточным»[290]. (Кстати, так думали не одни стоики. Как писал на другом конце земного шара Лао-цзы, «знающий достаток богат»[291].)
Хотя стоик не стремится к богатству, он тем не менее может разбогатеть. В конце концов, такой человек делает все от него зависящее, чтобы быть полезным обществу. Благодаря стоической практике он станет дисциплинированным и целеустремленным – эти черты облегчат выполнение стоящих перед ним задач. В результате стоик будет довольно эффективно помогать другим, а те – вознаграждать его в ответ. Иными словами, стоицизм может оказаться рентабельным.
Допустим, этот стоик (опять же благодаря своей практике) потерял интерес к роскоши и, шире, преодолел тягу к потребительству. Вследствие этого он сможет сохранить большую часть доходов и таким образом разбогатеть. Забавно, не правда ли: человек, пренебрегающий богатством, окажется богаче тех, кто пытается обзавестись им во что бы то ни стало. Римские философы, о которых идет речь, похоже, испытали на себе этот финансовый парадокс. Сенека и Марк Аврелий были невообразимо богаты, а Музоний и Эпиктет, главы успешных философских школ, как минимум материально обеспечены. (И впрямь у Музония, как мы видели, хватало денег, чтобы давать их какому-то проходимцу.)
Что делать стоику, если он разбогател, хотя не желал этого? Стоицизм не обязывает отказываться от богатства – напротив, позволяет наслаждаться им и использовать на благо себе и окружающим. Однако требует, чтобы наслаждение было вдумчивым. Стоик должен твердо помнить, что может лишиться своего имущества; более того, готовить себя к его потере – например, периодически практикуя бедность. А также осознавать, что без должной осторожности наслаждение богатством испортит характер и повредит умению наслаждаться жизнью. По этой причине он будет держаться подальше от роскошной жизни. Таким образом, стоик наслаждается богатством совершенно иначе, чем, скажем, обычный человек, только что выигравший в лотерею.
Важно учитывать различия между киниками и стоиками. Кинизм требовал от своих приверженцев жить в крайней нищете, стоицизм – нет. Как пишет Сенека, стоическая «философия требует умеренности – не пытки»[292]. В более общем смысле он утверждает, что для стоика совершенно приемлемо разбогатеть, если в ходе этого он никому не причиняет вреда. Приемлемо и наслаждаться богатством, если он осторожен и не привязывается к нему. Идея заключается в том, что можно наслаждаться чем-то – и в то же время оставаться безразличным к этому, поэтому, восклицает Сенека, «я стану презирать богатство, которое у меня есть, и не пожелаю того, которого у меня нет; не огорчусь, если оно будет лежать в другом доме, не обрадуюсь, если заблещет вокруг меня». Воистину, мудрый человек, «утопая в богатстве, тут-то и размышляет более всего о бедности»; он всегда настороже, рассматривая богатство как своего раба, а не господина[293].
(При этом следует отметить, что стоические философы не имели единого мнения о том, насколько искренне стоик должен наслаждаться материальным благополучием. Музоний и Эпиктет, как кажется, полагали, что развращает даже минимальный контакт с роскошью, тогда как Сенека и Марк Аврелий считали возможным жить во дворце, не будучи развращенными.)
Буддийская точка зрения, кстати, весьма похожа на ту, которую я приписываю стоикам в целом: буддисту допустимо быть богатым, если только он не цепляется за свое богатство. Таков, во всяком случае, совет, который Анатхапиндике, «человеку необыкновенно богатому», дал Будда: «Тот, кто привязан к богатству, пусть лучше избавится от него, чем позволит своему сердцу стать им отравленным; но тот, кто не привязан к богатству и, обладая состоянием, использует его правильно, будет благословением для своих ближних»[294].
Все вышесказанное относится и к славе. Как мы уже видели, стоикам она не нужна – напротив, они пытаются быть безразличны к тому, что о них думают другие. В самом деле, пользовались же известностью все четыре римских стоика, которых мы обсуждаем. (Конечно, Музоний и Эпиктет были не так знамениты, как Сенека и Марк Аврелий, но они получили признание в своей области и, вероятно, даже среди тех римлян, которые не посещали их школ.)
Что же делать стоику, если он стал знаменит, хоть и не стремился к этому? Должен ли он наслаждаться этой известностью так же, как и невольно приобретенным богатством? Думаю, к наслаждению славой стоики отнеслись бы с большей осторожностью. Богатство опасно тем, что может развратить нас, особенно если тратить его на роскошную жизнь. Опасность быть развращенным славой еще выше. В сиянии славы захочется еще больше славы, и очевидный путь к ней – говорить и поступать из расчета на восхищение окружающих. Но для этого практически наверняка придется поступиться стоическими принципами.
Поэтому маловероятно, что стоик позволит себе купаться в лучах любой славы, которая настигнет его. В то же время он без колебаний воспользуется ею как инструментом в исполнении своего долга перед обществом. Музоний и Эпиктет, вероятно, не возражали против того, что их имена на слуху, – ведь это помогало привлекать новых учеников, а значит, эффективнее распространять стоические взгляды.
Глава 16. Изгнание. Как пережить вынужденный переезд
В Древнем Риме человека могли приговорить к изгнанию за многие преступления (как реальные, так и выдуманные) – и статус философа заметно увеличивал шансы на такой приговор. Философов изгоняли из Рима по меньшей мере трижды: в 161 году до н. э., при императоре Веспасиане и его сыне Домициане[295].
Если философы не были застрахованы от изгнания, то философы-стоики подвергались этой угрозе вдвойне. С упорством выполняя то, что считали своим долгом (даже если тем самым бросали вызов власти), стоики наживали множество политических врагов. Из четырех великих римских стоиков ссылки избежал лишь Марк Аврелий – и то потому, что сам был императором. Сенеку и Эпиктета изгоняли по одному разу, Музония – дважды. Среди других выдающихся стоиков, переживших ссылку, были Рутилий Руф, Посидоний, Гельвидий Приск и Паконий Агриппин. И им, пожалуй, еще повезло. Иные умудрялись разозлить власть имущих настолько, что вместо ссылки приговаривались к смерти: такова участь Тразеи Пета и Бареи Сорана. (Как пишет Тацит, казнь Нероном этих двух стоиков была попыткой «истребить саму добродетель»[296].)
Реакция Пакония на изгнание – прекрасный пример стоического поведения в тех обстоятельствах, которые большинство людей сочли бы жизненной катастрофой. Узнав, что его судят в Сенате, Паконий не проявил никакого интереса, приступив к своим ежедневным упражнениям и купанию. Когда кто-то доложил ему, что его приговорили, он поинтересовался, на изгнание или смерть. «На изгнание», – последовал ответ. Тогда он спросил, конфисковано ли его имущество в Ариции[297], и, услышав, что нет, ответил: «Позавтракаем, значит, в Ариции». Эпиктет считает это образцовой стоической реакцией: «Вот это и есть приучить себя к тому, к чему следует приучать себя: сделать стремление и избегание неподвластным помехам и не терпящим неудач. Я должен умереть. Если уже, я умираю, а если через некоторое время, сейчас я завтракаю, поскольку настал час завтрака, и вот тогда я умру»[298].
Философам, конечно, больше не грозит изгнание. Отчасти это объясняется тем, что власть теперь более просвещенная, но дело также и в том, что философам удалось сделать себя невидимыми как для политиков, так и для широкой публики. Иногда, в минуты праздности, я мечтаю, чтобы американское правительство изгнало философов – или хотя бы посадило нас под замок на несколько деньков, чтобы преподать урок. Не то чтобы я хочу отправиться в ссылку или желаю такой участи коллегам, но готовность государства изгнать какую-либо группу населения свидетельствует о том, что эта группа имеет вес и оказывает какое-то влияние на культуру – влияние, которое может быть неугодно властям. Чего я хочу на самом деле, так это чтобы философия имела в нашем обществе такое же значение, какое она имела для древних римлян.
В главе 12 я упоминал утешение Сенеки к матери, которой не давала покоя его ссылка. Сенека успокаивает ее, объясняя, что изгнание является не таким уж и злом – во всяком случае, не таким, каким его обычно изображают люди. По его словам, это не более чем перемена места жительства. Более того, даже в самых гиблых краях, куда можно быть сосланным, изгнаннику встретятся люди, находящиеся там по собственной воле[299].
Изгнание, говорит Сенека, может, и лишило его родины, друзей, семьи и собственности, но самое главное осталось при нем: его место в мироздании и добродетель. Он заключает: «Богатыми делает людей настрой ума. Разум сопровождает нас в изгнании, и в самой угрюмой пустыне находит достаточно средств для поддержания тела, радуясь изобилию собственных благ»[300]. Сам Сенека, разумеется, коротал время в изгнании за чтением, писательством и изучением природы.
Музоний, как вы помните, отбывал ссылку в одном из худших для этого мест на свете – на «жалком» островке Гиар[301]. Тем не менее навещавшие философа в изгнании никогда не слышали его жалоб и не видели отчаявшимся. По его словам, изгнанник может лишиться дома, но не самой способности переносить изгнание. Более того, ссылка не лишает человека ничего ценного. Она не может помешать, например, быть храбрым или справедливым. Добродетельному человеку – то есть имеющему правильные ценности – она не причинит вреда или унижения. Но того, кто не отличается добродетелью, изгнание лишит многих вещей, которые он (ошибочно) считает ценными, и потому сделает его несчастным[302].
Чтобы выжить и даже благоденствовать в ссылке, говорит Музоний, изгнаннику следует помнить, что его счастье больше зависит от ценностей, чем от места проживания. Себя философ называл гражданином не Рима, но «Зевсова града, который объединил людей и богов»[303]. Как он указывает, даже в изгнании можно поддерживать связь со знакомыми: истинные друзья не откажутся общаться с человеком только потому, что тот попал в такое положение. Если же изгнаннику и не хватает чего-то, утверждает Музоний, то лишь из-за его стремления к роскоши. Наконец, ссыльные располагают тем, чего не хватает жителям Рима, – свободой говорить открыто.
Музоний напоминает, что многих ссылка изменила к лучшему. Например, вынудила расстаться с излишествами и тем самым укрепила здоровье. Или превратила обычных людей в философов, как в случае с Диогеном Синопским[304]. (Прежде чем стать киником, Диоген вынужден был бежать из Синопа, поскольку то ли он, то ли его отец-меняла занимался там подделкой монет[305]. Когда позднее ему напомнили эту историю, пытаясь пристыдить, Диоген с типично киническим сарказмом ответил, что синопцы, хоть и приговорили его к изгнанию, сами были приговорены им оставаться в Синопе[306].)
Очевидно, стоики уделяли ссылке столько внимания, потому что регулярно рисковали в ней оказаться. Сегодня никто больше не живет в страхе изгнания, поэтому может показаться, что стоические советы на этот счет представляют сугубо теоретический и исторический интерес. Это не совсем так.
Едва ли читатели когда-нибудь подвергнутся ссылке со стороны властей, однако они могут быть (если нынешние социальные тенденции сохранятся) сосланы своими детьми – в дом престарелых. Такой поворот событий может оказаться тяжелым ударом по спокойствию. Существует совершенно реальная опасность, что он вынудит вас провести последние дни на земле, жалуясь на жизнь, а не радуясь ей. В следующей главе мы рассмотрим эту особую разновидность изгнания и другие проблемы, связанные со старением.
Глава 17. Старость. О ссылке в дом престарелых
Будучи университетским преподавателем, я ежедневно общаюсь с двадцатилетними студентами. Многие из них, как мне кажется, уверены, что покорят мир. Что станут рок-звездами – в прямом или переносном смысле. (Я понимаю, почему они так думают. Меня скорее озадачивает их уверенность в том, что, став рок-звездами, они обретут неисчерпаемое и продолжительное счастье. По-моему, им не помешало бы внимательнее следить за новостями шоу-бизнеса.) Эти двадцатилетние юноши и девушки не желают довольствоваться «просто спокойствием», ведь их манят столько вещей вокруг: идеальные бойфренд, герлфренд или супруг, идеальная работа, любовь и восхищение окружающих. Стоицизм кажется им философией неудачников, а они не неудачники.
В крайних случаях эти молодые люди отличаются беспрецедентным ощущением собственного превосходства. Им кажется, что жизнь должна расстилать перед ними красную дорожку, куда бы они ни направились. Когда этого не происходит и избранный путь оказывается в ухабах и колдобинах, а то и вовсе непроходимым, это их шокирует. Быть того не может! Произошла какая-то ужасная ошибка, сто процентов!
С годами такие ребята осознают, что жизнь, хочешь не хочешь, чинит препятствия, и начинают учиться преодолевать их. Когда мир не преподносит им славу и богатство на блюдечке с голубой каемочкой, они понимают, что должны потрудиться, чтобы получить желаемое. Зачастую мир вознаграждает их усилия. В результате, разменяв четвертый десяток, они признают, что внешние обстоятельства, пусть и не совсем те, на какие они рассчитывали в двадцать лет, все же вполне ничего. В этот момент они с удвоенной силой бросаются улучшать их в надежде каким-то образом достичь идеальной жизни, о которой всегда мечтали.
Следуя этой стратегии в течение еще одного десятилетия, эти люди постепенно обнаруживают, что не продвинулись ни на йоту. Они зарабатывают в двадцать раз больше, переехали из однушки в дом с четырьмя спальнями, удостоились льстивых статей в газетах, но счастья как не было, так и нет. Хуже того, сложность схем обретения счастья обернулась тревогой, гневом и фрустрацией. Им также открылась обратная сторона успеха, делающего их объектом чужой зависти. Именно на этом этапе многие люди, никогда прежде не интересовавшиеся философией, задаются философскими вопросами: «И это все, что может предложить жизнь? Разве такой я себе ее представлял?»
Иногда этот период философских размышлений приводит к тому, что в нашей культуре принято называть кризисом среднего возраста. Человек, переживающий кризис, может трезво заключить, что его несчастье – результат неправильных желаний. Однако гораздо чаще такой человек заключает, что несчастен, так как жертвовал краткосрочными желаниями ради долгосрочных целей. И поэтому решает отказаться от этих жертв: например, покупает новую машину или бросает жену и заводит любовницу. Чуть погодя до него дойдет, что эта стратегия поиска счастья ничем не лучше, а во многих отношениях хуже предыдущих.
Тогда он, возможно, вновь обратится к поиску смысла жизни. Но если даже после этого не задумается над философскими вопросами, то процесс старения (вместе с перспективой приближающейся смерти) уж точно заставит. И размышляя над ними, он поймет, что стоицизм, ничем не привлекавший его в юные годы, теперь выглядит вполне подходящей философией жизни.
В молодости человек может гадать, каково это – быть старым. А если он стоик, то посредством негативной визуализации мысленно представлять, на что это похоже. Но рано или поздно настанет день, когда гадать или воображать больше не понадобится – все станет ясно и без того. Навыки, некогда казавшиеся само собой разумеющимися, начнут угасать. Раньше мы могли пробежать не один километр – теперь едва переводим дух, ковыляя по коридору. Раньше вели финансовые дела целой корпорации – теперь не в состоянии вести учет своей чековой книжки. Раньше помнили дни рождения всех знакомых – теперь не можем вспомнить даже собственного.
Угасание этих способностей означает, что человек больше не в состоянии позаботиться о себе, а это может послужить поводом отправить его в дом престарелых. Подобное заведение, конечно, мало чем похоже на пустынный остров, на котором отбывал ссылку Музоний. В нем довольно комфортно, есть регулярное питание и персонал, стирающий вашу одежду, убирающий комнату и, возможно, даже помогающий мыться. Но, несмотря на материальные удобства нового места жительства, в социальном плане жизнь там наверняка вызовет значительные трудности. Отныне вы будете жить бок о бок с совершенно незнакомыми людьми. Из-за этого вам, возможно, придется изо дня в день терпеть за завтраком (пока не допьете кофе) одних и тех же настырных соседей. Каким бы высоким ни был ваш социальный статус в прошлом, в местной иерархии вы занимаете низшее место, поэтому, скажем, можете обнаружить в столовой «стол для своих», за который вас не приглашают.
Жизнь в доме престарелых чем-то напоминает школьные будни. Постояльцы объединяются в клики, члены которых проводят большую часть времени в попытках перекричать представителей вражеских группировок. Есть что-то и от студенческого общежития: вы живете в одноместной комнате, двери выходят в общий коридор. Можно либо сидеть в четырех стенах, либо рискнуть выйти и очутиться в социально напряженной среде.
Также она напоминает жизнь во время эпидемии чумы. Несколько раз в месяц (в большом доме несколько раз в неделю) вы наблюдаете, как подъезжает скорая помощь, чтобы увезти тела тех, кто не пережил эту ночь. Если вы живете не в доме престарелых, вам не будет мозолить глаза эта вереница неотложек, но все равно придется узнавать о смерти давних друзей, братьев, сестер и, возможно, даже собственных детей.
В двадцать лет можно отвергать стоицизм, пребывая в уверенности, что мир крутится вокруг тебя. В восемьдесят прекрасно понимаешь: мир не у твоих ног, а жить становится все труднее. Даже если в молодости ты казался себе бессмертным, теперь бренность до боли очевидна. Перед лицом смерти ты, возможно, наконец-то признаешь, что тебе требуется «просто спокойствие», таким образом созрев для стоицизма.
Однако вполне можно состариться, так и не созрев ни для стоицизма, ни для какой-либо другой жизненной философии. Множество людей на протяжении жизни раз за разом совершают одни и те же ошибки, и в восемьдесят лет они ничуть не ближе к счастью, чем в двадцать. Вместо того чтобы радовать, жизнь озлобила их, поэтому они доживают ее остаток в жалобах – на обстоятельства, родню, еду, погоду, короче говоря, на все подряд.
Подобные случаи трагичны в той мере, в какой эти люди были в состоянии – а на самом деле в состоянии до сих пор – жить в радость, однако либо выбрали неверные жизненные цели, либо верные, но неверную стратегию их достижения. Такова обратная сторона неспособности выработать действенную жизненную философию: та единственная жизнь, что у вас была, в конечном счете окажется потрачена впустую.
Сенека считал, что пожилой возраст имеет свои преимущества: «Что ж, встретим старость с распростертыми объятиями: ведь она полна наслаждений, если знать, как ею пользоваться». Более того, приятнее всего тот этап жизни, который «идет под уклон, но еще не катится в пропасть». Даже тот возраст, «что стоит у последней черты», по-своему приятен. Как минимум тем, что по мере угасания способностей получать определенные удовольствия пропадает и желание испытывать их: «Как сладко утомить все свои вожделенья и отбросить их!»[307]
Подумайте о вожделении – желании сексуального удовлетворения. Для многих людей (и мужчин, полагаю, в особенности) это один из главных отвлекающих факторов в повседневной жизни. Мы способны контролировать, действуем ли в ответ на вожделение или нет, но само это чувство, судя по всему, заложено в нашу природу. (Если бы его не было или оно могло быть чересчур легко подавлено, вряд ли мы выжили бы как вид.) Поскольку это желание отвлекает нас, оно существенным образом влияет на то, как мы живем.
Однако с возрастом вожделение и сопровождающий его морок ослабевают. Кто-то скажет, это плохо: очередной пример удовольствия молодости, которого человек лишается. Греческий трагик Софокл считал иначе. Когда в старости его спросили, может ли он, несмотря на свои годы, заниматься любовью с женщиной, тот ответил: «Помолчал бы ты, право. Я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя»[308].
Сенека указывает, что старость, усугубляя наше физическое состояние, приводит к разложению пороков и того, что им способствует. Однако тот же самый процесс старения необязательно сопровождается умственной деградацией. Как говорит Сенека о самом себе, несмотря на возраст, душа его «бодра и рада, что ей уже почти не приходится иметь дело с плотью». Он благодарен за то, что его ум тем самым сбросил «большую часть своего бремени»[309].
Один из недостатков старости заключается в том, что она приносит осознание неизбежности смерти. В юности мы обманываем себя, что смерть касается кого-то другого. В зрелом возрасте понимаем, что умрем, но рассчитываем, что у нас есть еще несколько десятков лет. Состарившись, со всей остротой ощущаем близость смерти – если не завтра, то скоро. Для большинства людей это делает старость самым депрессивным этапом жизни.
Однако стоические философы полагали, что перспектива смерти не угнетает, а делает жизнь приятнее, чем она была бы без нее. Мы рассматривали этот кажущийся парадокс в главе 4. Размышляя о том, насколько хуже нам могло бы быть (в частности, представляя собственную смерть), мы увеличиваем свои шансы ощутить радость. В молодости мысли о своей смерти требуют усердия; в преклонном возрасте нужно приложить усилие, чтобы не думать о ней. Следовательно, старость побуждает нас делать то, что, по стоикам, мы и так должны были практиковать всю жизнь.
Таким образом, близость смерти, вместо того чтобы угнетать, может пойти нам на пользу. В юности нам казалось, что мы будем жить вечно, поэтому принимали пробегавшие дни как данность и в результате потратили многие из них впустую. В старости проснуться следующим утром – уже повод для праздника. Как замечает Сенека, «если бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью»[310]. И встретив с радостью еще один отведенный нам день, мы сможем прожить его с благодарностью. Нет ничего невозможного в том, чтобы восьмидесятилетняя бабушка была счастливее своей двадцатилетней внучки, особенно если первая (отчасти по причине слабого здоровья) ничто не принимает как должное, в то время как вторая (отчасти по той причине, что практически здорова) принимает все вокруг и потому уже решила, что жизнь скучна.
Из множества жизненных философий стоическая особенно пригодна на исходе жизни. Для большинства старость – сложнейший период. Стоицизм же прежде всего учит не только справляться с жизненными трудностями, но и сохранять при этом спокойствие. В свою очередь, пожилые люди способны в большей мере оценить предлагаемую стоиками безмятежность, чем молодежь. Юношу может озадачить, что кто-то ищет в жизни «просто спокойствия»; восьмидесятилетний старик знает не только насколько драгоценно это чувство, но и сколь немногим удалось его обрести.
Отчасти именно поэтому Музоний советует принимать стоицизм молодыми – это лучший способ подготовиться к старости. По его словам, тот, кто последует этому совету, не будет по мере старения жаловаться на утрату молодости и ее удовольствий, слабеющий организм, пошатнувшееся здоровье и пренебрежение со стороны родственников, ибо «против всего этого у него будет отличное лекарство в собственном его уме – полученное им обучение»[311].
Если же мы не обратились к стоической философии в молодости, ничто не мешает наверстать упущенное на склоне лет. Процесс старения может помешать заниматься боксом или решать дифференциальные уравнения, но практически никогда – практиковать стоицизм. Даже самые дряхлые и немощные старики способны читать стоиков и размышлять над их идеями. Им под силу заниматься негативной визуализацией и не волноваться о вещах, находящихся вне их контроля. Но что самое важное, ничто не помешает им стать фаталистами в отношении прошлого, отказавшись проводить свои последние годы в бессмысленных сетованиях, что все могло бы сложиться иначе.
Глава 18. Смерть. О хорошем завершении хорошей жизни
Обычно старость считают несчастьем не из-за дряхлости и сопутствующих болезней, указывает Музоний, а из-за близкой смерти[312]. Но почему все – и стар и млад – так обеспокоены перспективой смерти? Некоторых страшит их загробная участь. Однако гораздо больше людей испуганы тем, что прожгли свою жизнь, то есть прожили ее, не обретя ничего по-настоящему ценного. Смерть лишает их последнего шанса на это.
Как ни парадоксально, непротиворечивая философия жизни, стоическая или какая-нибудь другая, помогает спокойнее принять смерть. Поскольку приверженец такой философии знает, какие вещи в жизни стоят того, чтобы к ним стремиться, он уделит время их обретению и, вероятно, достигнет своих целей в той мере, в какой для него возможно. Следовательно, на смертном одре он не будет чувствовать себя обманутым. Напротив, говорит Музоний, такой человек «уж во всяком случае избавится от страха перед смертью»[313].
Возьмите, к примеру, последние дни стоического философа Юлия Кана. Когда Калигула, которого разгневал Кан, приговорил его к смерти, стоик сохранил самообладание: «Весьма благодарен, император». Через десять дней центурион пришел отвести Кана на казнь и застал его играющим в настольную игру. Вместо того чтобы горько жаловаться на судьбу или умолять о пощаде, Кан предупредил центуриона, что у него на одно очко больше, поэтому, если после его смерти противник заявит, что выиграл, это будет ложь. Спрошенный по дороге на казнь о душевном состоянии Кан отвечал, что готовится наблюдать момент смерти, чтобы узнать, ощущает ли в это мгновение душа, что покидает тело. Сенека одобрительно восклицает: «Вот какое спокойствие в столь бедственном положении!» И подчеркивает, что «никто не философствовал дольше»[314].
Те же, чья жизнь прошла без непротиворечивой философии, будут отчаянно пытаться отдалить смерть. Отсрочка им нужна, поскольку они определили – наконец-то! – по-настоящему ценную для себя вещь, которой хотят успеть добиться. (Прискорбно, что их осенило так поздно, но, как замечает Сенека, «подоспеет конец – тогда и станет ясно, что ты успел»[315].) Или потому, что, согласно их импровизированной жизненной философии, главное в жизни – иметь всего побольше, а смерть, очевидно, положит этому накопительству конец.
Здесь читатель может прийти к выводу, что стоики одержимы смертью. Они советуют представлять собственную смерть. Говорят жить каждый день так, как если бы он был последним. Призывают заниматься стоической философией в том числе потому, что она избавляет от страха смерти.
Помимо кажущейся зацикленности на смерти у стоиков была злополучная традиция умирать неестественным образом. Первые греческие стоики Зенон и Клеанф, по-видимому, покончили с собой[316], самоубийство Катона неоспоримо. Неясно, как умер Музоний, но при жизни он тоже был сторонником суицида. Например, советовал пожилым людям ловить «время, чтобы умереть хорошо, пока это возможно, а то как бы не вышло так, что немного спустя придется тебе умереть, а хорошо умереть уже не получится». По его словам, «блажен не тот, кто умирает поздно, а тот, кто хорошо и благостно»[317].
Многие стоики, не совершавшие самоубийства открыто, тем или иным образом приближали смерть. Почувствовав ее близость, Марк Аврелий отказался от пищи. Сенека своим поведением навлек на себя смертный приговор, хотя мог избежать такого развития событий. То же самое касается Тразеи Пета и Бареи Сорана. Узнав о кончине всех этих стоиков, читатели могут заключить, что стоицизма следует избегать всякому, кто любит жизнь и желает умереть естественной смертью.
В ответ на эти опасения позвольте мне для начала отметить, что на самом деле нам неизвестно, действительно ли уровень неестественных смертей среди стоиков был необычайно высоким для Античности. Далее, во множестве случаев, когда стоики как-либо торопили смерть, их мотивы можно понять и объяснить. Так, нельзя исключать, что дожившие до глубоких седин Зенон и Клеанф совершили не столько «самоубийство», сколько добровольную эвтаназию: будучи неизлечимо больными, они могли предпринять шаги, чтобы ускорить смерть (именно это сделал и Марк Аврелий). И хотя Катон покончил с собой в расцвете сил, им руководило не безразличие к жизни, а осознание того, что его пленение политически выгодно Юлию Цезарю – диктатору, против которого он сражался. Чего мы не найдем в биографиях стоиков, так это нигилистов, расстающихся с жизнью по прихоти или потому, что она им наскучила.
Стоики размышляют о смерти не потому, что жаждут умереть, а чтобы получить максимум от жизни. Как мы уже видели, тот, кто думает, что будет жить вечно, растратит гораздо больше дней напрасно, чем твердо знающий, что его дни сочтены (а один из способов обрести это знание – периодически размышлять о смерти). Точно так же если стоик проживает день так, будто он последний, то вовсе не потому, что и вправду планирует сделать его таковым, а чтобы осознать всю ценность этого дня – и тех, которые за ним последуют. Наконец, когда стоики учат не бояться смерти, они просто объясняют, как избежать негативных эмоций. В конце концов, все мы умрем – и лучше, если наш последний миг не будет омрачен страхом.
Важно также не забывать, что стоики считали самоубийство допустимым только при определенных обстоятельствах. Как говорит Музоний, нельзя выбирать смерть, если наша жизнь «полезна многим»[318]. Поскольку стоики, исполняя свой долг перед обществом, полезны многим, подобные обстоятельства редко благоволят уходу из жизни.
В свете вышесказанного давайте вернемся к утверждению Музония, что старикам, чувствующим приближение смерти, стоит подумать о самоубийстве. Этот случай, как кажется, удовлетворяет поставленному условию: в конце концов, маловероятно, чтобы чье-то благополучие зависело от старого и больного человека. Кроме того, в таких случаях вопрос не в том, скоро ли умрет человек; вопрос в том, умрет ли он хорошей смертью от собственных рук или бессмысленной в своей болезненности смерти по естественным причинам. Музоний призывает не только жить хорошей жизнью, но и окончить ее, когда это возможно, хорошей смертью.
И последнее замечание о взглядах стоиков на смерть. Как вы могли убедиться, они были склонны занимать принципиальную позицию против власть имущих, навлекая на себя неприятности. Зачем они поступали так? Прежде всего потому, что считали это своим обязательством перед обществом. Более того, поскольку они не боялись ни смерти, ни изгнания, перспектива быть наказанными за такую позицию – перспектива, которая отпугнула бы обычных людей, – не страшила их.
Для многих современных людей такое поведение необъяснимо. Отчасти это связано с тем, что для них в жизни нет ничего, за что стоило бы умереть. Действительно, все их силы брошены не на исполнение долга и не на защиту радикальной точки зрения, чреватой серьезными проблемами, а на то, чтобы не прекращать наслаждаться удовольствиями, которые подкидывает жизнь. Уверен, к таким людям стоики обратились бы с вопросом: стоит ли хоть чего-то жизнь, если в ней нет ничего, ради чего стоит умереть?
Глава 19. Как стать стоиком? Начните сейчас же и не бойтесь насмешек
Практиковать стоицизм нелегко. Немалых усилий потребует негативная визуализация, еще больших – практика самоотречения. Понадобятся как усилия, так и сила воли, чтобы отказаться от прежних целей наподобие славы и богатства и заменить их новой, а именно безмятежностью.
Услышав, что для следования жизненной философии придется приложить усилия, некоторые тут же ставят крест на ней. В ответ на это неприятие стоики заметили бы: чтобы практиковать стоицизм, действительно требуются усилия – но значительно больше уходит, если не практиковать его. По этому поводу, если помните, Музоний говорит, что люди тратят на тайные любовные связи гораздо больше времени и энергии, чем им потребовалось бы для выработки самоконтроля, позволяющего избегать таких отношений. Как он перечисляет далее, нам также будет гораздо лучше, если вместо того, чтобы усердно трудиться ради богатства, мы приучим себя довольствоваться тем, что имеем; вместо того чтобы искать славы, преодолеем зависимость от восхищения окружающих; вместо того чтобы тратить время на интриги в попытках навредить тому, кому мы завидуем, потратим его на подавление чувства зависти; вместо того чтобы изо всех сил пытаться стать популярными, будем поддерживать и укреплять наши отношения с теми, в чьих дружеских чувствах мы уверены[319].
В более широком смысле жизненная философия, стоицизм или какая-то другая, значительно упрощает повседневную жизнь. Если у вас она есть, процесс принятия решений предельно прост: оценивая разные варианты, которые предлагает жизнь, вы просто выбираете тот, который с наибольшей вероятностью поможет достичь целей сообразно вашей жизненной философии. В отсутствие же таковой даже простейший выбор может перерасти в жизненный кризис. В конце концов, трудно понять, что выбрать, если вы не знаете твердо, чего хотите.
Но самая важная причина для принятия жизненной философии заключается в том, что без нее мы рискуем прожить жизнь насмарку, то есть потратить ее, преследуя цели, которые не стоили того, либо преследуя стоящие цели неразумными средствами, из-за чего так и не сможем их достичь.
Любой, кто хочет стать стоиком, должен делать это ненавязчиво. Ибо, прознав о вашем «обращении» в стоицизм, многие наверняка начнут высмеивать вас[320]. Такого рода глумления можно избежать, если не выставлять напоказ свою философскую позицию, практикуя то, что можно было бы назвать скрытым стоицизмом. Следует брать пример с Сократа, который держался настолько неприметно, что собеседники, не понимая, что перед ними философ, спрашивали, может ли он познакомить их с какими-нибудь философами. Как напоминает Эпиктет, Сократ «переносил пренебрежение к себе»[321] – и тот, кто практикует стоицизм, должен переносить точно так же.
Почему люди так себя ведут? Издеваются над кем-то за то, что тот придерживается определенной жизненной философии? Отчасти потому, что, принимая ее, человек демонстрирует: у него другие ценности, чем у них. Отсюда они могут заключить: этот человек считает, что их ценности в чем-то ошибочны, а людям такое отношение не нравится. Кроме того, своим философским обращением он фактически бросает им вызов, побуждая к тому, что им меньше всего хочется делать: размышлять над своей жизнью и тем, как они ее проживают. Если бы новообращенный бросил свою философию, подразумеваемый вызов растворился бы в воздухе, поэтому они начинают насмехаться над ним, пытаясь вернуть к нерефлексирующим массам.
Какова будет награда за то, что мы практикуем стоицизм? Согласно стоикам, мы станем более добродетельными в античном смысле этого слова. Будем испытывать меньше негативных эмоций (гнева, горя, разочарования и тревоги), благодаря чему обретем такую степень безмятежности, которая прежде была недостижима. Вместе с уменьшением негативных эмоций мы повысим наши шансы на одну особенно важную позитивную – восторг от окружающего мира.
Большинству людей для переживания восторга требуется перемена обстоятельств – например, покупка нового гаджета. Стоики не нуждаются в такого рода подпитках, чтобы прийти в восторг: благодаря практике негативной визуализации они будут ценить то, что у них уже есть. Кроме того, испытываемое большинством чувство восторга всегда несколько омрачено страхом потерять его источник. Стоики же вооружены трехэтапной стратегией, позволяющей минимизировать этот страх или вообще избежать его.
Во-первых, они делают все возможное, чтобы наслаждаться вещами, которые нельзя отнять у них, особенно личными качествами. Как говорит Марк Аврелий, даже став жертвой катастрофы, мы все равно можем радоваться тому факту, что не были сломлены ей благодаря своему характеру[322].
Во-вторых, наслаждаясь также и теми вещами, которые могут быть отняты (стоицизм, как вы могли убедиться, не запрещает этого), одновременно они будут готовиться к их потере. В рамках практики негативной визуализации напоминая себе: мы наслаждаемся тем, чем наслаждаемся, по счастливой случайности; наслаждение этой вещью может внезапно оборваться; вполне возможно, мы никогда не сможем насладиться ею вновь. Другими словами, нужно научиться радоваться вещам, не чувствуя никаких прав на них и не привязываясь.
В-третьих, стоики следят за тем, чтобы не превратиться в привередливых ценителей в худшем смысле этого слова – то есть в людей, удовлетворить которых можно только «самым лучшим». Благодаря этому они способны наслаждаться широким спектром доступных вещей. Они будут твердо помнить слова Сенеки, что «никто не может иметь все, чего захочет, – зато всякий может не хотеть того, чего не имеет, и с радостью обойтись тем, что под рукой»[323]. Таким образом, если жизнь вырвет у стоика один источник удовольствия, он быстро подыщет взамен другой: стоическое наслаждение, в отличие от испытываемого привередами, в высшей степени взаимозаменяемо. Вспомните, как угодившие в ссылку Сенека и Музоний не впали в депрессию, а принялись исследовать новую среду обитания.
Поскольку стоики научились получать удовольствие от вещей, которые легко раздобыть или нельзя отнять, жизнь преподносит им много приятного. В результате они ощущают, что им нравится быть тем, кто они есть, жить той жизнью, какой они живут, во Вселенной, обитателями которой им выпало быть. Это, должен сказать, немалое достижение.
Еще стоикам приносят удовольствие не только те или иные вещи в жизни, но и сам факт того, что они живы: одним словом, они испытывают радость per se. Стоический мудрец, очевидно, ощущает ее непрерывно[324]. Те же, чья практика стоицизма далека от совершенства, на это неспособны: доступная нам радость, напротив, лучше всего может быть описана как прерывистая. Тем не менее даже такая радость будет значительно глубже той, которая была знакома нам прежде, – что тоже немалое достижение.
Когда же мы должны приступать к стоической практике? Эпиктет приводит доводы в пользу безотлагательности. Мы уже не дети, говорит он, а все еще медлим. Продолжайте в том же духе, и в один прекрасный день обнаружите, что состарились, так и не овладев никакой философией жизни, а саму жизнь потратили впустую. Практика стоицизма, добавляет он, подобна подготовке к Олимпийским играм, но с одним важным отличием: если олимпийские соревнования, к которым мы готовились бы, пройдут в будущем, то состязание, представляющее собой нашу жизнь, уже идет. Следовательно, откладывать подготовку – роскошь, которую мы не можем позволить себе. Мы должны начать прямо сегодня[325].
Часть IV. Стоицизм в современной жизни
Глава 20. Закат стоицизма
Марк Аврелий был одновременно философом-стоиком и, как римский император, самым могущественным человеком западной цивилизации. Такой синтез философии и политики мог принести стоицизму большую пользу, но Марк Аврелий не пытался склонить своих собратьев-римлян к философии. В результате, по утверждению историка Уильяма Лекки, он стал «последним и достигшим наивысшего совершенства представителем римского стоицизма»[326]. После его смерти эта философия пришла в упадок, от которого ей еще только предстоит оправиться.
Падение популярности стоицизма, как и любое сложное социальное явление, обусловлено несколькими факторами. По словам Уильяма Лекки (чьи взгляды, как мне говорили, теперь не в почете), из-за растущей развращенности и порочности римского общества стоицизм, требующий значительного самоконтроля, оказался непривлекателен для большинства римлян[327]. Филолог-классик Мартин Кларк предлагал другое объяснение: Стоя пришла в упадок не в последнюю очередь из-за отсутствия выдающихся учителей после смерти Эпиктета[328]. Связно излагать принципы философии умеют многие, но жизненная сила стоицизма заключалась в том, что такие люди, как Музоний Руф и Эпиктет, не только объясняли учение, но и в некотором смысле служили его воплощением. Они были ходячим доказательством того, что философия приносит плоды, обещанные стоиками. Когда же стоицизм преподавали простые смертные, он далеко не так сильно увлекал умы потенциальных учеников.
Еще один удар по Стое нанес подъем христианства, в том числе из-за сходства некоторых христианских положений со стоическими. Согласно стоикам, боги сотворили человека, заботятся о его благополучии и наделили частицей божественной природы, а именно разумом. Христиане верили, что человек сотворен богом, который заботится о нем и наделил божественной природой – душой. И стоицизм, и христианство велели преодолевать нездоровые желания и стремиться к добродетели. Совет Марка Аврелия «любить род человеческий» найдет отклик в сердце каждого христианина[329].
Эти сходства заставляли стоиков и христиан конкурировать за одних и тех же потенциальных приверженцев. Но христианство в этом соревновании имело весомое преимущество: оно сулило не просто жизнь после смерти, но загробную жизнь, обещавшую вечное блаженство. Стоики не были уверены в жизни после смерти, а если и допускали ее существование, то не знали, какой именно она будет.
После смерти Марка Аврелия стоицизм сошел со сцены, лишь изредка выходя на свет божий[330]. В XVII веке его следы можно найти у Рене Декарта в «Рассуждении о методе». В этом трактате французский философ среди прочего перечисляет принципы, помогающие ему жить настолько счастливо, насколько это возможно. Третий из них он мог почерпнуть – и скорее всего, в самом деле почерпнул – у Эпиктета: «Всегда стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира, и вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находятся только наши мысли и что после того, как мы сделали все возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует рассматривать как нечто абсолютно невозможное»[331]. (Обратите внимание на интернализацию целей, которая подразумевается в словах Декарта о том, что мы должны «сделать все возможное».)
В XIX веке влияние стоицизма прослеживается в философии Артура Шопенгауэра. Его произведения «Афоризмы житейской мудрости» и «Поучения и максимы» не являются стоическими в строгом смысле слова, но имеют ярко выраженный стоический оттенок. По другую сторону Атлантики в ту же самую эпоху к стоицизму склонялись некоторые представители новоанглийского трансцендентализма[332]. Хотя Генри Дэвид Торо ни разу не упоминает стоиков в своем шедевре «Уолден, или Жизнь в лесу»[333], для тех, кто знает, что искать, стоическое влияние налицо. В дневнике Торо откровеннее: «Зенон-стоик занимал по отношению к миру точно такую же позицию, какую занимаю сейчас я»[334].
Подобно стоикам Торо был заинтересован в выработке философии жизни. По словам исследователя Роберта Ричардсона, у него на уме «всегда был практический вопрос: как жить изо дня в день лучше всего?» Его жизненный путь представлял собой «непрерывный поиск конкретного практического воплощения стоической идеи, что законы, управляющие природой, управляют также и человеческой жизнью»[335]. Свой знаменитый эксперимент – два года дикарской жизни на берегу Уолденского пруда – Торо провел во многом ради того, чтобы отточить жизненную философию и тем самым избежать риска прожить жизнь зря. По собственному признанию, он удалился в лес в первую очередь для того, «чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил»[336].
Некоторые друзья, осознавая или нет тягу Торо к стоицизму, попрекали его в стоическом (в бытовом смысле) настрое – то есть в мрачности и бесчувственности. По словам Ричардсона, это обвинение беспочвенно. Хотя окружающие могли этого и не замечать, Торо, по-видимому, было знакомо то чувство радости, которое искали стоики. Это заметно, например, по его утверждению, что «радость, несомненно, есть условие жизни»[337]. Ричардсон пишет, что дневник Торо «полон рассуждений, отражающих его энтузиазм, его жажду жизни, остроту его чувств, чистую радость быть живым»[338].
На протяжении большей части XX века никому не было дела до стоицизма[339]. Как заметила Марта Нуссбаум, философы этого столетия (как в Европе, так и в Северной Америке) обращались к стоицизму и другим эллинистическим учениям, в том числе эпикурейству и скептицизму, реже, чем «любая другая философская культура Запада начиная с IV века до н. э.»[340]. На рубеже тысячелетий большинство людей отказались бы рассматривать стоицизм в качестве жизненной философии. Главным образом потому, что вообще не видели нужды в таковой. Но даже те из них, кто искал философию жизни, редко рассматривали всерьез стоическую. Они полагали, что имеют представление о стоицизме – доктрине, чьи сторонники лишены чувства юмора, угрюмы и безэмоциональны. Кто захочет присоединиться к таким персонажам?
Если книга выполнила свою задачу, читатели осознают, сколь далеки от реальности эти представления. В стоиках нет ничего «стоического» в словарном понимании! Их жизнь не была безрадостной! Более того, они радовались ей чаще, чем большинство нестоиков.
Однако осознания этого редко бывает достаточно, чтобы преодолеть неприязнь к стоицизму. Даже признав стоиков совершенно нормальными людьми, способными радоваться и даже достойными нашего восхищения, окружающие продолжают относиться к ним с некоторой враждебностью. А потому давайте изучим некоторые причины этого неприятия – начиная с тезиса, что современная психология доказывает ошибочность стоицизма в качестве философии жизни.
Стоики совершили много важных психологических открытий. Например, что болезненны не оскорбления, а их интерпретация. Или что негативная визуализация учит радоваться тому, что у нас уже есть, тем самым противодействуя нашей склонности постоянно желать большего.
Даже если противники стоиков признают важность этих наблюдений, они настаивают, что за два тысячелетия, минувших с размышлений римских философов о человеческой психике, многое изменилось. В частности, психология в XX веке превратилась в полноценную научную дисциплину. Антистоики указывают, что одно из самых значимых открытий последних ста лет заключалось в осознании опасности, которой люди подвергают себя, если пытаются подавлять эмоции на манер стоиков. Действительно, психотерапевты сходятся во мнении, что мы должны прислушиваться к своим эмоциям: не отрицать их, а осознавать и принимать, не держать в себе, а давать им выход. И если нас беспокоят негативные эмоции, следует не разбираться с ними самостоятельно, а обратиться за помощью к психотерапевту, ведь это его вотчина.
Возьмем, к примеру, чувство горя. С точки зрения современной психологии, подчеркнут антистоики, это совершенно естественная реакция на приключившуюся с вами беду. Скорбящий человек должен излить свое горе, а не подавлять его. Если ему хочется плакать – пусть плачет. Пусть поделится переживаниями с друзьями и родственниками или обратится к профессиональному психотерапевту, который будет периодически проводить с ним встречи, обсуждая эти переживания и помогая справиться с ними. Если же он последует совету стоиков и попробует подавить горе, то в краткосрочной перспективе может облегчить свои мучения, но запрограммирует себя на эффект «отсроченного горя» спустя многие месяцы или даже годы.
Несомненно, определенным людям, переживающим горе, при определенных обстоятельствах пойдет на пользу психологическое консультирование. Однако психологи единодушны в том, что это на пользу всем без исключения, что в итоге сказалось на практике оказания помощи пережившим природные катастрофы и антропогенные аварии. В наши дни, сделав все необходимое для спасения жертв, власти спешат вызвать специалистов, занимающихся консультированием и терапией горя[341], чтобы помочь тем, кто пережил катастрофу, потерял близких или стал свидетелем произошедшего. Например, после теракта 1995 года в федеральном комплексе имени Альфреда П. Марра в Оклахома-Сити, унесшего жизни 168 человек, город заполонила целая армия психологов. Точно так же, когда в 1999 году два старшеклассника устроили стрельбу в школе «Колумбайн» в Литтлтоне, штат Колорадо, убив двенадцать человек и ранив еще два десятка, преодолеть горе выжившим ученикам, их родителям и местным жителям помогала бригада психологов[342].
Весьма поучительно сопоставить эти меры с тем, как власти реагировали на чрезвычайные происшествия в середине XX века. Когда, например, в 1966 году оползень с угольного карьера похоронил под собой деревенскую школу в Аберфане, Южный Уэльс, родители 166 погибших детей остались наедине со своим горем[343]. Многие перенесли трагедию с присущей британцам стойкостью. Но уже к концу столетия едва ли удалось бы найти психотерапевта, который в качестве адекватной реакции на такую трагедию рекомендовал бы проявлять стойкость духа.
В ответ на эту критику стоической психологии позвольте мне напомнить, что стоики, несмотря на расхожее мнение, не призывали «держать эмоции в себе». Они действительно советовали принимать меры для предотвращения негативных эмоций и преодоления в том случае, если избежать их не удалось. Но это не то же самое, что сдерживать их: если эмоция предотвращена или преодолена, вам просто нечего будет держать в себе.
Представим, что стоик оплакивает потерю близкого человека. Чего он не будет делать, так это пытаться заглушить горе – скажем, прикидываясь равнодушным или сдерживая слезы. Вместо этого он вспомнит слова Сенеки Полибию: тому, кто переживает личную трагедию, совершенно естественно скорбеть. Однако после рефлекторно нахлынувшего горя стоик приложит усилие, чтобы развеять остатки этого чувства доводами разума. В частности, оживит в памяти аргументы из увещеваний Сенеки: «Разве умершая хотела бы, чтобы я так убивался? Конечно нет! Она хотела бы видеть меня счастливым! Лучший способ почтить ее память – перестать скорбеть и жить дальше».
Стоики боролись с горем, поскольку это негативная эмоция. В то же время они понимали: будучи простыми смертными, мы неминуемо время от времени испытываем горе – как и страх, тревогу, гнев, ненависть, унижение и зависть, поэтому их цель состояла не в полном устранении этого чувства, а в сведении его к минимуму.
Тут антистоик заметил бы, что минимизировать горе не так плохо, как подавлять, но все равно неправильно. По мнению психотерапевтов, горе следует проработать. Конечно, противодействие ему средствами разума – один из вариантов проработки, но гораздо лучше вызвать какую-нибудь распространенную реакцию, связанную с горем: например, как следует выплакаться, даже если не очень хочется. Или излить душу перед кем-то, даже если вы не склонны эмоционально раскрываться. Но самое главное, если вы убиты горем, обратиться к профессионалу, который поможет проработать это состояние.
В ответ я поставил бы под вопрос нынешние психологические воззрения на то, как стоит обходиться со своими эмоциями. Я подверг бы сомнению разделяемое многими психотерапевтами убеждение, будто мы недостаточно подготовлены к тому, чтобы справиться с горем самостоятельно. Уверен, в эмоциональном плане люди гораздо менее хрупки и более устойчивы, чем кажется большинству психотерапевтов.
Чтобы понять мою точку зрения, давайте вернемся к катастрофе в Аберфане. Родители, чьи дети были погребены заживо под оползнем, пережили глубочайшую травму, не получив никакой профессиональной поддержки. Согласно нынешнему психологическому консенсусу, без терапии эти люди должны были оказаться эмоционально раздавлены. Правда же заключается в том, что они обошлись без посторонней помощи[344]. Твердость характера сослужила им отличную службу.
За другим примером самостоятельной работы с негативными эмоциями обратимся к бедственному положению британцев во время Второй мировой. Когда разразилась война, психологи опасались, что психиатрические лечебницы переполнятся гражданскими, неспособными вынести ужасы военного времени. Однако оказалось, что жители Великобритании вполне способны постоять за себя в эмоциональном плане: психических расстройств не стало больше[345]. В отсутствие профессиональной психологической помощи у британцев не было иного выбора, кроме как встретить невзгоды со стоической решимостью, – и для них эта самотерапия оказалась в высшей степени успешной.
Ладно бы, если психотерапия горя была неэффективна. В некоторых случаях она, судя по всему, усугубляет и продлевает состояние пациентов, то есть делает только хуже. Одно из исследований, посвященных эффективности терапии горя, проводилось среди родителей, потерявших малышей из-за синдрома внезапной детской смерти. Сравнивалось состояние родителей, которые сознательно прорабатывали утрату согласно психотерапевтическим принципам, и тех, которые этого не делали. Через три недели после смерти ребенка сильнее страдали родители из первой группы, и даже спустя полтора года они испытывали больший эмоциональный дискомфорт. Очевидный вывод состоит в том, что «принудительное горевание» в рамках психотерапии горя способно не излечить, а затормозить естественный процесс выздоровления: это психологический эквивалент ковыряния корки на ране. Схожие исследования проводились среди лиц, переживших холокост, женщин, подвергшихся насилию, и мужчин, потерявших партнеров из-за СПИДа, – и давали схожие результаты[346].
Но что насчет отсроченного горя? Досрочно переставая горевать, не обрекаем ли мы себя на гораздо более тяжелые мучения позже? Эксперты не сомневаются в существовании подобного феномена[347]. Хочу ли я сказать, что они заблуждаются?
Именно так. Понятие отсроченного горя, по всей видимости, впервые появилось в статье 1937 года The Absence of Grief психиатра Хелен Дойч. По ее словам, если человек не переживает и не оплакивает утрату, это спровоцирует горе в будущем, «такое же свежее и интенсивное, как если бы несчастье только что произошло»[348]. К сожалению, Дойч не удосужилась проверить свою гипотезу эмпирическим путем. Ученых, пытавшихся сделать это впоследствии, ждало разочарование: случаи отсроченного горя оказались довольно редки[349].
Психиатр Салли Сэйтл и философ Кристина Хофф Соммерс в книге, оспаривающей некоторые положения современной психотерапии, пишут: «Как показывают недавние исследования, сдержанность и подавление чувств, отнюдь не угрожая психологическому благополучию, могут быть здоровыми и адаптивными чертами. Чрезмерный акцент на интроспекции и самораскрытии может быть депрессивен для обладателей самых разных темпераментов. Реакции перенесших какую-либо утрату или трагедию значительно различаются: кому-то терапевтическое вмешательство идет на пользу; большинству людей – нет, поэтому психотерапевты не должны склонять их к определенному эмоциональному отклику. Психологи и психотерапевты массово ошибались в этом отношении». Авторы отвергают общепринятую ныне доктрину, что «для психического здоровья необходима полная эмоциональная открытость»[350].
Наконец, следует отметить, что, хотя советы стоиков об управлении негативными эмоциями старомодны, это не делает их менее действенными. По словам Сенеки, «каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным», поэтому он призывает «отбросить все жалобы на миновавшую боль, все речи вроде этих: “Никому не бывало хуже! Какие муки, какие страданья я перенес!”» В конце концов, какой смысл «быть несчастным от прежних несчастий»?[351]
Еще одно препятствие на пути стоицизма – современная политика. Мир полон политиков, голосящих, что мы несчастны не по своей вине. Напротив, наше несчастье вызвано действиями (или бездействием) государства. В стремлении к счастью нас, граждан, поощряют прибегать к политике, а не философии. Маршировать по улицам или писать петиции парламентариям, а не читать Сенеку или Эпиктета. И что еще важнее, поощряют голосовать за кандидата, заверяющего, что он сделает нас счастливыми – стоит только дать ему полномочия.
Стоики, конечно, отвергали такого рода мышление. Они были убеждены, что между большинством из нас и счастьем стоит не правительство или общество, а дефекты нашей жизненной философии – или вообще неспособность выработать таковую. Да, правительство и общество в значительной степени определяют внешние обстоятельства нашей жизни, но стоики хорошо понимали: между данными обстоятельствами и тем, насколько мы счастливы, в лучшем случае существует лишь слабая связь. Сосланный на необитаемый остров вполне может оказаться счастливее того, кто живет в роскоши.
Стоики знали не понаслышке, что государство может причинять зло гражданам: в Риме, как вы помните, они то и дело оказывались жертвами несправедливого наказания со стороны властей. Они согласились бы с нынешними реформаторами в том, что борьба с социальной несправедливостью – наш долг. Но разошлись бы в понимании человеческой психологии. Стоики, например, не находят ничего полезного в том, чтобы человек считал себя жертвой общества – да и вообще чьей бы то ни было, раз уж на то пошло. Тому, кто так о себе думает, хорошая жизнь не светит. Но если вы отказываетесь считать себя жертвой – то есть признавать свое внутреннее «я» побежденным внешними обстоятельствами, – ваша жизнь будет хорошей, как бы эти обстоятельства ни обернулись. (В частности, полагали стоики, человек способен оставаться безмятежным, даже подвергшись наказанию за попытку реформировать окружающее его общество.)
Другие могут контролировать, как вы живете и даже живете ли вообще, но разрушить вашу жизнь не в состоянии. Это только в нашей власти: мы разрушим свою жизнь, если не будем жить сообразно с правильными ценностями.
Стоики верили в преобразование не только общества, но и личности. Точнее, они верили, что на пути к такому обществу, где хорошей жизнью живут все, первым делом следует научить людей делать свое счастье как можно менее зависимым от внешних обстоятельств. Изменение самих обстоятельств – лишь второй шаг в преобразовании общества. На взгляд стоиков, если мы не в состоянии преобразить себя, то не достигнем хорошей жизни, сколько бы ни реформировали общество, в котором живем.
Многие думают, что счастье должен даровать им кто-то другой, будь то психотерапевт или политик. Стоицизм отвергает это. Он учит, что мы в большей мере, чем кто-либо, ответственны как за свое счастье, так и за несчастье. Только взяв ответственность на себя, человек получает реальный шанс стать счастливым. Это, безусловно, не то, чего хотела бы услышать преданная аудитория психотерапевтов и политиков.
Если стоицизм чужд современной психологии и политике, то нынешней философии тем более. До XX века все, кто имел то или иное отношение к философии, практически наверняка были знакомы со стоиками. Однако в XX веке философы утратили интерес не только к стоицизму, но и к философии жизни в целом. Стало возможно, как показывает мой собственный опыт, провести на философском факультете десять лет, ни разу не открыв стоиков и не потратив ни минуты на обдумывание философии жизни, не говоря уже о ее принятии.
Философы потеряли интерес к стоицизму отчасти из-за посетившей их в первые десятилетия XX века догадки, что многие традиционные философские проблемы вызваны небрежным использованием языка. Отсюда следовало, что решение этих проблем лежит в плоскости не исследования человеческой природы (как поступали стоики), а чрезвычайно тщательного анализа языка и того, как он применяется. Одновременно с лингвистическим поворотом у профессиональных философов росло убеждение, что философия не имеет ничего общего с тем, чтобы учить жизни.
Спросив Эпиктета, что вам делать для хорошей жизни, вы тут же услышали бы: «Живи согласно природе». Затем он в мельчайших подробностях объяснил бы, как это делается. Если бы вы подошли с тем же вопросом к аналитическому философу XX века, вместо ответа он, вероятно, проанализировал бы сам вопрос: «Все зависит от того, что вы имеете в виду под “хорошей жизнью”. Это, в свою очередь, зависит от того, что имеется в виду под “хорошей” и под “жизнью”». Затем он перечислил бы все возможные значения ваших слов, объяснив, почему каждое из них логически запутанно, туманно и противоречиво. И пришел бы к выводу: вопрос о хорошей жизни не имеет смысла. Когда этот философ завершит свою тираду, вы можете поразиться его аналитическому таланту, но в то же время заключить – и не без оснований, – что ему явно не хватает последовательной философии жизни.
Последнее, но довольно весомое препятствие для принятия стоицизма сегодня – степень требуемого самоконтроля. Захотели немного известности? Это желание необходимо подавить. Замечтались об особняке с красивым интерьером? Гораздо лучше жить проще. Помимо жажды славы и богатства стоики призывали отбросить любые другие желания, мешающие исполнять долг и служить ближним. Долг был для них превыше всего; в отличие от множества современных людей стоики верили, что в жизни есть нечто большее, чем они сами.
Услышав о самоконтроле, которого требует стоицизм, многие откажутся рассматривать эту философию. Если у вас нет желаемого, рассуждают они, вы, очевидно, несчастливы. Следовательно, лучший способ стать счастливым – получить желаемое, а лучший способ сделать это – воспользоваться трехэтапной стратегией: во-первых, провести инвентаризацию желаний, скрывающихся в уголках вашей души; во-вторых, разработать план исполнения желаний; в-третьих, внедрить этот план. У стоиков же все ровно наоборот. В некоторых случаях они советуют не исполнять желания, а подавлять, в других – делать то, чего вы не желаете, ибо таков ваш долг. Стоицизм выглядит как верный рецепт несчастья.
Хотя предложенная стратегия счастья очевидна и использовалась на протяжении всей истории человечества большинством людей самых разных культур, она имеет серьезный дефект, который осознавали мыслящие люди: на месте каждого исполненного желания тут же рождается новое. Как бы человек ни трудился над исполнением желаний, состояние удовлетворенности будет так же далеко, как если бы он не претворил в жизнь ни одного. Иными словами, вы останетесь вечно неудовлетворенными.
Гораздо более надежный, хотя и менее очевидный способ достижения довольства – не исполнять желания, но обуздывать их. Для этого необходимо замедлить в себе процесс их формирования. Мы должны не утолять первое возникшее желание, а пресекать на корню и устранять многие из тех, что успели сформироваться. И вместо того чтобы постоянно хотеть нового – приучать себя желать того, что уже имеем.
Именно это советуют стоики. Стоицизм, может, и требует дисциплины и жертв во имя долга, но стоики указали бы, что мы с большей вероятностью достигнем счастья – и подлинной радости – на этом пути, чем если, подобно большинству, растратим жизнь, бросаясь исполнять любое желание, что приходит в голову.
Слово «жертва», которое я только что употребил, может ввести в заблуждение. Исполняя долг перед обществом, стоик не мыслит в терминах жертвенности. В идеале стоическая практика приводит к тому, что он желает то, что обязан делать. Если вам это кажется странным, подумайте о родительских обязанностях. Родители многое делают для своих детей, но родители-стоики (да и хорошие родители в целом) не считают воспитание обременительной задачей, требующей бесконечных жертв; напротив, они думают о том, как замечательно иметь детей и обладать возможностью изменить их жизнь к лучшему.
Стоики, как я уже говорил, не одни считали, что надежду на счастье дарит жизнь, посвященная самодисциплине и (до известной степени) самопожертвованию, а не потаканию желаниям. Схожих взглядов придерживались другие школы, в том числе эпикурейство и скептицизм, а также многие религии, включая буддизм, индуизм, христианство, ислам и даосизм. Вопрос здесь, по-моему, вовсе не в том, могут ли дисциплинированные и неукоснительно исполняющие долг люди вести счастливую и осмысленную жизнь, но в том, доступна ли такая жизнь тем, кто лишен самоконтроля и пребывает в уверенности, что нет ничего важнее их собственной персоны.
Глава 21. Открывая стоицизм заново
В предыдущей главе я описал закат стоицизма и возможные причины его полумертвого состояния сегодня. В этой же попытаюсь реанимировать стоическую философию. Моей целью при этом будет сделать ее более привлекательной для тех, кто ищет философию жизни.





