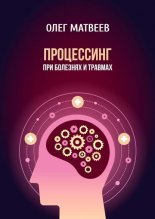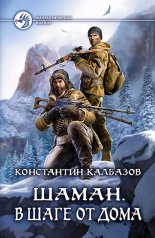Мама, я стану… Бронников Виктор

МАМА, Я СТАНУ…
В знак памяти и уважения к моим любимым, безвременно ушедшим родителям, а также бабушкам и дедушкам посвящаю:
моей родной сестре Людмиле Леонидовне,
супруге Ольге Борисовне и моим детям
Дмитрию, Марии и Ванечке,
а также всем нашим родным и близким с
пожеланиями доброго здоровья и долгих лет!
ЧАСТЬ 1. ЗАСТОЙ
Эпоха застоя – используемое в публицистике обозначение периода в истории СССР, охватывающего два с небольшим десятилетия: с момента прихода к власти Л. И. Брежнева (1964) до XXVII съезда КПСС (февраль 1986), а ещё точнее, до январского Пленума 1987 года, после которого в СССР были развёрнуты полномасштабные реформы во всех сферах жизни общества.
Каждый мечтает о счастье, и у всех получается по-разному.
Мы родились в начале шестидесятых, учились и взрослели в семидесятых и восьмидесятых, нас выплеснули в девяностые годы прошлого – уже прошлого! – века.
Пытались выживать, любить и строить семьи; как оказалось впоследствии, счастливых семей – единицы, остальные распались.
И, пережив нулевые, пройдя загадочный миллениум, те, кто остались, пытаются осмыслить своё настоящее и предугадать будущее.
ГЛАВА 1. БОГАТЫРЬ
Любили тебя без особых причин,
За то, что ты дочь, за то, что ты сын,
За то, что малыш, за то, что растёшь,
За то, что на папу и маму похож!
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей!
Валентин Берестов
Начало этой истории было положено в 1961 году, который современники отмечали с юмором как мистический. Если перевернуть все цифры этого года наоборот, получится всё тот же 1961.
В морозные дни того мистического года, после знаменитых ноябрьских праздников в родильном доме маленького уральского города появился на свет ещё один человек планеты Земля.
Родители, конечно же, были безмерно рады (наверное, зря – ведь сколько им потом пришлось испытать). Акушерка, принимавшая дитя, подала его измучившейся роженице со словами: «Поздравляю, у вас родился богатырь!»
Как отмечено в больничной карте диспансерного учёта – добром фолианте, насчитывающем уже более трёхсот страниц к восемнадцатилетнему возрасту, – вес младенца при рождении составил пять килограммов двести граммов, и рост пятьдесят четыре сантиметра (после окончания школы – рекордный вес: сто сорок один килограмм).
Так как детей с таким весом до того времени в этом городе не рождалось, а выписывать с такими параметрами было не принято, домой счастливый отец, ожидающий именно мальчика и поставивший на радостях рабочим своей бригады ящик огненной воды, привёз «ненаглядного», когда его вес снизился до четырёх килограммов восьмисот граммов за счёт «щадящей» диеты, а попросту говоря, доктора приносили ребёнка к матери, пропуская очередное кормление.
Ещё много цифр будет влиять на жизнь нашего героя впоследствии, но именно эта – пять двести, – как ему долгое время казалось, определила всю его судьбу.
Они росли параллельно, но в геометрической прогрессии. Его сверстники десять килограммов – он двадцать, они тридцать – он шестьдесят, они шестьдесят – он сто двадцать.
В пятилетнем возрасте с ним случилась ещё одна неприятность.
В те времена с детскими садами было напряжённо. После первой попытки устроить сына на недельный пансион, когда тот выл у окна и всё ждал родителей, отец забрал его домой, и его начали оставлять с одноногой крёстной бабушкой Соней (говорили, что она потеряла ногу на фронте), она была медсестрой и курила «Беломор».
И вот что случилась дальше. Двоюродный брат, который был постарше на пару лет, уговорил стащить у папы сапожный нож («заячью лапку», сделанную из автомобильной рессоры и поэтому очень прочную) и выстрогать из досочки ружьё, «как у солдат, охраняющих Мавзолей». Себе-то он выстрогал, а младшему, когда тот заканючил: «И мне, и мне такое», ответил: «У тебя будет настоящий нож».
Они зашагали по коридору барака, как настоящие часовые. Старший держал свежевыструганное ружьё, а младший – острейший нож. Барачные половицы горбом встали на пути у младшего, он споткнулся, и нож вонзился в голову, а точнее, в глаз. Он кричал, а потом выл, а потом всхлипывал, пока не прибежал отец, которого вызвали с завода с дневной смены. Нож при этом всё ещё торчал из глаза, и выдернуть его никто не смог: он застрял в лицевой подглазной кости.
Отец завернул мелкого в одеяло, и сосед из барака, стоявшего рядом, на своём новеньком мотоцикле (а до этого тысячу раз просили, чтобы прокатил, и вот повезло) привёз их в детскую городскую больницу – в те времена деревянное двухэтажное здание в больничном городке.
Детский хирург, женщина, оценила ситуацию мгновенно: «Сколько времени прошло после травмы?»
Отец начал объяснять, что пока прибежали на проходную, пока позвонили ему в цех, пока он, не переодевая рабочей одежды, прибежал домой, пока попробовал вытащить нож и понял, что сам не сможет, пока нашли соседа с мотоциклом… прошло, наверное, около полутора-двух часов.
Успокаивая осипшего, всхлипывающего мальчика, из глаза которого торчал сапожный нож, хирург сказала: «То, что нет обильного кровотечения – хорошо, значит, глаз не задет и, возможно, будет видеть. Всё понятно, теперь, отец, плотнее замотай сына в одеяло, будем доставать нож и зашивать рану».
С этого момента мелкий опять ревел и запомнил только, как молнией два часа назад ударившая в глаз боль после резкого рывка хирурга ослабла и стала просто ноющей. Как очень тупая игла проткнула кожу около глаза и ещё как продёргивали нить по живому…
Несмотря на то, что пожилая медицинская сестра отцу и мне давала нюхать ватку с нашатырём, я всё равно потерял сознание, и хирург благополучно наложила пять неровных стежков под моим глазом, забинтовала его полностью через голову, и более полугода все местные ребята меня называли Кутузовым.
После этого злоключения ещё долгое время вся моя жизнь делилась на до травмы и после.
Когда швы сняли, обнаружилось, что глаз всё-таки травмирован и не видит, точнее, различает день и ночь, но смотрит в сторону. Родителям порекомендовали съездить в Одессу, в институт Филатова – самое продвинутое учреждение по зрению в то время.
Через месяц смогли организовать поездку. Одессу совсем не помню. На старом чёрно-белом фото на набережной у моря мама, я и папка. Вердикт учёных был суров: повреждён центральный нерв, при существующих технологиях помочь невозможно.
Кроме этой, была ещё одна попытка восстановить утраченное глазом зрение. Много лет спустя, когда в родном городе организовался филиал знаменитого Центра микрохирургии глаза имени академика Фёдорова, после укрупнённого обследования врачи вынесли заключение: прошло очень много времени – более сорока лет, – всё заросло, и нервные окончания не могут найти, чтобы их соединить.
Вся наша семья в этой травме винит старшего двоюродного брата, который втянул мелкого в игру с ножом. В детстве он выступал в роли старшего, всезнающего и поэтому ведущего за собой. Обычный непослушный шалопай, но делающий пакости исподтишка. Он и вырос таким пакостным человеком.
Несколько раз я попадался на его аферы при покупке то дефицитной в те годы гитары, то норковой формовки: говорит, что есть возможность купить, просит денег и обещает к такому-то сроку дело сделать, а после пропадает и объявляется через несколько лет, и с невинными глазами подаёт руку для приветствия.
Последней каплей в наших отношениях случился его из рук вон выходящий изуверский поступок при следующих обстоятельствах.
После похорон моего отца, на прощальном поминальном обеде он подошёл, выразил соболезнование и вёл себя достойно.
Но через неделю утром встретил меня перед работой – небритый, с глубокого похмелья и с красными глазами – и говорит: «И мой ведь отец тоже сегодня ночью умер, не знаю, что делать, как хоронить, денег нет, не работаю уже полгода».
Отдал ему деньги, оставленные в кошельке на обед, выразил соболезнование и предложил позвонить на работу отца – помогут. Он отвертелся, ответив, что не знает номера телефона, и попросил меня позвонить.
В цехе на мой вопрос, когда будут похороны дяди Толи, ответили: «Рано хоронишь – он у станка работает». Переговорив с ним, узнал: Юрка полгода в запое, не работает, денег не давать.
Через несколько месяцев он умер. Сам из этой ямы не выбрался, а помочь ему было некому – всех настроил против себя.
Первая учительница – Анна Алексеевна, – впоследствии директор школы в посёлке Новая Кола: молодая, с чёрной косой и чёрной, выделяющейся на лице бородавкой. Но этот недостаток терялся за поразительной, трогательной и приветливой улыбкой. Она научила нас писать (читать по слогам к семи годам, когда я пошёл в школу, я уже умел), считать и заразила жаждой познания окружающего мира. А также она рассказала нам первый ужастик про чёрного, чёрного человека в тёмной, тёмной комнате.
Школа была небольшая, но двухэтажная и каменная. Мы сидели за деревянными партами с откидывающимися крышками. Выше на парте было аккуратное круглое отверстие, куда ставили чернильницы, чтобы они не свалились. Писали перьевыми ручками первые свои каракули. И наслаждались вкуснейшими пончиками с повидлом в обеденный перерыв в школьном буфете.
Я проучился в этой школе всего полтора года, но с благодарностью её вспоминаю. И походы в школу – через плотину на другой берег реки. И пожарный щит, выкрашенный в красный цвет, с висящими ведром, топором, лопатой и багром. И общую атмосферу первого в жизни храма науки, когда, тихонько ступая по скрипучему деревянному полу, заглядываешь в открытые двери классов во время идущего урока. Мы даже осенью после первого класса собирали турнепс на огороде за школой. Из него варили вкусную кашу в столовой и немного грызли: вымытые в реке турнепсины – сладкие.
Из раннего детства вспоминаются наиболее яркие моменты: как мы жили впятером в одной комнате десятиквартирного одноэтажного деревянного барака вместе с другими девятью семьями.
Моя сестра Люда старше на шесть лет и раньше пошла в школу. Я всегда утром просыпался от вкусного запаха пожаренного бабушкой на сливочном масле на чугунной сковороде кусочка чёрного хлеба и одного яйца и завидовал ей. Бабушка говорила: «Вот будешь в школу ходить – и тебе буду жарить!» Не мог дождаться этого момента.
Пока Люда учила стихи, я играл в кубики и слушал, а потом рассказывал эти стихотворения.
Зимой до позднего вечера катались на деревянной горке с картоночкой от посылочного ящика.
«Лешачонок вчера опять пришёл с замёрзшими соплями», – жаловалась бабка Люба отцу. Она и лечила потом: заставляла дышать носом над кастрюлей с остывающей варёной картошкой или намазывала ноги, грудь и спину разогревающей мазью со страшным названием «бомбенго».
На старых чёрно-белых фотографиях «мелкий» всегда одет в верхнюю одежду сестры. Мне кажется, я потолстел только для того, чтобы не носить «девичьи» пальто.
Наш барак был построен рядом с заводской плотиной, она перекрывала реку Каква, и перед ней получался небольшой проточный пруд, воду из которого использовали для заводских технических нужд.
Пятьдесят лет тому назад в Какве водилось много рыбы. По рассказам старожилов, даже благородные хариус и таймень, которые могут жить только в чистой воде.
Каждую весну огромные рыбины поднимались из Обской губы в верховья Каквы, чтобы отметать икру и породить потомство в том месте, где сами появились на свет.
Но человек – царь природы, и он уничтожает её. Заводу и городу уже больше ста лет, и рыбы в Какве всё меньше и меньше.
Занятие рыбалкой для мужчин нашего посёлка было само собой разумеющимся делом. Рыбачили все – от мала до велика. Рыбу варили, жарили, сушили или, как у нас говорили, вялили.
И грамотно завяленный крупный каквинский чебак с блестящими, похожими на маленькие бриллиантики капельками жира и просвечивающим при взгляде на солнце костным скелетом запросто мог поспорить по вкусовым качествам со знаменитыми волжскими таранью или воблой.
Научил малого рыбалке, объяснил многие нюансы этого благородного занятия, любовь к которому остаётся на всю жизнь, сосед дядя Боря.
Он работал тоже на заводе, как и папка, как и многие другие мужики посёлка. Но в другом цехе – в кузне. Когда он сказал, что он кузнец, у меня возник образ огромного молотобойца Ильи Муромца.
Но дядя Боря не был огромным, а был обычным. Только на большом пальце правой руки у него выросла приличная шишка – от травмы на работе. Поэтому он прятал её, зажимая большой палец в кулак. Я просил у него потрогать шишку, а он обижался и не давал.
Он научил меня, как оснащать удочку. Сколько нужно лески, какого номера она должна быть: на чебаков – «потоньше», на щуку или тайменя – «потолще».
В зависимости от рыбы, на которую будешь охотиться, нужно выбирать и поплавок, и грузило. И не менее важен крючок, его размер и как его привязывать.
Это просто песня. Уже сейчас в моём арсенале около десятка способов привязывания крючков. Но первому меня научил дядя Боря.
Крючок должен висеть на леске и смотреть жалом вверх, поэтому леску продеваешь со стороны жала, а не снаружи. Приговаривал он и осторожно, большими руками с шишкой на пальце держа крохотный стальной крючок, пытался продеть леску в маленькое отверстие крючка, постоянно поправляя на носу очки с одной обломанной дужкой.
После того как леска зашла в ушко крючка, надо сделать одну большую петлю и свернуть её вдвое, восьмёркой. Дальше жало крючка нужно продеть в обе половинки восьмёрки и, держа в зубах кончик лески, оставшийся от восьмёрки, затянуть леску выше крючка.
Идеально завязанный узел дважды красиво обвивает цевьё крючка ниже ушка, кончик оставшейся лески, который обычно откусывают зубами и выплевывают, смотрит в сторону ушка, а не жала, чтобы не отпугивать рыбу.
Уже давно нет дяди Бори, но навыки рыбалки, которым он обучил, навсегда останутся со мной. Этому же научу своего младшего сына.
А вот пятьдесят лет тому назад, весной, молодой папка пришёл уставший с ночной смены домой, но его маленький сын упросил его не ложиться отдыхать, а пойти на рыбалку за тайменем. Ведь живцов – мелких рыбёшек чебачков, или, как по-правильному, плотвичек, на которых клевал таймень, – он на удочку наловил с вечера, и ночевали они в алюминиевом бидоне.
Практически всё взрослое мужское население прибрежных домов было на путине: ловили тайменя, и всем хватало, рыбы было много. Мы с отцом тоже закинули три спиннинга со свинцовыми ложками и живыми рыбками на поводке с большим крючком.
Особенность плотины заключалась в том, что после закрывающих створок дно реки было устлано двумя рядами плит, чтобы не размывалось, но всё равно после этих плит было самое глубокое место, яма, говорят, около семи метров, вот там и нравилось находиться крупной рыбе.
А для того чтобы закинуть в это место наживку, её нужно было спускать по течению с плотины. То есть надо очень грамотно закинуть тяжёлую, отлитую из свинца в большой столовой ложке снасть с болтающимся на полутораметровом поводке живцом до этой ямы и при этом не потерять рыбку и не зацепиться за проходящие над плотиной электрические провода, протянутые на другой берег.
В тот раз папка сделал три образцовых заброса, установил самодельные спиннинги с эбонитовыми ручками и невской катушкой у перил плотины. Одно из этих орудий лова до сих пор хранится у меня в гараже, чтобы с младшим сыном сходить на рыбалку.
А в то волшебное утро, пока папка докуривал свою первую болгарскую сигарету без фильтра с названием «Шипка», вершинка первого спиннинга яростно дёрнулась и начала выгибаться с отчаянной скоростью.
Отец схватил спиннинг: теперь наступал новый этап, нужно было замучить рыбу, спуститься с плотины (там её невозможно поднять), перекинуть удочку через тополь, который возвышался на берегу у моста, и затем по бетонке вывести уставшую рыбину и поднять её с помощью подсачека – палки с сеткой, в которой запутывается крупная рыба.
Подсачека у нас не было, но всё сложилось удачно и закончилось через пятнадцать минут, которые мне показались длиннее часа, когда отец несколько раз отпускал раскручивающуюся катушку и в кровь сбил култышки на правой руке, а затем опять накручивал леску наперекор упирающейся рыбе.
При этом хозяйку этого поединка мы увидели только в конце борьбы, до этого леска то уходила под воду, то тяжело наматывалась и чуть ли не звенела…
Три тайменя – такой был результат этой запомнившейся мне рыбалки. Первого я унёс в тазике, отец тюкнул рыбину головой о бетонку, чтобы не выпрыгнула, свернул кружком, и она всё равно не влезла, хвост свисал до полуметра.
Бабушка испекла из этого тайменя вкуснейший пирог, остальных отдали родным, холодильников тогда у нас не было.
Больше я тайменей не ловил.
Мне думается, окончание моего детства совпало с переездом нашей семьи в город. В середине второго класса, кажется, в 1969 году, отцу (почему-то раньше чаще называли отцом, а не папой) от металлургического завода выделили новую четырёхкомнатную квартиру в городе на четвёртом этаже, общей площадью сорок восемь квадратных метров.
Как окажется в будущем, в приближающиеся лихие девяностые годы, эта квартира станет единственным стартовым инвестиционным капиталом для меня и моей старшей сестры.
По советской традиции выделение новых квартир приурочили к ноябрьским праздникам. Переехали в один день, на грузовую машину погрузили две старенькие пружинные кровати, два матраца, пять пуховых подушек, бабкин шифоньер, табуретки и скрученные половики.
Вся посуда из нескольких кастрюль, тарелок, гранёных стаканов, алюминиевых ложек и вилок и большой, тоже алюминиевой, кружки уместилась в связанной узлом скатерти.
Отдельно на коленях у бабки ехало её корытце с сечкой – мясорубки у нас не было, а вкуснее холодца из рубленых говяжьих субпродуктов я в жизни не пробовал.
Сами сидели здесь же, в кузове между вещами.
Вещи в городе в новую квартиру помогал переносить водитель грузовика. Они с отцом носили тяжести, а мы всё остальное.
Мне, семилетнему карапузу, поручили носить пуховые подушки. Три раза поднявшись на четвёртый этаж и снова спустившись к машине, я раскраснелся и выдохся.
Новая квартира очаровала кухней с газовой плитой, пока не подключённой (подключение к газу – только после обучения взрослых в горгазе, строго предупредил домоуправ, обходя новосёлов), отдельной ванной комнатой и, конечно, отдельным туалетом.
Этих благ цивилизации мы не знали.
Ночевали в пахнущей свежей половой краской квартире. Родители и бабка на кроватях, а мы с сестрой на половиках, но все – на пуховых подушках.
Засыпали усталые, но довольные и счастливые в ожидании прекрасной жизни в новой квартире с ванной и туалетом. Папка уже озвучил вечером, что будем с зарплаты откладывать деньги и копить на новую мебель, кровати, холодильник и самое интересное – телевизор.
Через неделю отец, дав задание: «Надеваем самое лучшее, будем фотографироваться на память», повёл всю семью в фотоателье. Бабка идти отказалась: «Нет у меня выходного платья». Поэтому на фото нас только четверо: мама, папка, сестра и я – маленький пухляш со стрижкой чёлочкой, правый глаз смотрит в сторону, в костюмчике, который не застёгивался на последнюю пуговицу.
ГЛАВА 2. ПРЕДКИ
Не забывайте стариков.
Не унижайте ожиданьем
Визитов ваших и звонков
«Дежурных», редких, с опозданьем.
Звоните чаще старикам
(Ведь все они – большие дети)
По мелочам, по пустякам…
Вы – всё, что есть у них на свете.
Так было испокон веков:
Чтить стариков – семье награда.
Любите ваших стариков —
Им большего от вас не надо…
Юлия Вихарева
Наш род, который я знаю только с дедов и бабушек, начинался в Кировской области (ранее Вятская губерния – до переименования после убийства Сергея Мироновича Кирова, революционного партийного деятеля; в ходу была поговорка: мы вятские – парни хватские). Мне довелось несколько раз побывать в тех местах и будучи ещё совсем маленьким, и уже школьником.
Мой отец Леонид Петрович, его родители Пётр Спиридонович и Любовь Степановна – уроженцы деревни Чивили Кировской области Богородского района. Моя мама Елизавета Геннадьевна, её родители Геннадий Дмитриевич и Мария Ивановна – уроженцы деревни Шмаги той же Кировской области и того же Богородского района; эти деревни находились рядышком, на расстоянии пяти-семи километров.
И вот мои родители, родившиеся в соседних деревнях, познакомились и решили пожениться в маленьком уральском городке, куда отец пришёл после службы в армии, а мама приехала с подругами на заработки. Причём её старшая сестра Таисия уговаривала Лизу обосноваться в Нижнем Тагиле – городе, который в несколько раз больше нашего, – и тогда, наверное, не было бы и этой истории; но судьба сложилась так, что мама с подружками устроились разнорабочими на хлебозавод, в цех по выпечке пряников – это-то точно подсказка тёти Таси, которая всю последующую жизнь проработала на кондитерской фабрике по производству сушек и пряников в Нижнем Тагиле.
В те голодные послевоенные годы для деревенских переселенцев находиться поближе к хлебу означало выжить. В будущем, когда мы ездили в гости к тагильчанам и выходили почему-то на станции с непонятным названием Сан-Донато, тётя Тася всегда угощала нас, детвору, свежими, мягкими и тающими во рту пряниками и хрустящими сушками.
Гораздо позднее я узнал, что название станции было дано в честь звания одного из сыновей Никиты Демидова, которое он выкупил у «гишпанского короля» и нарёк им поселение при руднике.
«Источники по-разному объясняют, зачем Анатолию Демидову необходимо было стать князем Сан-Донато. Но по факту он им стал, купив титул у тосканского правителя Леопольда II Лорранского. Чтобы этот титул Демидова признали и в России, необходимо было владеть имением с таким же названием в России. Так и появилась в 1878 году при открытии Уральской горнозаводской железной дороги станция Сан-Донато».
Папа Леонид Петрович служил в авиации механиком самолёта четыре года и семь месяцев – с 1949 по 1954 год. Его мама Любовь Степановна (она же бабушка Люба, она же старуха) уехала из деревни в наш город в большой спешке в 1952 году. Бабушка всегда говорила, что послевоенные годы были самыми голодными, даже хуже, чем в войну. У бабушки кроме моего отца было ещё трое детей: старший Василий утонул в юношестве, до войны, затем по возрасту шёл Леонид – папа, затем дядя Серёжа, и самая младшая у них была Татьяна, которая родилась в 1943 году. Отец упоминал, что Таня получилась после приезда деда Пети в отпуск после ранения под Москвой в 1942 году. Он был дома всего неделю, но оставил по себе память, и у них появилась дочка. В сорок пятом бабушке пришло письмо: Пётр Спиридонович пропал без вести в сражении под Сталинградом в 1943 году.
В 1949 году подошёл срок служить и моему отцу, и его забрали в армию; почему-то тогда говорили именно так, «забрали», а не «пошёл служить». Бабушка лишилась основного помощника и осталась одна с двумя детьми: Сергею десять лет, а Татьяне шесть лет. Как и многие колхозницы, оставшиеся вдовами, ходила собирать неубранные колоски на сжатых полях, чтобы накормить детей кашей.
На них донесли доброжелатели, и одноногий председатель-фронтовик обошёл ночью эти дворы и предупредил, чтобы уезжали из деревни подальше, иначе арестуют и вышлют. Так, под утро наспех собрав детей и что можно унести в руках, они поехали с другими тремя семьями искать счастье в городе.
Почему сюда, точного ответа на этот вопрос не сохранилось, видимо, у кого-то из трёх женщин были какие-то знакомые в этом городе – вот все туда и поехали.
После службы папка приехал уже в Серов. Перед демобилизацией его за успехи в политической и боевой подготовке наградили правом сфотографироваться у знамени своей части. С глянцевой чёрно-белой карточки, как тогда говорили, у наполовину свёрнутого знамени молодцевато стоит сержант в туго перетянутом ремнём кителе, распушённых галифе и матовых хромовых сапогах. Внешний вид солдата формировался ещё с петровских времён. «Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». А на обороте фото надпись: «23.03.1954 года, город Потсдам».
Из своих почти пяти лет службы последние три года его часть находилась в Германии. О годах службы отец всегда вспоминал с теплотой и показывал, как сокровища, вещицы, что привёз из-за границы. Комплект для бритья: раскладывающаяся тоненькая, изящная опасная бритва со стальным матовым лезвием, на котором были выгравированы непонятные слова крошечными нерусскими буковками, которое плотно входило и свободно выходило из лакированной, такой же формы ручки; и пушистый помазок для намазывания взбитого мыла на лицо. Вещички эти были необыкновенно качественные, приятно ложились в руку, и отец всегда был чисто выбрит. Обязательным ритуалом для него было выверенными размашистыми движениями туда-сюда поправить на кусочке кожаного ремня острейшее лезвие бритвы.
Помню, я постоянно спрашивал его, что же написано на лезвии бритвы, а он отвечал, улыбаясь и подмигивая правым глазом: подрастёшь – поймёшь. Сам он, конечно же, немецкого языка не знал, кроме всем известных выражений «хайль Гитлер», «Гитлер капут» и «хенде хох». И даже как-то оправдывался, когда делал со мной уроки в первом классе и мы написали «дамашняя работа», что образование у него – четыре класса церковно-приходской школы, а остальное – жизненные университеты, и не надо его заставлять делать уроки с малым.
Конечно же, как и все мальчишки, я очень любил папку и был к нему привязан. В те далёкие времена распространены были добрые шутки над близкими. И двоюродный брат отца дядя Толя научил пятилетнего парня подшутить над отцом.
Зимой, когда было холодно, папка курить не выходил из барака, а приседал на мой маленький стульчик и дымил перед раскрытой дверцей голландской печи – кормилицы, как постоянно напоминала бабушка, – запах сигарет вообще не чувствовался, хорошая тяга.
«Когда отец привстанет стряхнуть пепел в печь, ты стульчик-то и отодвинь, он обратно сядет на пол, вот все и посмеются», – научал меня коварный дядя Толя.
Так я и сделал в один ужасный, ужасный день.
Эту шутку вся семья ещё долго вспоминала и после переезда из старого барака.
Весь «цимес» этого эпизода, как говорил один из граждан-сидельцев, или «квинтэссенция», как частенько говорил мой будущий преподаватель по физике в институте, состоял в нюансах.
В нашей тесной однокомнатной квартире всё было очень компактно, в частности в полутора метрах от печки находилось подполье для хранения картошки. И надо же было такому случиться, что малой не обратил внимания, что бабушка открыла люк подполья, и отец, стряхнув пепел в открытую дверцу печки и начиная садиться на стульчик, который я отодвинул, падает не на пол, а делает по инерции кувырок через голову и попадает прямо в открытое подполье.
Долго болели затрещины, которыми меня наградил по делам моим отец, полдня икала испугавшаяся бабушка, на которую внезапно свалился папка, и разразился такой матерщиной, потирая ушибленную спину и шишку на голове, какой я никогда больше в жизни от него не слышал. До вечера все зализывали раны, а потом хохотали и рассказывали эту историю при удобном случае.
Мама после работы в пряничном цехе устроилась на железную дорогу. Первое время она работала проводником, тогда меня ещё не было. А когда родился я, мама перешла на оседлую работу – весовщиком-сдатчиком на станции Заводской, – так как кормила меня грудью до трёх лет, а надолго уезжать было нельзя.
Она всю жизнь повторяла таблицы маркировки и погрузки грузов в вагоны и лазила по этим боковым проволочным лесенкам на грузовых вагонах, контролируя упаковку груза.
Самым запоминающимся событием того времени было поедание колотых при разгрузке арбузов, которые мама приносила с работы по осени, когда астраханские арбузы приезжали в открытых грузовых вагонах.
Любовь к маме впитал с её молоком. Как-то при ссоре родителей выпивший отец замахнулся на маму, и маленький защитник встал между ними. Отец потом рассказывал, что сразу протрезвел и никогда больше не поднимал руку на маму.
Несмотря на то, что все взрослые работали, зарплаты были небольшие, мама часто вечерами на лампочке штопала дырки на своих серых чулках. Ребята из соседних бараков болтали, что больше всех зарабатывает говновоз – рабочий, который ездил на лошади с огромной пахучей бочкой на подводе и ведром с длинной палкой, чистил выгребные ямы общественных туалетов.
Пацаны с улюлюканьем бегали за ним и обзывались. Как-то вечером, когда мама сидела штопала и вытирала украдкой слёзы, малой подошёл к ней, крепко обнял и сказал: «Когда вырасту, стану говновозом, заработаю много денег и куплю тебе новые чулки».
Но, к сожалению, с первой зарплаты купил трёхтомное собрание сочинений Эрнеста Хемингуэя в букинистическом магазине.
Уже совсем недавно мы праздновали юбилей у моей старшей сестры и просматривали старые чёрно-белые фото. Мои родители стоят в летних одеждах рядом с тоненькой берёзкой. Мама в тёмном платье с белыми «горохами», с толстой косой и в туфлях на каблуке, с приятной улыбкой на чернобровом лице. И папа в лёгкой светлой рубашке с короткими рукавами, просторных брюках, перетянутых солдатским ремнём, и в стильной по тем временам летней соломенной шляпе. Они были молодые, красивые и, как говорит один мой знакомый, тонкие и звонкие.
Мама рассказывала, что эту карточку делали перед свадьбой в каком-то новом городском фотоателье, и её туфли на каблуке и модная папина шляпа были предложены фотографом для снимка напрокат, и берёзка – нарисованная.
Но запомнился мне образ родителей, когда, наверное в первые года два, они провожали меня на железнодорожном вокзале в институт в Свердловск. Они стояли рядышком перед окном вагона, но не обнявшись. Отец повыше и постройней, мама пониже и пополнее. Мама располнела после моего рождения и уже никогда не смогла похудеть, видимо, из-за того, что очень долго кормила меня грудью.
И хотя последние годы особого лада у них в семье не было, они и ушли друг за дружкой. Отец первый.
Он всю жизнь страдал заболеванием желудка, которое по наследству передалось и нам с сестрой. Каждые весну и осень болезнь обострялась.
Родители были оба на пенсии, но отец ещё работал. Четырёхкомнатную квартиру мы уже разменяли. Они жили отдельно в двушке.
Как-то, придя после ночной смены домой, он сказал маме, что опять заболел желудок. Ночью у него случилось кровотечение: открылась язва луковицы двенадцатиперстной кишки, – и скорая помощь увезла его в городскую больницу. Мама позвонила мне, и после работы я поехал навестить отца.
Ужасные девяностые годы. Больница была переполнена, отец лежал в коридоре хирургического отделения на третьем этаже. Очень бледный, с иглой от капельницы в руке и стоящим рядом держателем для лекарств, он дремал с закрытыми глазами. Я разбудил его и спросил, как самочувствие. Он слабым голосом ответил, что нормально, но очень хочется курить. Я прочитал ему лекцию о вреде курения и сказал, что надо перетерпеть. Его грустный взгляд никогда не забуду, он вроде и не сопротивлялся, но внутренне осуждал мои нравоучения. Больше живым я его не видел.
Ходил к главному врачу больницы и спрашивал, какие лекарства необходимы для лечения отца. Тот ответил: ничего не надо, но нужно сдать кровь первой положительной группы – не менее двух литров. Если учесть, что от одного человека за один раз можно забирать не больше четырёхсот граммов, то нужно не менее пяти человек. Я позвонил в цех, где он работал, и попросил помощи у его коллег. Откликнулось трое рабочих, и через день я собрал на машине всех, заехал за Пашкой, племянником, и мы поехали в больницу, в пункт переливания крови. Там была очередь. Мы устроили перекур, и, когда подошла наша очередь, из окошечка медсестра спрашивает: «Вы для кого пришли сдавать?» – я ответил. А она металлическим голосом буднично говорит: «Вам уже не надо». Я не понял и переспрашиваю, как не надо, отцу залили два литра крови, и его хирург сказал, что надо восполнить банк крови. И тогда она повторила: «Вам не надо, он ночью умер, подходите следующие».
Мужики с работы высказали соболезнования и уехали на работу, а мы с Пашкой побежали в хирургию и там узнали, что его увезли в морг. Чёрт дёрнул нас пойти в морг, я до конца не верил, что его уже нет. Отец лежал на столе морга со вскрытой грудной клеткой. Пашка шёл следом и уткнулся мне в спину; когда и он увидел деда, мы обнялись и заплакали навзрыд.
Работник морга хмуро закричал: «Сюда нельзя, всё будет написано в освидетельствовании трупа. – И потом уже тише и устало: – Он ночью пошёл в туалет и упал, когда нашли – уже умер, кровоизлияние в мозг».
Потом, как во сне, были похороны. Коллеги по работе научили снять мерку и заказать гроб, также нужно было заказать столовую и параллельно оформить все необходимые документы. Мест на кладбище не было, и решили папку положить к Анатолию – Пашкиному отцу, который умер перед этим, когда помогал переносить мебель при нашем переезде из четырёхкомнатной квартиры. Теперь два наших мужика лежат в одной оградке.
Мама резко сдала после папкиного ухода. Ударилась в религию, зимой простудилась. Месяц кашляла, мы не смогли вовремя показать её врачам. Двустороннее воспаление лёгких. Она уходила на наших глазах. Во второй половине марта спать лежа уже не могла – заходилась кашлем. Последнюю ночь начала бредить, держала нас с сестрой за руки. Прошептала: «Живите дружно!» – кашель успокоился, уснула, закрыла глаза и перестала дышать.
И в этом я чувствую свою вину. Никогда не забуду бабкины слова: «Не надо было разорять гнездо и менять четырёхкомнатную квартиру».
Несколько лет назад по дороге с работы домой на обед окликнула древняя старуха со сморщенным лицом.
«Ты с посёлка Медянка, Лёнькин и Лизкин сын?»
Говорю: «Да».
«А как они, давно уже на пенсии?»
Отвечаю, что они уже ушли.
Она: «Ясно, значит теперь ты сирота!»
Вот так на четвёртом десятке жизни мы с сестрой остались сиротами, никому не нужными в это суровое время. Такое грустное настроение навеяла эта древняя старуха. Позднее с сестрой пытались вспомнить, кто она такая и из какого барака. Но так и не смогли.
ГЛАВА 3. МИЛАЯ СЕРДЦУ ДЕРЕВНЯ
Моя родина милая,
Свет вечерний погас.
Плачет речка унылая
В этот сумрачный час.
Огоньки запоздалые
К сердцу тихому льнут.
Детки малые
Всё никак не уснут.
Ах, оставьте вы сосочки
Хоть на десять минут.
Упадут с неба звёздочки,
В люльках с вами заснут…
Николай Рубцов
Чивили распахали в пятидесятые годы, жители разъехались в города за лучшей жизнью, а вот Шмаги помню хорошо.
«Когда идёшь вдоль околицы, – говорила бабушка Мария, – нужно здороваться со всеми, кого встретишь, то есть желать им здоровья!»
Так я и делал. Пятилетний бутуз в шортиках на одной лямке, в городской панаме и детских сандалиях.
Качество тех сандалий явно не лучшее было, они развалились на четвёртый день каникул у бабушки, зато блестели здорово. Мама по прошествии многих лет рассказывала, что бабушка «шибко» переживала, что нарядила своё «солнышко» в резиновые калоши, которые одни могли противостоять жирной коричневой глине непролазных шмагинских дорог.
«Здрасьте, – говорил я всем встреченным деревенским жителям. – Я Мариин внук».
Из тех далёких времён отчётливо помнились какая-то бережная, нежная любовь старенькой бабушки, её приветливость и неунывающая переносимость всех трудностей деревенской жизни. Последнюю половину жизни она ходила согнувшись (последствия грыжи на позвоночнике из-за непосильной крестьянской работы), опираясь на батожок – очень лёгкую сухую ветку уже не знаю какого дерева.
Именно от них – щемящее чувство чего-то настоящего, простого и обычного, как свежий чистый луговой воздух, колодезная прохлада живой воды, вкус свежего, испечённого в русской печи круглого чёрного хлеба. Кроме мамы и бабушки Марии, больше никто не называл меня солнышком, царствия им небесного.
Уже не помню, сколько в деревне было домов (Шмаги – непереводимое название), но точно помню, что деревню разделяла небольшая река, которую называли Ручей или Ручеёк.
На противоположном высоком берегу реки стояла разрушенная церквушка. Останки этой церкви находятся там и по сей день. Центральная башенка без луковичной крыши, без креста и два боковых помещения: в одном находилось сельпо, а в другом – небольшой клуб, который был всегда закрыт.
На этом же берегу перед церковью стояли ещё несколько домов, а после церкви ещё ниже были устроены коровник и скотный двор. Вся местность за рекой – всё-таки, наверное, за ручьём – именовалась Слободой и соединялась с основной жилой частью деревни деревянным мостиком шириной, рассчитанной на одну подводу, а точнее говоря, на телегу, запряжённую лошадью.
По этому мостику и ездили-то только лошадиные повозки, а трактор – единственная чиненая-перечиненная «Беларусь» – катался с телегой, нагруженной алюминиевыми бидонами с молоком, в Богородский район немного выше по реке вброд, где было твёрдое галечное дно.
Почему-то в памяти остались только два главных деревенских мужика: конюх деда Геня, катавший меня на мерине Соколе, и тракторист дядя Миша – залихватский мужичок невысокого роста со светлым чубом под всесезонной кубанкой и мастеровыми, трудовыми руками. На своего «беларуся» он заскакивал, как на коня, в одно упругое движение: левую ногу в неизменном армейском хромовом полусапоге на подножку, правой рукой за ручку дверцы, стремительное движение – и он уже за рулём. Тракторист дядя Миша – первый помощник и выручала всех деревенских баб. Поговаривали, что половина молодёжи в деревне – его дети.
Деда Геня – конюх (так в деревне все его и звали, с окончанием именно на «я», а не на «а») курил самосад и крутил самокрутки из газеты. Не забыть тот запах самосадного табака с кисленькой горчинкой и какой-то воздушной крепостью. С той, наверное, поры мне нравится запах хорошего табака. Подхватив меня за подмышки и подсадив на старого мерина, он водил его по кругу скотного двора. А я сидел на широкой спине послушного тёплого и умного животного, безумно радовался, глядя на мир с этой огромной высоты.
Сорок лет спустя, пробуя кататься на прогулочной лошади, уже не ощутил того чудесного удовольствия, осталось только опасное чувство высоты.
Ниже деревни по течению Ручей перегораживала плотина, образуя деревенский пруд, заросший тиной, водорослями и кувшинками. По пруду местные плавали на деревянных «яслях» – долблёных брёвнах, соединённых скобами вместе по два. Вёсел на таком плавсредстве не было, отталкивались от дна шестами из обструганных от сучков сухих ёлок.
Увлекательно проходила рыбалка, когда дядя Миша ранним августовским утром собирал малышню по соседним домам, усаживал её в тракторную тележку, и мы ехали на пруд. «Мария, не забудь дать внуку мешок для улова, да побольше», – всегда напоминал смешливый дядя Миша бабушке.
На низком берегу пруда он расправлял большущий невод и потихоньку, заезжая трактором на мелководье вдоль берега, выволакивал из воды кучу водорослей, кувшинок и трепещущую серебристую и золотистую рыбу. Это были караси и карпы.
Наша задача заключалась в сборе рыбы в общую кучу на берегу и очистке невода от травы. Процедура повторялась несколько раз. Как правило, двух-трёх раз вполне хватало, чтобы наполнить всю имеющуюся тару для улова.
Бабушка всегда посылала со мной старую холщовую сумку. Распределением улова по рыбакам занимался лично дядя Миша. Сначала он раскладывал по всем участникам рыбалки крупных карпов, а затем карасей и карасиков. Потом невод сворачивали, садились в телегу, и нас развозили по домам с уловом.
Сумку с рыбой поднять было невозможно, дядя Миша сам затаскивал её в кузов тракторной телеги. Вся рыбалка занимала около двух часов, потом дядя Миша уезжал на работу.
Дома, уставший от впечатлений удивительной рыбалки, я забирался на полати, устроенные над печью, и давал храпака. Бабушка в это время запекала карасей в сметане в русской печи. По традиции, возвращаясь с работы, дядя Миша, проезжая мимо на трескучем тракторе, заглядывал на огонёк.
В знак благодарности бабушка всегда угощала его особенным лакомством – карасём, запечённым в селянке (как у нас называют омлет), солёными рыжиками и пол-литровой алюминиевой кружкой браги на хмелю, остуженной в леднике.
Кстати, рыжики собирались за огородом и за Ручьём между вековыми, снизу покрытыми красивым зелёным мхом ёлками, верхушки которых терялись высоко в небе, а внизу обхватить можно только двум взрослым или трём-четырём детям.
Оригинально бабушка солила рыжики: в литровой бутылке из-под молока, то есть грибы по размеру – не больше горлышка. На дно обязательно сложенный лист хрена, затем промытые рыжики, посыпанные крупной солью и порезанные пополам головки зимнего чеснока. Несколько таких повторяющихся слоев и сверху опять сложенный лист хрена. Как правило, через три дня грибы уже были готовы. О боже, как вкусно они хрустели с порезанным репчатым луком в деревенской сметане.
Память сохраняет много отрывочных воспоминаний о пребывании в милой сердцу деревне, но это сегодня, а в те времена иногда ехать туда и не хотелось, главным образом из-за несметных полчищ комаров, но через пару дней пребывания мы привыкали и не обращали на них внимания, а может, они нас воспринимали уже как своих. Шутка.
Мама вспоминала о первой поездке в деревню, когда мне было около года. У неё в дороге пропало молоко, и, чтобы меня накормить, папа выменял свою солдатскую шинель, в которой демобилизовался и которой было уже более пяти лет, на трёхлитровую банку коровьего молока на какой-то промежуточной станции.
Ещё у бабушки Марии была сестра – бабка Дуся, полное имя Федосья. Она жила в маленьком домике недалеко.