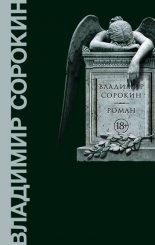Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России Ушакин Сергей

У нас бывает много разных докладов. Но все эти доклады мало иллюстрируются наглядными показательными диаграммами, плакатами. <…> Другое дело, если во время докладов будут красоваться на стене соответствующие лозунги, плакаты, хорошо исполненные диаграммы о показателях выполнения договора, сравнение с показателями других заводов и тп. <…> Но показатели должны быть не такими, в которых «сам черт голову сломает», а яркие, четкие, интересные и понятные для рабочих. Таких показателей пока еще нет. Но они должны быть[170].
Ярких показателей ждали недолго. Постановление партии «О плакатной литературе» и создание Всесоюзного института изобразительной статистики советского строительства и хозяйства в 1931 году значительно ускорили формирование советской информационной графики[171]. Под активным руководством Отто Нейрата и Герда Арнца, сотрудников Социально-экономического музея Вены, возник новый способ визуализации данных, в котором количественная логика сочеталась с образным подходом[172].
В новых диаграммах столбцы не исчезали совсем, но они преображались в графические иллюстрации цифр, организованные в цепочки. Каждый образ представлял собой закодированную единицу измерения, количественный символ. Например, один изображенный трактор мог олицетворять пять тысяч тракторов. Изображение, используя терминологию Эйзенштейна, уплотнялось, а его содержание – конденсировалось. (Илл. 39,40)
В масштабном наборе из 72 открыток-плакатов «Догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны в 10 лет», вышедшем в 1931 году, его автор Иван Иваницкий применил еще один прием «монтажного принципа». Графический образ единицы измерения в данном случае был оформлен как кадр киноленты, превращая тем самым диаграмму в странную монтажную (кино)конструкцию[173]. Для усиления воздействия, Иваницкий добавил картинный фон, пытаясь с его помощью
…вызвать определенные ассоциации, заинтересовать зрителя, познакомить с характером явления без ущерба для «собственно диаграммы». При помощи картинного фона… имеется возможность дать трактовку темы, заострив ее политическое содержание, превратив диаграмму из сухой схематической формы в мощное орудие пропаганды, в диаграмму-плакат[174]. (Илл. 41)
От этих сложноорганизованных и идеологически нагруженных диаграмм-плакатов Изостата примитивную диаграмму в «Малявках» отделяют пять лет. Однако само присутствие следов визуальной кампании по трансформации языка советской инфографики в книжке для младших школьников еще раз подтверждает общую тенденцию: детская иллюстрированная литература была ключевой частью оптического поворота. Наряду с прямым созданием новых навыков, она формировала у своих читателей и фоновое оптическое знание, нередко опережая при этом литературу для взрослых. (Илл. 42)
Илл. 39–40. По этим двум диаграммам хорошо прослеживается работа принципа уплотнения содержания. В диаграмме «Рост числа членов профессиональных союзов в России» (1926 г.) рост численности организации передан буквально: как физический рост рабочего. (Серия наглядных пособий по истории революционного движения в России и РКП. М.: Красная новь, 1924).
В диаграмме начала 1930 х годов рост производства тракторов представлен с помощью более сложного буквализма: каждый трактор оказывается не только символом-показателем, но и единицей измерения (1 трактор = 5 тысячам тракторов). (Профсоюзы СССР в борьбе за пятилетку в четыре года (Диагр. и табл.) Под ред. Л. М. Коган. Диагр. оформление И. П. Иваницкого. М.: Изогиз, б.г.)
Примечательно, что в «Альманахе Пролеткульта» статьи, посвященной непосредственно детской литературе, не было. Но не менее показательно и то, что борьбу за продвижение «зрительного образа» в целях коммунистического воспитания масс Перцов начинал именно со ссылки на детскую литературу:
Книжки с картинками издаются преимущественно для детей. <…>…Во всех тех случаях, когда слово… рискует быть непонятным или вызвать вялые реакции, или, наконец, доходит до сознания слишком медленно – нет лучшего способа достигнуть желаемого результата, как сделать выражаемое содержание зрительно-наглядным, передать его графический состав[175].
Илл. 41. Диаграмма как монтаж: изо-статистическая репрезентация роста производства электроэнергии в СССР. (И. П. Иваницкий. Догнать и перегнать в техникоэкономическом отношении передовые капиталистические страны в 10 лет. Серия из 72 картинных диаграмм-открыток. Москва – Ленинград: Огиз – Изогиз. Отд. изобразительной статистики, 1931.)
Двойственное структурное положении раннесоветской детской иллюстрированной литературы – ее заметная незаметность – во многом определила социальную уникальность этого жанра. Литература для детей стала полем, в котором происходило становление ключевых социокультурных процессов. Она способствовала появлению большой группы писателей, художников и редакторов, которые в течение нескольких десятилетий будут определять облик и содержание советской детской книги. Литература для детей стимулировала создание новых полиграфических традиций. Именно в области детской литературы складывались новые теории и новые педагогические методы художественного образования. И именно она во многом задавала эстетические установки и оптические ориентации первого советского поколения.
Илл. 42. Живая диаграмма: оптические приемы как телесные практики. А. Афанасьева, Л. Берман, Пионерские живые газеты. Ленинград: Прибой, 1928. С. 21.
Несмотря на такую стратегическую значимость, детская литература довольно долго находилась в состоянии, которое Л. Кормчий, активный участник процесса создания советской литературы для детей, описал как «забытое оружие»[176]. Его воинственная статья – первая известная советская публикация, яростно отстаивающая необходимость классового подхода к детской книге, – вышла в «Правде» 17 февраля 1918 года. Как писал тогда Кормчий:
Со старым воспитанием мы покончили. Школу устраиваем на новых началах, сбросили опеку церкви. Но о детской книге забыли. Дети продолжают читать, продолжают впитывать душой яд тех же рабьих тенденций, которые мы сами с муками и кровью оторвали от своих душ. В руках побежденного врага мы оставили слишком сильное оружие, чтобы торжествовать победу. Детская книга пока – оружие буржуазии. Пролетариат должен вырвать это последнее оружие из рук врага и воспользоваться им, предварительно доведя его до совершенства[177].
Илл. 43. Книги будущего: «поновому простые, поясному новые». Плакат Даешь детскую книгу (Ростов-на-Дону: 1я Госхромолитография Донполиграфбума, 1928). Плакат разработали А. Гелина, Галина и Ольга Чичаговы. Коллекция детских книг в Детской библиотеке им. Котцена (Отдел редких книг и специальных коллекций Библиотеки Принстонского университета, https://dpul.princeton.edu/slavic)
«Воспользоваться» оружием сначала получалось с трудом, а «довести его до совершенства» и вовсе не получалось. Гражданская война фактически уничтожила не только рынок детской книги, она «вычеркнула из жизни России книгоиздательское дело и, пожалуй, все то, что было связано с типографским искусством»[178]. Если в 1918 году в свет вышло 474 названия детских книг, то уже в следующем году их число сократилось до 184. В 1921 книжное производство достигло своего самого низкого исторического показателя: из за отсутствия и/ или дороговизны бумажных и типографских ресурсов, на рынок было выпущено только 33 названия книг для детей. Ситуация постепенно стала исправляться в 1922 году, когда было издано 200 наименований.
Решающим оказался 1925 год – тогда количество изданий (550 названий) впервые превысило дореволюционный уровень[179]. Именно в этом году «Печать и революция», ключевой большевистский журнал по вопросам литературы и медиакритики, напечатал две полемические статьи писательницы Анны Гринберг о состоянии детской литературы в Советском Союзе. В них Гринберг громко и уверенно ставила диагноз жанру в целом, указывая, что «массовый пролетарский детский читатель еще не знаком работникам детской литературы»[180]. Точнее – само появление такого читателя обозначило явную «разноголосицу детского книжного рынка», вызванную невозможностью примирения между «книгами бывшими» и «книгами будущими»[181]. «Книги бывшие», по определению Гринберг, были заполнены историями про «любимого зверька детей – зайку» и прочих говорящих крокодилов; «книги будущего» строились принципиально иначе[182]. «Выдержанные, деловитые, точные, краткие, по-новому простые, по-ясному новые», они знакомили детей с гончарным производством или, например, газетным делом[183]. (Илл. 43)
В основе такой поляризации рынка книг, естественно, лежала сходная поляризация самих читателей. «Читатель прежний» скучал и капризничал, и для него «писатель-поэт писал о том, чего не бывает, а о том, что бывает, писал по-небывалому»[184]. Новый читатель был совсем другим:
Когда он, очень маленький, он, поглаживает книгу ручкой и говорит ласково: «Эта книжка про Эс-Эс-Эс-Эр? Я не знаю, что такое Эс-Эс-Эс-Эр, знаю только, что хорошее….А иногда он возьмет карандаш и скажет: «Теперь я нарисую что-нибудь красивенькое, например, серп и молот».
А когда он постарше, он в детском саду празднует 8 марта – день работницы, и придя домой, рассказывает лукаво: «Мы сегодня интересный рассказик сделали из букв. Вот какой: Детский сад раскрепощает женщину». А если кто-нибудь из взрослых (воспитанных на зайце, крокодиле и квакающей королевне) недоверчиво переспросит, тот этот новый советский шестилетка спокойно вскроет ближайшую сущность лозунга: «Это значит, что если дети уйдут в детский сад, то мать сможет заработать денег»[185].
Разумеется, эта социология чтения с точки зрения классового подхода была более чем преждевременна. В 1925-м «новый читатель» еще только начинал формироваться. Да и прежний мир еще не был таким уж прежним. Например, когда в 1927 году группа социологов провела ряд опросов с целью определить отношение детей к революции, более 50 % тех, кто связал революцию с «освобождение», затруднялись определить, от чего именно произошло это освобождение и в чем заключалась полученная свобода. Кто-то называл «волю и простор» («Советская власть сделала рабочим и крестьянам развязанность», «теперь – где хошь – все доступно»); кто-то говорил об «освобождении от угнетения царей»; кто-то называл отмену крепостного права («Живется лучше, потому что рабочие живут свободно, а при крепостном праве им давали маленькую квартиру»)[186].
При всем своем опережающем характере, интервенция Гринберг принципиальна, поскольку она зафиксировала начало активного выхода государства на рынок детской литературы. С середины 1920-х годов можно наблюдать формирование четкого курса на производство массовой дешевой книги для детей. Изначальный средний тираж книги в 3–5 тысяч экземпляров увеличился к 1926 году до 10–25 тысяч, а иногда тиражи достигали и 75–85 тысяч[187]. Кроме того, новый жанр советской детской книги смог привлечь значительное число новых авторов: в том же 1926 году из 926 изданных наименований книг 744 (80 %) были изданы впервые[188]. В 1936 году редакционная статья в «Литературной газете» уже с гордостью заявляла о том, что суммарный тираж книг и журналов для детей составил 40 миллионов экземпляров – в четыре раза больше, чем в 1933 году и в два раза больше, чем в 1935 году. Впрочем, несмотря на эти масштабы, газета одновременно жаловалась на то, что детская книжка продолжала оставаться «самым дефицитным продуктом»[189]. (Илл. 44)
Далеко не все новые книги были о политике. Например, в 1926 году ведущей темой был быт – книги на эту тему составили 33,2 % всех публикаций для дошкольников (55 % для среднешкольного возраста и 25,6 % для старшеклассников)[190]. На втором месте (23,5 %) у читателей младшего возраста был разряд книг, который «Литературная газета» чуть позднее назовет книгами о «придурковатом суррогате фауны» – т. е. рассказы о «о зверюшках, козявках да букашках», которые не давали ребенку «никакого представления о животном мире»[191]. Наконец, третье место (14 %) уверенно занимала сказка[192]. При всей популярности сказок и книжек про заек, наиболее динамичным сектором издательского рынка, однако, были именно «книги будущего»: тематика нового быта, новых технологий и новых перспектив привлекла наиболее оригинальных художников и писателей, благодаря которым и стал возможен «золотой век» советской иллюстрированной книги для детей[193].
Илл. 44. Книжка – автоматом. Фото из журнала Мурзилка, 1928. № 6.
Насыщение детской литературы коммунистическим содержанием не было ни одномоментным, ни простым. Отсутствовали самые базовые принципы организации художественного текста для детей.
Отсутствовал и сам текст – коммунистическим метанарративам еще только предстояло сложиться. В 1928 году Яков Мексин, активный популяризатор, страстный собиратель и автор детских книжек-картинок, жаловался в отраслевом журнале «Книга детям»: «Не создано методик оформления детской книги, начинающий автор… вынужден учиться на собственных ошибках»[194]. Годом позже Анна Гринберг подытожит – «советская детская книга появилась на пустом месте»[195]. Виктор Шкловский ретроспективно будет вспоминать о том же: «Произошла революция. Очень много писателей уехало за границу. Детской литературы почти не было. Люди ее стали делать заново»[196]. А Израиль Разин, председатель детской секции в Объединении государственных книжно-журнальных издательств при Наркомпросе РСФСР (ОГИЗ), прямо писал в «Литературной газете» в 1931 году:
Идут дискуссии и разговоры по поводу детской книги, но нет анализа самих детских книг, нет даже попыток разработки марксистских принципов детской литературы и ее творческих проблем. Мы работаем наощупь, мы не знаем по-настоящему сегодняшнего ребенка с его новыми запросами и потребностями, не знаем реакции детей различных социальных прослоек на ту или иную тематику. Нет марксистской теории детской литературы как орудия коммунистического воспитания и как одного из важнейших отрядов советской литературы[197].
Монополизация издательской деятельности государством произойдет только в начале 1930-х годов, когда Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков решит «сконцентрировать издание детской книги в специальном детском издательстве», превратив Детгиз в монопольного издателя книг для детей[198]. (Илл. 45) Но в течение первых пятнадцати лет после революции читательский спрос удовлетворялся и частными, и государственными издателями, тематические интересы и художественные ориентации которых совпадали далеко не всегда.
Работа на ощупь – без методик, но и без внятных политических и теоретических установок – наряду с социальной двойственностью книжного рынка, оказалась на удивление плодотворной для иллюстрированной детской литературы. При относительной непроговоренности содержательных аспектов жанра, упор был сделан на формальные аспекты детской книги. В силу своего педагогического формата детская иллюстрация нередко выступала площадкой для «экспериментирования» с новыми изобразительными формами и служила «лабораторией для опытов», которые, по словам Мексина, казались тогда многим «рискованными»[199].
Илл. 45. «Детской литературы почти не было. Люди ее стали делать заново» (В. Шкловский). Плакат Объединения государственных книжно-журнальных издательств (М.: Молодая гвардия, 1931). Худ. В. П. Ахметьев.
Коллекция Российской государственной библиотеки.
Для целого ряда писателей и художников детская книга стала объектом приложения базовых установок художественного авангарда. Если дореволюционная (дешевая) детская литература нередко опиралась на многократное использование готовых иллюстраций, то оформление раннесоветской литературы для массового читателя было подчеркнуто индивидуализированным[200]. «Художник, – отмечала Анна Покровская, бывший руководитель Института детского чтения, – из иллюстратора превращается в самостоятельного автора», и на обложках раннесоветских книг имена автора-писателя и автора-художника нередко указывались вместе[201].
Активное участие художников в процессе создания книги закономерно привело к изменению понимания роли изобразительного ряда. Николай Коварский в статье «Деловая книжка», вошедшей в программный «критический сборник» о детской литературе начала 1930-х годов, например, настаивал на том, что детская литература должна соблюдать принцип наглядности, понятый «как система соответствия между графическими и текстовыми элементами книги»[202]. Рисунок, иными словами, не должен был сводиться только к иллюстративному сопровождению текста; его смысловая «действенность» должна была быть эквивалентной тексту. Он мог и должен был выступать в качестве «графического осуществления текста на равных правах с текстом»[203].
В еще одной статье сборника художница по фарфору, историк искусства и автор детских книг Елена Данько видела в целесообразно сконструированных книгах-вещах прежде всего способ организации жизни ее читателя[204]. Главной задачей книжной иллюстрации, соответственно, становилось «воспитание художественного взгляда ребенка»[205]. Следуя общей установке русского авангарда на социальную функцию искусства, Данько настаивала:
Глаз должен работать, должен преодолевать какие-то трудности, чтобы развиваться. Воспитать глаз, непредвзятый, свободный от зрительных привычек, ведущий самостоятельную активную работу над произведением искусства, – значит преодолеть вредную инерцию[206].
Установки на развивающую сложность формы сочетались с более традиционным взглядом на задачи и цели детской литературы. Специфика детского жанра – его базовая дидактическая ориентация на «простоту, ясность и плоскостное разрешение формы»[207] – легко приводила к появлению упрощенного языка, свойственного политическому плакату того времени. В значительной степени именно в детской литературе тиражировались сюжетные схемы и прорабатывались образы, которыми воспользуются позднее авторы формулярной литературы[208]. В итоге детская иллюстрированная книга оказывалась одновременно и наследницей (радикальных) визуальных установок Пролеткульта, и колыбелью (консервативного) соцреализма. Авангард и традиционализм находили в ней возможность для мирного сосуществования.
Резкое увеличение объема и разнообразия публикаций для детей не могло не вызвать закономерной тревоги по поводу их формы и содержания. С. Марголина, одна из наиболее проницательных экспертов по детской литературе в раннесоветской России, хорошо отразила эту озабоченность в своем анализе книг о революции:
Проблема революционной дошкольной литературы – это… проблема претворения идеалов и стремлений, выработанных в течение веков миллионнами трудящихся масс, в жизнь ребенка, едва только начинающую разворачиваться, еще не искушенную опытом и раздумьем и почти еще целиком поглощенную задачами собственного роста. <…> Как, не насилуя действительности и сохраняя всю значительность и полновесность революционной жизни, ввести эти идеалы в круг жизни ребенка так, чтобы они не торчали в ней, как инородное тело, а органически перерабатывались в процессе собственного роста ребенка?[209]
Разумеется, вопрос о том, как, «не насилуя действительность», сохранить «всю значительность и полновесность революционной жизни», касался не только детской литературы. Публикации для взрослых обсуждались в том же контексте. Практически каждое партийно-государственное решение 1920-х годов с ритуальной периодичностью отмечало, что журналы, книги и газеты должны быть «максимально доступны» «широкому кругу читателей», «максимально близки» и «максимально понятны» им[210]. А «Кино-газета» в 1924 году, например, прямо связывала эстетику простоты и понятности с классовой принадлежностью:
Возьмите литературу, театр, живопись. Тысячи и тысячи проверок подтверждают, что современный рабочий (и рабочеинтеллигентский) потребитель требует понятности, простоты, логики, жизненности, типичности, организованности быта. Рабочий-зритель не терпит излома, манерности, выкрутас, мистики[211].
Такое активное использование печати и литературы для мобилизации населения само по себе не было советским изобретением. Сходные планы и проекты были частью процесса модернизации европейского и американского обществ. Например, Джек Зайпс в своем исследовании детской литературы Веймарского периода показывает, как социал-демократы и коммунисты Веймарской республики опирались на жанр детской сказки для «повышения политической сознательности» и формирования «перспектив молодого поколения»[212]. Прикладной характер этого процесса не был и исключительно социалистическим. Эдвард Бернейс, превративший в США «связи с общественностью» (public relations) в профессию, начинал свою книгу «Пропаганда» (1928) с четко обозначенной установки: «сознательное и умелое манипулирование организованными привычками и мнениями масс является важным элементом демократического общества»[213]. (Илл. 46)
Отличительной советской чертой в данном случае был не масштаб использования печати для организации «привычек и мнений масс», а характер использования медиаформ. Национализация музеев и галерей, постепенная централизация и огосударствление издательской деятельности (вместе с исчезновением частных коллекционеров) практически полностью уничтожили художественный рынок в Советском Союзе. В итоге издательская индустрия в целом и сфера «агитации и пропаганды» в частности стали единственной отдушиной для большого числа художников, готовых работать над «однодневными» формами искусства[214]. Российский историк Дмитрий Фомин убедительно показывает в своем фундаментальном исследовании раннесоветского книгоиздания, как эти «злободневные» арт-формы стали «испытательным стендом, где апробировались непривычные пластические идеи»[215]. Переводя партийно-государственные директивы на язык визуальных форм, художники и дизайнеры постепенно формировали «новую архитектуру» советских книг[216]. Лисицкий, как всегда емко, сформулировал суть этого процесса:
Раньше книга, если можно так выразиться, строилась для чтения, для уха, в самом начале книга была редкость, да и люди были малограмотны и обычно книгу читали вслух. Теперь это состояние изменилось, и процесс СЛУШАНИЯ книги превратился в процесс СМОТРЕНИЯ, т. е. книга стала единством из акустики и оптики. Учет этого факта ведет к построению книги, в которой автор должен быть полиграфистом[217].
Илл. 46. Книга вместо водки: умелое манипулирование привычками масс. Плакат Первого Всероссийского беспроигрышного книгорозыгрыша «Книга вместо водки» (М., Л.: Гос. изд-во, 1929). Автор не установлен. Коллекция Российской государственной библиотеки.
В комментарии Лисицкого очевидна растущая важность оптического измерения раннесоветской печати. Комментарий хорошо отражает и еще один аспект, стремление к синхронизации – смычке – изобразительного и дискурсивного. Лисицкий превратил скептический вопрос Тынянова – «Но иллюстрируют ли иллюстрации?»[218] – в практическую попытку определиться с тем, что он называл «оптической подачей» изданий[219]. Устойчивое предпочтение тексту в совокупности с длительной традицией восприятия иллюстрации как «внелитературного материала», сменялись ориентацией на подчеркнуто диалогические отношения между словом и образом[220].
Илл. 47. Праздник книги как искусство кройки и клейки: приложение к журналу 1932. № 4. Оформление А. Правдиной.
В течение очень короткого времени эта оптическая ориентация драматически изменила основные советские установки по поводу печатных медиа. В 1927 году Анна Покровская в своем обзоре детской литературы отмечала: «…в настоящее время считается принципиально необходимым обильно иллюстрировать книгу для детей»[221]. Всего лишь за несколько лет до этого подобная «принципиальная необходимость» казалась непозволительной и ненужной роскошью[222]. (Илл. 47)
«Правда» в картинках
Неудивительно, что фотомонтаж стал могучим союзником агитационноутилитарного искусства, оказывая выдающиеся услуги и плакату, и стенгазете, и афише, и книжной обложке, неся им то правдивость своего изображения, то усиление идейно-значительных штрихов.
Игнатий Хвойник, 1927 год[223]
Формулировка «принципа наглядности» как ключевого критерия эффективности изоработы и изоматериалов во многом стала отличительной чертой поворота к оптике в раннесоветский период. Принцип указывал на необходимость целесообразных отношений между графическим и вербальным, изобразительным и дискурсивным, художественным и идеологическим[224]. При этом принцип наглядности не сводился к простой замене текста картинкой. «Картинка», в свою очередь, не понималась как исключительное проявление наглядности. Скорее, целью было превратить издание в графически и семантически эффективное произведение с помощью любых доступных средств – от собственно изображений до творчески используемых шрифтов, красок, полей и интервалов. В 1925 году журнал «Полиграфическое производство» еще объяснял принципы конструктивистского оформления печати как нечто «необыкновенное для глаза», подчеркивая при этом его целесообразность:
В конструктивном наборе, наряду с простотой, часто появляется неожиданное, необыкновенное для глаза, привыкшего к симметрии, что невольно заставляет читателя обратить особое внимание на тот или иной текст, на те или иные фразы или отдельные слова. В конструктивном наборе нет тех условностей, какие мы видим в обыкновенном наборе. Все допустимо, все позволительно, лишь бы было целесообразно и ясно для читателя[225]. (Илл. 48)
К 1932 году динамизирующая роль визуального оформления текста воспринималась уже как данность. Установка на то, что все целесообразное (в пределах нормы) – допустимо, стала общим местом, и журнал «Бригада художников» мог себе позволить межкультурные обобщения по поводу различных технологий наглядности:
Западный конструктор книги добивается нейтрального и спокойного оформления, исходя из задач, поставленных буржуазией перед массовой книгой в целом. Ему надо провести знак равенства между пищеварительным процессом и процессом чтения. Брошюра к посевной оформлена по-иному. <…> Оформитель стремится активизировать оформление средствами акцентировки и выделения шрифтов. Вникая в текст, он делает смысловые ударения, используя для этого различнейшие средства наборной графики. Он будит сознание читателя, выделяя самое важное. Он знает, что, приковав внимание к сжатой формулировке, к лозунгу, он поможет читателю преодолеть серые полосы уплотненного текста, только изредка перебиваемые акцентированными смысловыми ударениями[226].
Цитата удачно схватывает понимание оптического режима чтения, из которого исходили создатели «воздейственной» наглядности в раннесоветской России. Сознание зрителя нужно было «будить». Внимание зрителя нужно было «приковывать». Траекторию его чтения нужно прокладывать, выделяя зрительными ударениями смысловые элементы текста. Говоря чуть иначе, текст, построенный по принципу наглядности, выступал одновременно и как материал для чтения, и как визуальное пособие, облегчающее процесс его прочтения. Наглядный текст – своего рода предвестник PowerPoint — это сообщение, демонстрирующее графически свой собственный смысловой скелет[227].
К моменту появления этой статьи о «проблемах оформления массовой книги», ориентация массовой печати на «оптическую подачу» в стране в значительной степени уже сложилась[228]. Чтобы лучше представить динамику оптического поворота, я приведу несколько примеров из газеты «Правда». Благодаря своей доступности и ведущему положению в системе советской печати – ежедневный тираж газеты достигал 2 миллиона экземпляров[229] – «Правда» задавала своеобразную идеологическую и визуальную «планку». Газета служила нормативной моделью развития оптического поворота в стране, традиционно выступая силой, «прямиком заражающей массы», как писал чуть раньше журнал «Печать и революция»[230].
Я отобрал девять первых полос, которые вышли в свет в промежутке между 1918 и 1933 годами в одно и то же время – 6–7 ноября. Как правило, эти выпуски были посвящены годовщине революции, и к их оформлению относились с повышенным вниманием. Праздничные номера этих пятнадцати лет в концентрированной форме воспроизводят эволюцию графического языка «Правды»: абсолютное отсутствие изобразительного материала вначале постепенно сменялось активным освоением возможностей иллюстрации, которое затем быстро вырождалось в набор устойчивых визуальных клише. Многообразие превращалось в шаблон, а разноголосье – в череду ритуализированных приемов. При этом сохранялась общая тенденция: к концу периода текст и изображение выступали равноправными «участниками» процесса оформления газетного листа, а фотомонтаж стал ведущим приемом организации визуального материала.
Илл. 48а-б. «В конструктивном наборе… все допустимо, все позволительно, лишь бы было целесообразно и ясно для читателя». Разворот с иллюстрациями к статье А. М. Соколова «Конструктивизм в наборе» (Полиграфическое производство, 1925. № 5).
Илл. 49. Правда, 6 ноября 1918 года.
Выпуски «Правды» времен Гражданской войны (1918–1921) полностью игнорировали семантические и идеологические возможности иллюстрации. Блеклые и «слепые» страницы этого периода предлагали читателю колонки текста, которые лишь изредка перебивались заголовками и лозунгами. (Илл. 49)В 1922 году положение резко изменилось. Дмитрий Моор, известный художник-плакатист (и один из инициаторов создания журнала «Крокодил» в 1922 году), расположил в верхней половине газетного листа лозунги, сопроводив их рукописным поздравлением Владимира Ленина в правом углу[231]. (Илл. 50)
Илл. 50. 7 ноября 1922 года Оформление Д. Моора.
Существенно, однако, то, что текстовые элементы размещались по краям и в «подвале» страницы. Смысловой и физической сердцевиной пространства становился зрительный образ: центр полосы уверенно занимал рисунок, на котором рука рабочего била молотом (с надписью «1917») по наковальне (с номером «1922»), производя на свет серию чисел-искр —1919, 1920, 1921. Этот выпуск «Правды» в значительной мере опирался на принцип разно-видности монтажа, но ощущение визуального динамизма создавалось еще и с помощью использования шрифтов разных типов и разных размеров.
Илл. 51. 6–7 ноября 1927 года. Оформление В. Дени.
Графическая экспансия зрительных образов, предпринятая в этом номере, нормой стала не сразу. Праздничные выпуски газеты за 1923, 1925–1927 годы выглядели гораздо скромнее. Однако и они сохраняли возникшую иерархию отношений между словом и образом: иллюстрации последовательно отводилось главное место. Не «рисунок окружал текст», как этого хотел бы Тынянов[232], а колонки текста окружали рисунок – преимущественно портрет Ленина, – служивший смысловым ядром полосы. (Илл. 51)
Ярким исключением из череды консервативных композиций середины 1920 х годов стал выпуск, созданный Моором к 7 ноября 1924 года, в котором графический и текстуальный компоненты дизайна взаимно усиливали друг друга. (Илл. 52) Для облегчения ориентации читателя в тексте, главные идеи и предложения страницы были выделены жирным шрифтом (в течение нескольких лет эта практика шрифтового выделения важных имен, дат, фраз и мест будет общепринятой).
Илл. 52. 7 ноября 1924 года. Оформление Д. Моора.
Визуально газетный лист последовательно разбивался на части и соединялся вместе при помощи лестницы исторического прогресса, которую Моор выстраивал как серию ступенек из ленинских цитат. Движение вверх начиналось в темном 1917 году, а ступень 1918 года словами Ленина обосновывала визуальную метафору лестницы: «Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата». Каждая текстографическая ступень-цитата отсылала к определенному событию или процессу соответствующего года. Вершину этой «лестницы в небо» завершала тройка из рабочего, крестьянина и женщины, которые твердой поступью шли в неопределенное светлое будущее. Последняя цитата-ступень 1924 года, впрочем, оптимистически обещала неизбежность исторического успеха: «Осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании советской власти с советской организацией управления с новейшим прогрессом капитализма».
Илл. 53. 7 ноября 1928 года. Оформление В. Дени.
С конца 1920 х годов улучшение качества печати в оформлении праздничных выпусков становится все более заметным; соответственно расширяется и палитра визуальных приемов. В праздничном выпуске 1928 года привычный рисунок вождя (в исполнении Виктора Дени) сопровождался сложным монтажным фоном с изображением новостроек, а монотонность визуальной организации самого текста страницы перебивалась фрагментами из ленинских рукописей. Используя графический потенциал рукописного слова, такой подход постепенно закладывал основы для превращения текста в визуальный орнамент. (Илл. 53.) В 1929 году объем изобразительных компонентов на полосе резко возрастает, при этом сочетание рисунков и коллажей Виктора Дени становится композиционно более организованным. Газетная страница начинает приобретать сходство со сценическим пространством – со своими героями, статистами и декорациями. (Илл. 54)
Илл. 54. 7, ноября 1929 года. Оформление В. Дени.
Развитие «оптической подачи» в «Правде» достигает своей кульминации в 1930 году. Набор визуальных средств в праздничном выпуске этого года можно считать своеобразной азбукой пластического языка советской пропаганды. (Илл. 55)Фотография превращается в решающий элемент «принципа наглядности», потеснив шрифты, рисунки и композиционную организацию[233]. Именно в этом номере «Правды» произошли две важные иконографические «премьеры». Впервые на главной полосе праздничного выпуска появляется большой фотомонтаж. Снимки различных размеров, ориентаций и степени подробности группировались в виде вертикальной колонки вдоль левого края страницы. Каждый фотоснимок сопровождала лаконичная подпись, уточняющая название или место нахождения изображенного сооружения. В качестве единого визуального блока фотомонтаж олицетворял карту индустриальных достижений «тринадцати лет борьбы за социализм»: Турксиб, Кузнецкстрой, Днепрострой, Магнитогорск, Уралмедьстрой, Баку и т. п. (Илл. 56) Визуальный авангардизм фотомонтажа (слева) уравновешивался более традиционными рисунками (справа). Именно в этом контексте в первый раз на главной полосе праздничного выпуска был напечатан рисованый портрет Иосифа Сталина – в дополнение к портрету Ленина, уже ставшему традиционным (оба выполнены Виктором Дени). Начиная с 1930 года, изотандем вождей станет неотъемлемым элементом праздничных выпусков газеты.
Илл. 55. 7 ноября, 1930 года. Рис. В. Дени. Автор фотомонтажа не указан.
Занимая более половины страницы, визуальная композиция задавала и определенную драматургию чтения. Разместив рисунки Ленина и Сталина по правому краю, художник «заставил» вождей «смотреть» на фотомонтаж, расположенный слева. В свою очередь, два заголовка-лозунга в верхней части полосы – «Вопреки – Добились» – конденсировали общее направление композиционной фабулы. Вопреки «интервенциям, Колчакам, Деникиным, саботажу, вредительству» и т. п., мы добились «повышения вдвое довоенной промышленной продукции… полной ликвидации безработицы, укрепления обороноспособности СССР, превращения СССР в базу мировой революции» и т. п.
Илл. 56. Фрагмент фотомонтажа с первой страницы от 7 ноября 1930 г. Автор не указан.
Газетная плоскость динамизировалась благодаря комплексной композиции, содержательной разновидности и стратегическому использованию лозунгов. Предлагая различные способы репрезентации реальности (рисунок, фотография, текст), новый визуальный язык страницы требовал от аудитории постоянного диалога с иллюстрациями. Разноплановые ориентации и размеры смонтированных фотоснимков вынуждали читателя-зрителя постоянно корректировать точку своего зрения, придавая тем самым ощутимость процессу активного зрительного восприятия. Общий смысл изображения можно было понять лишь при постоянной смене взгляда.
Илл. 57. 7 ноября, 1932 года. Оформление В. Дени.
Динамизм и мультимодальность «Бездейственной» культуры «Правды» довольно быстро подверглись эстетико-политической нормализации. В праздничном номере 1932 года фотографий не было, но при этом половину первой страницы занимали рисованная композиция Виктора Дени: силуэт башни Шухова (связь как символ модернизма) располагался между портретами двух вождей на белом фоне. (Илл. 57)Тексты, размещенные на странице, придавали ей отчетливо ритуальный характер: место статей теперь занимали приветственное послание Сталина и набор праздничных лозунгов. Смена подачи лозунгов в данном случае симптоматична: лозунги утрачивали свой характер конденсатора смысла в пределах страницы; вместо этого газета выносила их действие вовне, предлагая лозунги в качестве готового набора форм косвенной речи. Исходная установка на смысловую работу заголовков-лозунгов сменялась установкой на их цитатное воспроизводство.
Илл. 58. 7 ноября, 1933 года. Фотомонтаж Г. Клуциса.
Фотографии вернулись на первую полосу уже в следующем, 1933 году, но их возвращение сопровождалось очевидной стабилизацией процесса изобразительных поисков. И иконография, и нарратив подверглись заметному упрощению. (Илл. 58) Автором оформления был Густав Клуцис, художник, создавший базовые идиомы советской визуальной пропаганды. Праздничный выпуск Клуциса решительно избавлялся от информационной избыточности, характерной для более ранних выпусков «Правды». Фрагментированные фотоснимки, конкурирующие между собой за внимание зрителя, исчезли, не стало и документирующих подписей. В итоге фотофрагменты утрачивали свою информирующую функцию, выступая в виде декораций и фона. Акцент на документальности смещался в сторону монументальности и целостности композиции, которая обрела явные визуальные и цветовые доминанты.
Драматизация образов при этом сохранялась, но она меняла свою направленность. Графически Сталин окончательно выходил на передний план, оставляя за собой в качестве фона цифру 7 (день революции), плавно перетекающую в портрет Ленина. Политическая нумерология (инфографика?) присутствовала и еще в одном виде: самолеты на одном из снимков были организованы в виде цифры XVI, обозначающей годовщину революции. Вещи превращались в символы.
В монтаже Клуциса Ленин и Сталин тоже «играли роль» метазрителей, рассматривающих иллюстрации. Однако, видели они в данном случае не процесс индустриального строительства страны, а праздничную процессию из комбайнов, дирижаблей, самолетов и людей, глядящих (снизу вверх) на своих вождей. «Миллионы строят социализм», – фактографически прояснял заголовок суть происходящего в выпуске 1930 года. «Массы творят историю», – таинственно суммировал важность событий заголовок в 1933 году.
Эти праздничные страницы газеты позволяют увидеть в сжатой форме постепенную эволюцию роли визуальных материалов в раннесоветской массовой печати. Как показывает «Правда», поворот к оптике не был ни линейным, ни одномоментным. Творческие эксперименты перемежались в нем со стремлением к более консервативным решениям. Но несмотря на всю подвижность визуальных установок и изобразительных средств, трансформация графического языка «Правды» наглядно выразила общую направленность оптического поворота: фотография в целом и фотомонтаж в частности начинали играть в нем растущую роль.
Два отца советского фотомонтажа
Когда т. Гартфильда, крупного фотомонтажиста, спросили, кто является изобретателем фотомонтажа (вопрос был поставлен в связи с тем, что одно время Лисицкий утверждал, что он является первым фотомонтажистом, Родченко говорил, что изобретатель фотомонтажного движения – он, Клуцис, в свою очередь, утверждал, что он положил начало фотомонтажу), Гартфильд ответил, что не стоит заниматься этим вопросом, так как делу это не поможет, а создаст лишь антагонизм между работниками фотомонтажа.
Фанк Тагиров, 1931 год[234]
Социальный и институциональный контексты оптического поворота, о которых шла речь до сих пор, помогают лучше понять востребованность фотомонтажа как метода работы с готовым изобразительным материалом. В свою очередь, структурные и психологические основы, на которых строился монтаж, проясняют логику его воздействия. Но ни контекст, ни технология фотомонтажа не раскрывают содержательную привлекательность этого приема. История появления первых фотомонтажных работ в России помогает восполнить этот пробел.
В лефовской статье 1924 года, о которой я говорил в самом начале, под фотомонтажом понималось «использование фотографического снимка как изобразительного средства»[235]. Автор статьи обосновывал необходимость замены «композиции графических изображений» на «комбинацию фото-снимков» двумя причинами. Негативное обоснование исходило из того, что традиционные изобразительные средства (рисунок, живопись и т. п.) в процессе репрезентации подвергают «зрительный факт» творческой деформации. Соответственно, позитивное обоснование утверждало, что сама механическая природа фотографии позволяет добиться «точной фиксации» зрительного факта[236]. Точность «фиксации» и документализм фотографии, констатировала статья, воздействовал на зрителя «в тысячу раз больше», чем соответствующие картинки: «Плакат о голоде с фото-снимками голодающих производит гораздо более сильное впечатление, чем плакат с зарисовками этих же голодающих»[237]. Осип Брик – один из возможных авторов этой статьи в «ЛЕФе» – в том же году в статье, тоже названной «Фотомонтаж», сделал на фактографической специфике фотомонтажа особое ударение: «Фотоснимок дает факт. Фотомонтаж комбинирует эти факты для определенного воздействия на зрителя. <…>… Фотомонтаж не фантазирует, не выдумывает, а дает реальные факты»[238].
При всей уверенности в документальных возможностях фотографии и фотомонтажа, редакция «ЛЕФа» не решилась иллюстрировать статью отечественными примерами. Вместо них использовался фотомонтаж «Метрополис» Пауля Ситроена. Показательно и то, что в статье упоминался только один российский автор, работавший в технике фотомонтажа, – Александр Родченко.
Илл. 59. «Четырежды состарюсь – четырежды омоложенный» [Машина воскрешений]. Фотомонтаж А. Родченко для книги Владимира Маяковского Про это (М.: Гос издат 1923).
За год до выхода номера «ЛЕФа» со статьей о фотомонтаже, Родченко проиллюстрировал своими монтажами книгу «Про это» Владимира Маяковского, редактора «ЛЕФа», используя изображения людей, животных, предметов и структур для создания полифонических визуальных композиций[239]. (Илл. 59) Однако, за исключением фотографий Лили Брик, которой была посвящена поэма, и самого Владимира Маяковского (снятых Абрамом Штеренбергом), фотомонтажи Родченко были далеки от того, чтобы производить эффект документальной аутентичности, на котором так настаивала статья в «ЛЕФе»[240]. В книге «Про это» фотомонтажи формировали «параллельные планы», как их называл Тарабукин[241]. Опубликованные в виде отдельных вклеек, фотомонтажи соотносились с текстом лишь по касательной. Во многом фотомонтажный ряд книги стал своеобразной иллюстрацией к тезису Тынянова: вклейки с причудливо скомпонованными фигурами открыто демонстрировали свою собственную артистическую автономию в отношении содержания, которое они должны были проиллюстрировать.
Илл. 60. «Печатные материалы» А. Родченко для журнала Кино-фот № 1, 1922. Вверху: фрагмент страницы журнала. Внизу: макеты фотомонтажей.
Сергей Третьяков, поэт и теоретик советского жанра фактографии, в эссе о фотомонтаже 1936 года ретроспективно отмечал, что «“кухней фотомонтажа” было в значительной мере кино»[242]. Кинематографическое происхождение фотомонтажа проясняет логику формирования его принципиальных особенностей. Точная сфокусированность при отборе зрительных фактов и документальность репрезентационного метода, свойственные фотографии, сочетаются здесь с заимствованным из кино динамизмом в организации зрительных фактов на поверхности страницы.
«Кино-фот» – влиятельный, но недолго существовавший журнал – добавляет к этой истории возникновения фотомонтажа в России важный исторический слой. В августе 1922 года в своем первом номере журнал опубликовал несколько небольших коллажей Александра Родченко. (Илл. 60) Изначально эти работы возникли как иллюстрации к книге Ивана Аксенова «Геркулесовы столпы»; книга, однако, не вышла, и работы были напечатаны лишь в «Кино-фоте»[243]. Симптоматично соседство этих материалов в журнале. Зернистые, черно-белые композиции из фотоснимков, газетных заголовков и рисунков Родченко помещались между двумя важнейшими текстами русского авангарда. С одной стороны, Дзига Вертов в своем манифесте «МЫ» переосмыслял суть кино, находя в нем «искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и времени[244]. А с другой – в статье «Американщина» еще один режиссер, Лев Кулешов, предлагал видеть в динамичном американском монтаже суть «подлинной кинематографии»[245]. Двумя номерами позже «Кино-фот» – словно подчеркивая связь между кино и фотомотажом – публиковал еще два коллажа Родченко – на этот раз в качестве иллюстрации к главе «Монтаж» из книги Кулешова, готовящейся к печати. (Илл. 61)
Небольшая редакционная заметка «Кино-фота», которая сопровождала «Печатный материал для критики, смонтированный конструктивистом Родченко», напоминала читателям, что использование «неживописного» материала в работах художников практиковалось и раньше – например, в работах Пабло Пикассо или швейцарских дадаистов. Однако, как указывалось в статье, формальное сходство этих двух версий фотомонтажа не должно скрывать принципиального онтологического различия между ними. В отличие от ««левых» художников, живущих в атмосфере буржуазного «благополучия» Западной Европы, – поясняла статья, – левые мастера пролетарской республики» создают свои фотомонтажи «не ради туманных проблем нездоровой эстетики». Цель советских фотомонтеров в том, чтобы «осмыслить всякую возможность изобразительных средств, конкретизируя экспериментальные процесс своего производства»[246].
Илл. 61. «Психология», коллаж А. Родченко, сопровождавший статью Л. Кулешова «Монтаж», в журнале Кино-фот № 3, 1922.
Любопытно, что сам Родченко о своих монтажах не опубликовал ни одной статьи. Его дневники – при всей их словоохотливости – о монтаже упоминают тоже крайне редко. В одной из поздних записей о 1923 годе Родченко сухо запишет: «Я первый начал делать фотомонтажи в СССР», – и перечислит скороговоркой ряд своих работ в качестве свидетельств (плакаты к фильмам Вертова и Эйзенштейна, иллюстрации для «Кино-фота», «Молодой Гвардии», «Спутника коммуниста» и т. п.)[247]. Варвара Степанова, соратница и жена Родченко, напишет о работах мужа чуть больше. В своей короткой статье «Фотомонтаж» она свяжет начало истории фотомонтажа и биографии «первого фотомонтажера» в России именно с коллажами в «Кинофоте»[248].
Илл. 62. «Всеядный» монтаж А. Родченко: плакат «Партия в годы Империалистической войны 1914–1916 гг.» из серии «История ВКП(б) в плакатах» (М.: Изд-во Коммунистической Академии, 1927).
Коллекция Российской государственной библиотеки.
В своих последующих работах Родченко заменит инертный фон первых монтажей цветовыми плоскостями и начнет активно использовать типографский текст, окончательно превратив фотомонтаж в мультимодальную конструкцию. (Илл. 62) Такая изобразительная «всеядность» и разно-видность фотомонтажа способствовали дальнейшему росту его популярности. Как вспоминал позднее Третьяков, фотомонтаж, «введенный» Родченко, превратился «в своего рода поветрие»[249]. Степанова тоже отмечала, что
…Фотомонтаж как новая форма, заменившая рисунок, получил огромное распространение во всей периодической печати, агитационной литературе и рекламе. Этот прием становится настолько популярным и необходимым, благодаря своим огромным возможностям, что быстро распространяется по рабочим клубам и учебным заведениям, где в стенных газетах фотомонтаж легко обслуживает все злободневные темы. <…> 1924–1926 годы были годами поголовного увлечения фотомонтажом в советской прессе[250].
Направление, заданное работами Родченко, хорошо демонстрирует интермедиальный (кино/фотография/текст) и интернациональный (дадаизм и Пикассо) контекст, в котором складывался и развивался фотомонтаж. Именно за этот контекст чуть позже Родченко станет объектом жесткой критики. Третьяков попытается (на время) поставить «критиков» на место: «Вражеские голоса кричат – при чем тут Родченко. Фотомонтаж всегда существовал в иностранных журналах для целей рекламы. Отвечаем. В том-то и сила, что Родченко прием, пользованный для рекламы, использовал для иллюстрации, вытесняя из этой иллюстрации карандаш художника[251]. (Илл. 63)
Одним из «вражеских голосов», как это ни удивительно, был Густав Клуцис, редко упускавший возможности устно и письменно противопоставить свое политическое искусство монтажа разнообразной «художественной лжи, которая выдает приспособленческую халтуру импрессионистических и натуралистических эпигонов за выражение образов революции»[252]. Для Клуциса фотомонтаж был не просто еще одним изобразительным методом, а естественным визуальным выражением «новой социальной установки», рожденной революцией:
Агитплакат, обложка, иллюстрация, ленинские лозунги, стенгазета, красные уголки потребовали новых, острых, живых, точных методов оформления. Потребовалось сильное своей техникой, вооруженное аппаратурой и химией искусство. ИСКУССТВО, СТОЯЩЕЕ НА УРОВНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ. Таким искусством оказался фотомонтаж[253].
Илл. 63. А. Родченко, Автошарж, 1922 год.
С точки зрения Клуциса, развитие монтажа в советской России было противостоянием двух несовпадающих линий – «рекламноформалистической» и «агитационно-политической»[254]. И если монтажи Родченко обозначили «западническую» и модернистскую составляющую фотомонтажного искусства, то работы самого Клуциса стали олицетворением подчеркнуто советской траектории развития фотомонтажа[255].
В статьях и заметках, опубликованных в 1931–1932 годах, Клуцис решительно отказывал Родченко в статусе «отца-основателя» жанра. Советский политический фотомонтаж, по его мнению, своим происхождением был обязан «ударной бригаде фотомонтажистов», которая разработала основы этого жанра «как в лабораторно-исследовательском разрезе, так и в производственном»[256]. В докладе на совещании о перспективах политического плаката в СССР в июне 1931 года Клуцис пояснял:
Бригада состоит из следующих товарищей: [Сергей] Сенькин – один из первых, кто примкнул к этому движению, работает с 1924 г., [Валентина] Кулагина – работает с 1925 г., [Василий] Елкин и [Наталья] Пинус – работают с 1928 г., а автор данного доклада, впервые поставивший эту проблему как новую систему изооформления, работает с 1919 г.[257]
Илл. 64. Г. Клуцис, «Штурм. Латышские стрелки (Штурм. Удар по контрреволюции)». Эскиз монументального панно для наружного оформления здания Большого театра к 5-му Всероссийскому съезду советов, 1918 год.
Коллекция Национального художественного музея Латвии.
Свой приоритет Клуцис доказывал ссылками на пару произведений, которые были сделаны за несколько лет до публикаций Родченко в «Кино-фоте»[258]. Две небольшие живописные работы 1918 и 1919 годов действительно включали в себя фрагменты фотографий. Одна из них была эскизом панно «Штурм. Удар по контрреволюции» (1918), которое Клуцис планировал создать к Пятому съезду Советов для оформления фасада Большого театра. (Илл. 64) Вторым произведением был «Динамический город» (1919), сильно напоминающий по своей структуре и тематике композиции Эль Лисицкого во время его работы в Витебске[259]. (Илл. 65, 66)
Илл. 65. Г. Клуцис, «Динамический город», 1919 г. Коллекция Национального художественного музея Латвии.
Как настаивал Клуцис в своей статье 1931 года, именно в его «Динамическом городе» «фото впервые было использовано как элемент фактуры и изобразительности и смонтировано по принципу разномасштабности, уничтожая вековые каноны изображения, перспективности и пропорций»[260]. Чтобы подчеркнуть динамизм фотомонтажа, иллюстрация с изображением «Динамического города» была подписана не только снизу, но и сверху. При этом, чтобы прочитать верхнюю подпись, книгу нужно было перевернуть на 180 градусов. Подпись разъясняла причину такой обратимости: «Работу рассматривать со всех сторон». (Илл. 67)
Илл. 66. Эль Лисицкий. Агитационное панно «Станки депо фабрик заводов ждут вас. Двинем производство» перед одной из фабрик Комитета по борьбе с безработицей. Витебск, 1919 г.
Влияние ранних фотомонтажей Клуциса вряд ли может сравниться с влиянием фотомонтажей из книги «Про это». Циркуляция их была ограниченной; кроме того, панно «Штурм», судя по всему, так и не было создано. Но если хронология создания «Динамического города» верна, то Густав Клуцис действительно был первым российским дизайнером, который начал экспериментировать с интеграцией фотографического материала в живописный текст для создания не только эстетического, но и политического эффекта. Стилистика его преимущественно нефигуративных работ – с их структурным использованием геометрических форм, хроматическим минимализмом и акцентированной диагональной организацией композиции – выступает довольно типичным примером советского фотомонтажа как жанра[261]. Существенно и другое. В более поздней записке, приложенной к фотографии «Динамического города», Клуцис не ограничился лишь декларацией своей роли в создании фотомонтажа («Отсюда необходимо считать начало фото-монтажа в СССР»[262]). Он также обозначил две решающие причины – материальную и эпистемологическую – для использования фотографии. Согласно Клуцису, фотографию можно и нужно было рассматривать как материальный предмет, обладающий собственными «фактурными» свойствами. Фотоснимок может служить источником дополнительного тактильного опыта – «наряду с другими фактурами (глянец, матовая, шероховатая, прозрачная, эмалевая, бумажная и т. д.)»[263]. (Илл. 68) В определенной степени Клуцис следовал здесь логике Вертова, понимавшего (кино-) искусство как организацию целенаправленного движения вещей в пространстве и времени. При этом Клуцис резко менял ориентацию вертовского взгляда. В фокусе оказывались не методы организации движения предметов (т. е. ритм, интервал, повтор и т. п.), а материальные свойства (фактура) вещей, которые было необходимо организовать. В итоге траектория взгляда задавалась разнородными свойствами поверхности монтажа, переключавшими внимание зрителя «с одной категории «раздражителей» на другую»[264].
Илл. 67. «Работу рассматривать со всех сторон»: иллюстрация (с инструкцией) к статье Г. Клуциса «Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства» в сборнике Изо-фронт: классовая борьба на фронте пространственных искусств. Сб. статей объединения «Октябрь» / под ред. П. И. Новицкого. (М., Л.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ, 1931)
Илл. 68. Фотомонтаж как осязаемая вещь: фрагмент «Динамического города» Г. Клуциса (1919).
Вторая принципиальная особенность фотографии, по мнению Клуциса, заключалась в ее смыслообразующем потенциале. Сюжетная ясность монтажа в «Динамическом городе» достигалась, как объяснял в записке сам Клуцис, благодаря «вмонтированным фото рабочих и сооружений». Именно при помощи такой фигуративной интервенции «сама по себе отвлеченная конструкция приобретает конкретность стройки»[265].
Разумеется, эти выводы и уточнения Клуциса имеют мало общего с документализмом фотографии, о котором шла речь выше. Вместо того, чтобы фиксировать «зрительный факт» (как этого хотели бы авторы «ЛЕФа»), фотомонтажи Клуциса фиксировали смысл художественной работы. В записке Клуциса свидетельская и идентифицирующая функции документальной фотографии оказывались в тени их фактурного и смыслообразующего воздействия. Конкретность фотографической фактуры была призвана стабилизировать, дисциплинировать и сюжетно упорядочить динамический хаос абстракции.
В более поздних работах Клуциса этот интерес к стабилизирующей конкретности фотографии как изобразительного жанра проявится наиболее ярко. Фотомонтаж станет для него прежде всего «орудием агитации и пропаганды»[266]. На фоне такой откровенной политизации жанра, «рекламно-формалистический» фотомонтаж был для Клуциса не только конкурирующей «линией», но и явно «чуждым течением», соединившим в себе приемы американской рекламы, швейцарских дадаистов и немецких экспрессионистов[267]. Сжигая все мосты, Клуцис публично громил коллег по цеху в 1931 году:
За последние годы, в связи с обострением классовой борьбы, активно заработали отдельные элементы мелкобуржуазной интеллигенции, пытающиеся свернуть пролетарское искусство на путь западной рекламы, формализма и эстетизма. Идеологами таковых являются: Ган, Лисицкий, Родченко. Проводники их идей: Тагиров, Телингатер, Седельников, Игнатович. Под видом новых методов оформления они протаскивают в нашу массовую книгу давно отжившие буржуазные рекламные приемы: культ линеек, палочек, стрелочек, кромсание страниц, диагональный трафарет и т. п., этим скрывая содержание книги (книги у них рассчитаны на любителя-мецената). Эта группа в основном разбита, но… не добита[268].
Против «мелкобуржуазных» приемов формализма и эстетизма Клуцис выдвигал свой «политический фотомонтаж как идеологическое оружие наступающего класса», фотомонтаж, выросший «в большое агитационное искусство пролетариата на почве Октябрьской революции, в процессе классовой борьбы и строительства»[269]. В значительной степени борьба Клуциса была успешной, и он – как никто другой – может с успехом претендовать на роль главного создателя визуальных форм, с которыми обычно ассоциируется период раннего сталинизма.
Илл. 69. Г. Клуцис, автопортрет с фотоаппаратом, 1924 год. Галерея «Не болтай: А Collection of 20th-Century Propaganda» (www.neboltai.org/).
Отношения Клуциса с революцией были прямыми и недвусмысленными. В составе роты латышских стрелков он принимал участие в свержении Временного правительства в Петрограде в 1917 году и в подавлении восстания левых эсеров в июле 1918 года. После революции он работал в охране вновь созданного советского правительства – сначала в Петрограде, а затем – после переезда в Москву – в Кремле. Именно в Кремле в 1918 году, во время работы над кремлевским пейзажем, Клуцис встретился впервые с Лениным[270]. Вдохновленный политическими переменами, Клуцис вспоминал позднее: «Новые социальные задачи и классовая борьба, объекты строительства, социалистические гиганты требовали новых методов оформления – объективных, документальных. <…> Нужно было ленинское искусство, искусство ленинской партии»[271]. (Илл. 69)
И «ленинское искусство» появилось. Начиная с 1920 года, Клуцис создал ряд работ в жанре, который он называл «фотолозунг-монтаж», связывая в них «политические лозунги… изобразительными средствами»[272]. Единство – смычка – визуального, текстуального и политического было призвано «выявить сущность ленинизма»[273].
Искусство Клуциса было «ленинским» не только идеологически, но и, так сказать, формально. Сама идея «фотолозунга-монтажа», скорее всего, стала (ретроспективно сформулированным) ответом на широко растиражированную фразу Владимира Ленина о фотографии. Фраза вошла в директиву Ленина о киноделе, надиктованную в январе 1922 года. Обращаясь к Народному комиссариату просвещения, политик настаивал на необходимости организации кинотеатров, кинопоказов и кинопроизводства в городах и деревнях России – включая, в том числе, и производство «увеселительных картин, специально для рекламы и для дохода (конечно, без похабщины и контрреволюции)»[274]. При этом, походя, Ленин отмечал, что «нужно показывать не только кино, но и интересные для пропаганды фотографии с соответствующими надписями»[275].
По словам журнала «Советское фото», это единственное ленинское «указание в области фотографии» стало «для общественного сектора фотографии, для массового фото-движения, для общественников фоторепортеров» таким же значимым, как и ленинская фраза о кино («Из всех искусств – самое важное кино»)[276]. Клуцис исключением из общего правила не был и успешно конвертировал ленинскую идею о «фотографии с соответствующими надписями» в свой «фотолозунг-монтаж».
Широкомасштабная модернизация страны и особенно программа электрификации стали основными темами политического фотомонтажа Клуциса. Две работы 1920 года можно рассматривать как любопытные переходные опыты, сочетающие глубокий интерес к абстрактным объемам и формам с не менее глубоким пониманием потребности в эффективном искусстве, доступном для масс. (Илл. 70, 71) Оба фотомонтажа строятся вокруг фигуры Ленина. Оба используют геометрические формы в качестве основы для организации визуального пространства. В «Электрификации всей страны» Ленин «вырастает» из плоскости круга, расположенного внизу композиции. «Мир старый, мир вновь строящийся» использует схожие круговые формы в качестве фона. Сопоставляя эти два фотомонтажа с еще одной работой Клуциса, созданной примерно в это же время (илл. 72), можно видеть, как именно исходная «отвлеченная конструкция» наполнялась конкретным историческим смыслом в процессе фотомонтировки: фотофигуры не противопоставлялись абстрактным формам, а использовали их в качестве своей естественной визуальной среды. Говоря словами Клуциса, если фото фиксировало «статический момент, изолированный кадр», то фотомонтаж показывал «диалектическое развертывание тематики данного сюжета»: плоскость плаката планировалась, исходя «не из эстетической, а из политической сущности материала»[277].
Илл. 70. Г. Клуцис, «Электрификации всей страны», 1920 год. Коллекция Национального художественного музея Латвии.
Илл. 71. Г. Клуцис, «Мир старый, мир вновь строящийся», 1920 год. Коллекция Национального художественного музея Латвии.
«Мир старый, мир вновь строящийся» примечателен еще одним приемом Клуциса. (Илл. 71) Лозунги в данном случае не ограничивались функцией надписей, поясняющих смысл работы. Лозунги в фотомонтаже решали одновременно семиотическую и графическую задачи. Объясняя, лозунги конденсировали смысл всего изображения; одновременно с этой смыслооформляющей задачей они продолжали традицию использования слова в изобразительных целях. В виде графического (шрифтового) ансамбля лозунг структурировал визуальное пространство, усиливая или уменьшая значение других изобразительных фигур и объемов.
В одной из статей Клуцис назовет свой подход «методом скомплексирования» политически актуальных материалов. И терминологически, и по сути этот метод Клуциса имел немало общего с принципами суммарного и обертонного монтажа, описанного Эйзенштейном. Как и режиссер, в процессе «скомплексирования» Клуцис тоже увязывал и организовывал «единой целевой установкой» несколько разнородных материалов[278]. Состав материалов был при этом ограничен; в него входили: политический лозунг (цитата, подпись, слово), «социальное, активное» фото (в виде «изобразительной формы»), цвет (в виде «элемента активизации») и графические формы[279]. В свою очередь сам процесс монтажа сводился к ряду базовых требований: а) разномасштабность вместо «традиционной и ограниченной перспективности» в целях «активизации ударного момента»; б) контраст цвета и формы; в) активизация изображения «путем освобождения (вырезание) от инертного фона и перенесение его на активный цвет (предельный контраст ахроматического цвета с хроматическим)»[280].
Илл. 72. Г. Клуцис, «Конструкция», 1919–1920 годы. Коллекция Национального художественного музея Латвии.
Взгляды Клуциса на роль и форму фотомонтажа хорошо рифмуются с дебатами о наглядности и медиатизации, о которых шла речь раньше. Учитывая тесное сотрудничество Клуциса с советскими институтами агитации и пропаганды, эта близость вряд ли удивительна. Удивительно и неожиданно другое эпистемологическое родство – между визуальной эстетикой Клуциса и идеями, которые высказывали примерно в это же время советские педагоги и эксперты по детской книге.
Как и Клуцис, специалисты по эстетическому воспитанию детей тоже настаивали на том, что иллюстрации должны одновременно выполнять семиотическую и графическую функции, и резко отвергали репрезентации, которые строились на миметических или, используя термин того времени, «натуралистических» принципах. «Натурализм не есть искусство, – убеждал художников детской книги Давид Ханин, заведующий отделом детской и юношеской литературы Госиздата РСФСР в 1930 году. – Это не есть способ воздействия на мир, это есть способ пассивного его наблюдения»[281]. Через четыре года писатель Федор Гладков на Первом съезде советских писателей озвучит ту же самую критику в отношении литературы для взрослых. Настаивая на том, что в центре внимания должна быть «типичность», Гладков предупреждал о проблемах излишнего реализма:
«Натуралистичность в условиях развития нашей художественной литературы – вещь опасная, она может превратить художника в репортера»[282].
Наиболее отчетливо сходство в понимании оптического поворота в художественной практике фотомонтеров и педагогов продемонстрировала в своих публикациях Евгения Флерина, одна из самых активных сторонниц этнографического метода в изучении особенностей детского восприятия иллюстративного материала. Ее пособие для педагогических вузов по художественному образованию детей младшего возраста строилось на многолетнем наблюдении за 750 дошкольниками и анализе 150 тысяч экспонатов детского изобразительного творчества[283]. Уходя от диктата умозрительных концепций и установок, Флерина отстаивала принципиальную значимость педагогической прагматики: «необходимо не диктовать, какая книга нужна ребенку, но общими усилиями выяснять» это, используя «объективный научный материал и специальные исследования»[284].
Важность позиции Флериной заключается в ее стремлении разграничить два подхода в оформлении книг для детей. Во многом воспроизводя критику станковой картины, сформулированную Тарабукиным и Арватовым, Флерина отвергала иллюзионистский реализм, с его подражательными иллюстрациями («принцип натурализма») и выдвигала в качестве альтернативы идею упрощенного реализма, который сознательно избавлялся от второстепенных – «инертных», как сказал бы Клуцис, – деталей изображаемого предмета для того, чтобы акцентировать его сущностные качества («принцип схематизма»)[285]. С точки зрения дидактических задач, относительный схематизм упрощенного реализма оказывался предпочтительнее – прежде всего, в силу его обобщенности и типичности. Опираясь на свои исследования, Флерина убедительно доказывала: натуралистические изображения, показывающие предмет «во всей его сложности» – т. е. с передачей объема, светотени, пространственных и перспективных отношений, с детальной окраской и т. п., – были недоступны детям в силу своей «сложной иллюзорной фотографической реальности»[286].
В своей борьбе за «принцип схематизма» Флерина была не одинока. Дискуссия о сущностных разграничениях между конструкцией (т. е. необходимым и достаточным скелетом-схемой) и композицией (т. е. структурой в сочетании со всеми обволакивающими ее визуальными, словесными и звуковыми «шумами») началась в России с известных дебатов в Институте художественной культуры в 1921 году[287]. Сходные взгляды высказывали и литературоведы: «Морфология сказки» Владимира Проппа с его попытками выявить «типические схемы», лежащие в основе сказок, выходит в свет одновременно со статьями Флериной – в 1928 году[288]. Схематизм в данном случае выступал не столько как стремление к примитивизации материала, сколько как обнажение внутренней структуры истории, события или предмета, как демонстрация их сущностной основы, их внутренней формулы. Пособия типа «Как и что рассказывать пионерам» (1927) объясняли вожатым базовые принципы структуралистской поэтики текста:
…Материал необходимо… так подать слушателям, чтобы он был жизненным, интересным и захватил бы их. Для этого собранный материал необходимо объединить в рассказ. Главные моменты составления рассказа следующие. Рассказчик придумывает фабулу (содержание – основную нить рассказа), объединяющую весь собранный материал. <…> Дальнейшая работа заключается в развертывании фабулы в сюжет, т. е. в изложении событий для рассказа. <…>…Фабула – это совокупность событий, изложенных в хронологическом и причинном порядке; сюжет заключает изложение тех же событий, но в том порядке, в каком они сообщаются в рассказе[289].
Борьба, иными словами, шла за то, чтобы и в рассказе, и в иллюстрации внятность основной нити (фабулы) не терялась за прихотливыми подробностями (сюжета)[290]. Главной целью было создание «обобщенного образа с малым количеством признаков»[291]. Например, Лидия Гинзбург, участница движения формалистов, свою статью в сборнике о детской литературе под редакцией Луначарского, о котором уже шла речь, посвятила подробному разбору исторических повестей для детей. Гинзбург последовательно критиковала их увлеченность «фактовизмом» и «документализмом», которые заслоняли основную идею произведения обилием деталей. Подобно Флериной, Гинзбург настаивала на том, что детская вещь, «чтобы быть правильно воспринятой… должна иметь в основе ясные схемы»[292]. Документалистские книги – при всей своей «большой словесной густоте» – не выдерживали баланса между «количеством слов и «количеством» действия», демонстрируя свою очевидную «недостаточную фабульную насыщенность»[293].
Уверенность в «первостепенном значении… устойчивых схем»[294]в детской литературе высказывали и социологи детского чтения. Наблюдая за детьми в процессе чтения и обсуждения детских иллюстрированных книг, они приходили к выводу о том, что дети не могли запомнить содержание рассказов, в которых не было явно выраженной основной идеи, и предпочитали книги «с четкой, нарастающей фабулой с явным переломом, быстро подготовляющим развязку»[295]. В своем обзоре детской литературы после Октябрьской революции, Злата Лилина, заведующая отделом детской книги Госиздата, в 1929 году лаконично сформулировала «основное требование ко всем типам книг для всех детских возрастов – фабульность и художественность»[296]. Говоря чуть иначе, схематическую отчетливость общей идеи предлагалось сочетать с образностью оформления, доходчивость смысла – с динамизмом изобразительных форм.
Установка педагогов и литературоведов на упрощенный реализм строилась во многом на тех же принципах, которые закладывал в основу своих фотомонтажей Клуцис. И педагоги, и фотомонтеры следовали общей логике оптического поворота, стремясь при минимуме выразительных форм добиваться максимального интеллектуального и эмоционального воздействия[297]. Принцип упрощенного реализма был концептуальным братом-близнецом принципа наглядности. В обоих случаях в основе изобразительной логики лежало правило «Чем меньше [выразительных] средств, тем лучше»[298]. В обоих случаях вещи и люди подвергались уплотняющей «редакторской правке» для того, чтобы усилить типическое, существенное и конституирующее – за счет устранения случайных деталей и лишних контекстов[299]. Книга «Дети и Ленин», составленная в 1924 году Ильей Лином, редактором «Юношеской правды», главного печатного органа комсомольцев Москвы, стала тем пространством, где впервые произошла успешная встреча «ленинского искусства фотомонтажа» и педагогических требований упрощенного реализма.
Авангард упрощенного реализма: дети о Ленине
Когда Ленин болел, он беспокоился о рабочих и крестьянах и о партийных. Ленин был очень хороший и добрый человек, он очень любил котят и детей.
Имя Ленина никогда не изгладится.
Из записей ученицы Ходаковой на венке к гробу В. Ленина от детей школы № 2 Московско-казанской железной дороги, 23 января 1924 года[300]
Илл. 73. «Непосредственный отклик на смерть»: обложка сборника Куда вошли стихи и лозунги, созданные в дни траура 23–26 января 1924 г. (М.: Главполитпросвет – Красная новь, 1924) Худ. обложки А. Родченко. 1924 г. Галерея «Не болтай: A Collection of 20th-Century Propaganda» www.neboltai.org/).
Смерть Владимира Ленина в январе 1924 года имела немало важных последствий. Одним из них стала существенная трансформация советской массовой печати. Траурные события непроизвольно способствовали появлению новых издательских форматов, в которых особую роль играли документ и документальность. Московская ассоциация пролетарских писателей, например, выпустила в 1924 году коллекцию «стихов и лозунгов» «К живому Ильичу», специально отметив, что в сборник вошли материалы, которые были написаны в дни траура 23–26 января 1924 года, – как «непосредственный отклик на смерть Владимира Ильича Ленина (Ульянова)»[301]. (Илл. 73) Ни один из авторов стихотворений, вошедших в сборник, не был указан, зато фотомонтажная обложка сообщала имя ее конструктора – Родченко.
Внушительный сборник «У великой могилы» демонстрировал еще одну тенденцию. Более 600 страниц этого издания предлагало читателям факсимильные репродукции газетных и журнальных публикаций о смерти Ленина (включая и фотографии стенгазет), которые вышли в России во время траурной недели в январе 1924 года[302]. (Илл. 74,75) Альбом «Ленину. 21 января 1924» стал, пожалуй, самым неожиданным среди этих попыток зафиксировать в различных медиальных формах момент смерти и прощания с политиком. Изданный на плотной бумаге с цветными вкладками, он состоял из фотографий и описаний около тысячи «венков, стягов и знамен», которые были возложены к гробу Ленина в Доме Союзов в январе 1924 года. Как отмечалось во вводной заметке Комиссии ЦИК СССР по увековечиванию памяти В. И. Ульянова-Ленина, «в этих разнообразных венках и надписях на лентах сказалось столько творчества, столько неподдельного искреннего чувства, столько метких и правильных определений роли и значения Ленина для широчайших масс рабочих и крестьян, столько любви к нему, что воспроизведение их представит большой исторический интерес»[303]. (Илл. 76)
Факсимиле газет из сборника У великой могилы. Под ред. М. Рафеса, М. Модель, А. Яблонского (М.: Изд-во газеты «Красная звезда», 1924).
Илл. 74. Экстренный совместный выпуск Правды и Известий от 22 января 1924 г. о смерти В. Ленина.
Илл. 75. Траурный выпуск Рабочей газеты в день похорон В. Ленина 27 января 1924 г.
Иллюстрированные журналы тоже откликнулись на смерть Ленина новыми формами организации материала. Многие из них выпустили специальные мемориальные номера. В своих траурных выпусках «Огонек», например, значительно изменил традиционную подачу изображений. Вместо обычного обилия мелких фотографий большие документальные фотоснимки с мест траурных событий занимали около трети журнала. (Илл. 77) Показательно, что в визуальных экспериментах с подачей материала о смерти Ленина дальше всех продвинулась именно молодежная пресса. Двухнедельная «Смена», наряду с документальными фоторепортажами, включила в свой мемориальный февральский номер фотомонтажи Густава Клуциса и Сергея Сенькина. А журнал «Молодая гвардия» выпустил сдвоенный номер «Ленину» (№ 2–3, 1924), подготовив для него специальную вкладку с серией фотомонтажей. Памятный номер «Молодой гвардии» – редкий случай, когда в одном фотомонтажном проекте приняли участие представители и «рекламно-формалистической» линии (в лице Родченко), и «агитационно-политической» линии (в лице Клуциса и Сенькина). (Илл. 78,79,80) Клуцис позднее особо выделит этот проект, как важнейшую стадию в развитии отечественного фотомонтажа в целом и своего подхода в частности, отметив, что именно из этих «ленинских фотомонтажей» возник «новый тип книжного оформления в 1924 г.»[304].
Илл. 76. Мультимедийная скорбь: разворот книги Ленину. 21 января 1924 (М.: Типография ф-ки «Гознак», 1925). На фото – венок от Центрального Аэро-гидродинамического института. Как сообщала справка, «в доске-футляре, обитой черным бархатом, уложена лопасть пропеллера, к которой прикреплен серебряный венок из листьев лавра и дуба, с привязанным вверху его бантом из черной и красной шелковых лент. Внутри помещен фотографический портрет Ленина с надписью на нем: «Могила Ленина – Колыбель свободы всего человечества.»
Илл. 77. Разворот мемориального выпуска журнала от 3 февраля 1924 г.
Даже при беглом взгляде на мемориальные издания 1924–1925 годов, сложно не заметить их явного стремления «зафиксировать» траурные события фотомеханическим способом – с помощью факсимиле, фотографии или фотомонтажа. В своей обзорной истории советской фотографии Маргарита Тупицына связывает быстрое превращение фотомонтажа в ключевое орудие советской пропаганды именно с мемориальной ленинской кампанией 1924–1925 годов[305]. Книга «Дети и Ленин» сыграла важную роль в этом превращении. Она вышла в свет одновременно с несколькими сборниками, посвященными смерти Ленина и предназначенными для дошкольников и младших школьников. Эти издания особенно примечательны тем, что они были составлены того, как окончательно оформился ленинский культ[306]. Не имея готовых сценариев и матриц, авторы и редакторы этих изданий экспериментировали с организацией и содержанием материалов, создавая в процессе своих опытов новые визуальные и текстуальные традиции. Во многом «монтажный» принцип этих изданий, собравших под одной обложкой тексты самых разных жанровых ориентаций, объясняется именно «работой на ощупь» – без жестких установок еще не сложившихся традиций и протоколов.
Илл. 78. Фотомонтаж А. Родченко из мемориального выпуска Молодая Гвардия – Ленину (1924, № 2–3). Галерея «Не болтай: A Collection of 20th-Century Propaganda» (www.neboltai.org/).
Илл. 79. Фотомонтаж Г. Клуциса из мемориального выпуска Молодая Гвардия – Ленину (1924, № 2–3). Галерея «Не болтай: A Collection of 20th-Century Propaganda» (www.neboltai.org/).
Илл. 80. Фотомонтаж С. Сенькина из мемориального выпуска Молодая Гвардия – Ленину (1924, № 2–3). Галерея «Не болтай: A Collection of 20th-Century Propaganda» (www.neboltai.org/).
В своем поиске жанра, подходящего для нужд мемориальной кампании, литература для детей – как и литература для взрослых – тоже ориентировалась на документализм. Серия изданий 1924–1925 годов в качестве своей основы использовала письма, записки и разговоры детей. Так, в сборнике «Дети о Ленине» (1925) редактор Наталья Сац предлагала короткие рассказы московских школьников о Ленине, перемежая их рисунками, стихами и проектами памятника Ленину, а также нотами музыкальных композиций (напр. «На смерть Ленина»). Примечательно, что редакторские комментарии в данном случае полностью отсутствовали; тем самым подчеркивалась историческая и нарративная самодостаточность самих документов[307]. (Илл. 81)
Илл. 81. «Ленин умер, но дело его живет»: детский рисунок из книги Дети о Ленине под ред. Н. Сац (М.: Новая Москва, 1925).
Еще одна документальная книга – «Дети-дошкольники о Ленине» – была составлена педагогом Ревекой Орловой в процессе наблюдения в детских домах и образовательных учреждениях Москвы. В сборнике систематизировались поведенческие и дискурсивные реакции детей на смерть Ленина с помощью рубрик – «Смерть и похороны Ленина в изображении детей», «Отношение детей к Ленину и оценка его деятельности», «Классовая солидарность», «Портреты Ленина» и т. п. Самым неожиданным в этих наблюдениях за детским поведением стала особая популярность «игры в похороны». Организованная вокруг одной и той же фабулы – «Дом Союзов, очереди, прощание с Лениным» – эта игра переводила траурное событие на язык действий и символов, понятных детям:
15 человек детей стояли в большой комнате, изображая рабочих. В другой комнате дети положили Витю 4 х лет на два маленьких столика, накрыли его черным платком, а около головы поставили портрет Ленина. Дверь открылась, и везут гроб с пением: «Вы жертвою пали». Некоторые мальчики изображали музыкантов. Взяли скамейки и в такт ударяли по ним кубиками. «Рабочие делегатки» пошли за гробом, опустив головы. Нюша и Маня, опустив головы, идут за гробом. «Как жалко», сказала Нюша. «И мне тоже. Как мы теперь будем жить без него?» Так они ходили минут пять, а потом поставили гроб у старшей группы. Витя говорит: «Я не хочу больше лежать, я лучше буду рабочим». Другой мальчик ложится вместо него. Наконец Валя вошел к ним и говорит: «Прошу порядок. А кто посмотрел, не мешайтесь и выходите». Дети подходили к гробу парами. Когда все дети прошли, игра кончилась[308]. (Илл. 82,83)
Илл. 82. Ленин в гробу: детский рисунок из книги Дети-дошкольники о Ленине под ред. Р. Орловой (М.: ГИЗ, 1924).
Илл. 83. Записка мертвому Ленину из книги Дети-дошкольники о Ленине под ред. Р. Орловой (М.: ГИЗ, 1924).
Хрестоматия «Великий учитель», подготовленная Златой Лилиной в 1924 году, привлекала более широкий состав источников – от детских впечатлений до материалов зарубежной печати. Разнообразие воспоминаний о жизни Ленина упорядочивалось хронологически и тематически: биографический раздел («Жизнь Ленина по воспоминаниям») дополнялся разделами о смерти («У гроба Владимира Ильича», «Скорбь детей» и т. п.) и разделами, содержащими мнения друзей и соратников о «Ленине – вожде и человеке»[309].
Илл. 84. Портрет С. Сенькина. Фото Г. Клуциса, 1928 год. Галерея «Не болтай: А Collection of 20th-Century Propaganda» (www.neboltai.org/).
Все три перечисленные книги наряду с текстами содержали и иллюстрации – рисунки детей, фотографии, коллажи. За небольшим исключением качество этих иллюстраций было невысоким, и основной интерес редакторов заключался в сборе и публикации, прежде всего, дискурсивного материала. На фоне этих сборников комбинация детских рассказов и фотомонтажей, представленная в книге «Дети и Ленин» (далее – ДиЛ), выглядела особенно необычно.
Изобразительный ряд книги был создан Густавом Клуцисом и Сергеем Сенькиным. (Илл. 84) Оба художника были знакомы друг с другом по курсам в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), где они организовали в 1923–1924 годах «Мастерскую революции», призванную стать «рупором художественно-революционной и коммунистической мысли»[310]. В первое издание книги вошло десять монтажей Клуциса и двенадцать монтажей Сенькина, которые во многом и превратили это издание в крупнейшее событие в развитии визуального языка раннесоветского периода. По мнению Михаила Карасика, историка авангарда, именно с этой книги «началась фотомонтажная иллюстрация в лениниане для детей»[311]. Книга, судя по всему, оказалась довольно успешной – ее вторая, дополненная и измененная версия, вышла уже в 1925 году[312].
Иллюстрации к ДиЛ уже не раз становились предметом обсуждения. Но до сих пор исследователи обращали внимание преимущественно на становление иконографии власти, в котором участвовала книга[313]. Ее литературный компонент, как правило, оставался в стороне. Учитывая дебаты о соотношении печатного образа и печатного слова, о которых шла речь ранее, в моем анализе ДиЛ я попытаюсь проследить единство визуального и дискурсивного. Меня будет интересовать то, как истории о Ленине и детях, рассказанные с помощью двух разных медиа, дополняли, усложняли или противоречили друг другу.
Возраст читателей значительно ограничивал возможности авторов по продвижению как «художественно-революционной и коммунистической мысли», так и иконографии авангарда. Эти возрастные и образовательные пределы делают данное издание особенно интересным. ДиЛ — это примечательный итог поиска, в котором авангард и идеология вырабатывали общие пластические формы, доступные для понимания неграмотной аудитории[314]. Фотоснимки Ленина и детей придавали ощутимый и конкретный смысл абстрактным формам авангарда. В свою очередь, геометрические фигуры и объемы наполняли статичные фотофигуры динамизмом и аффектом, предлагая графический интерфейс для эмоциональной вовлеченности детской аудитории в политические события страны[315].
ДиЛ значительно усложняет традиционное восприятие фотомонтажа как выразительного средства, возникшего в виде оппозиции нефигуративному, беспредметному и абстрактному искусству. Сам Клуцис – вопреки своей собственной изопрактике – неоднократно настаивал на том, что фотомонтаж появился «на «левом» фронте искусства, когда было изжито беспредметничество. Для агитационного искусства понадобилась реалистическая изобразительность, созданная максимально высокой техникой и обладающая графической четкостью и остротой впечатлений»[316]. Эта же точка зрения высказывалась и в важном сборнике материалов «Борьба за пролетарские классовые позиции на фронте пространственных искусств». Как отмечали ее авторы в 1931 году: «Не может быть беспредметного и абстрактного пролетарского искусства. Пролетарское искусство конкретно и публицистично»[317].
Книга Лина вступает в противоречие и с еще одним, не менее популярным, взглядом, согласно которому фотомонтаж – как и документальный очерк в «литературе факта» – стал продолжением и отражением общей («ошибочной») уверенности «ЛЕФа» и его сторонников в эстетической и эпистемологической самодостаточности так называемой фактографии, заинтересованной больше в информации, чем в художественных открытиях[318]. Как отмечали критики такого подхода, «под прикрытием необходимости «точной фиксации фактов» и быстро откликающегося, злободневного искусства, <…> такое искусство ползает по поверхности явлений»[319]. В самой «беспристрастности» фиксации фактов виделся «метод голого отображательства», «эстетического утилитаризма», «эмпирического реализма», «пассивно регистрирующего» реальность[320]. Тот же Клуцис жаловался в 1932 году, что профессиональный союз работников искусств (Рабис) снизил на 25 % оплату художникам и плакатистам, работающим методом фотомонтажа, считая его прикладным, а не подлинным искусством[321].
Не примыкая ни к одному из этих флангов, ДиЛ любопытным образом нейтрализовал их принципиальные различия и противопоставления, сведя воедино факты и вымысел, фактуру и фотографию, абстракцию и реализм. По своему содержанию сборник Лина не сильно отличался от сборников Лилиной, Орловой и Сац. ДиЛ тоже предлагал читателю относительно связную компиляцию тематически организованных отрывков из детских дневников, писем и устных историй. В ряде случаев эти нарративы дополнялись этнографическими наблюдениями и метакомментариями самого редактора. Большинство материалов было собрано среди воспитанников детского дома № 16 в Москве, но заключительная часть книги содержала воспоминания детей из семей рабочих и важных революционных деятелей – например, дочери Якова Свердлова и дочери Емельяна Ярославского.
Сюжет книги начинался в декабре 1922 года. Именно тогда воспитанники детского дома послали Владимиру Ленину приглашение приехать к ним в гости. Ленин принял приглашение, и часть материалов книги описывала процесс подготовки детей к визиту «вождя». Но визит так и не состоялся. Сначала воспитанникам сообщали о болезни Ленина. А чуть позднее они узнавали и о его смерти. С помощью цепи разрозненных воспоминаний и рассказов книга монтировала «документальное» свидетельство утраты, траура и скорби, которые, если верить книге, пережили ее малолетние авторы.
В значительной степени в этих «авторских» нарративах о смерти и смертности можно видеть каталог символических форм, доступных индивиду для вписывания себя в дискурсивное политическое пространство[322]. Во время траурных событий Лин опубликовал в «Известиях» небольшую статью «Скорбь детей», где он рассказывал о детских реакциях на смерть Ленина. В их письмах и высказываниях Лин видел
…документ той светлой памяти, которую оставил Владимир Ильич в сердцах и умах подрастающего поколения рабоче-крестьянского молодняка, в сердцах тех, кто, еще не умея читать, тычет пальчиком в портрет Ильича и говорит: «это дядя Ленин», – в сердцах тех, кто ногтем чертит на школьной стене «Ленин»[323].
Статья затем была перепечатана в сборнике «У великой могилы», и, вполне возможно, стала эмоциональной и документальной основой для книги, которая вышла позже. В коротком предисловии к книге Лин пояснял, что он «попытался на основании личных наблюдений, в постоянном общении с советской детворой, этими юными друзьями Ильича, передать в нескольких штрихах ту великую скорбь о «дяде Ленине», какой наполнены миллионы маленьких сердечек»[324].
Илл. 85. Ильичу от детей: страница из книги-каталога Ленину. 21 января 1924 (М.: Типография ф-ки «Гознак», 1925).
Илл. 85. Ильичу от детей: страница из книги-каталога . 21! 192$М.:
Типография ф-ки «Гознак», 1925).
Сложно сказать, насколько смерть Ленина действительно затронула «советскую детвору». В альбоме с изображениями венков, возложенных к гробу политика, есть специальный раздел «От детей», в котором перечислены самые разные участники траурных событий – от «детей латышских коммунаров школы первой ступени Московского Латышского педагогического техникума» до «коллектива первого детского дома для слепых имени В. И. Ленина». (Илл. 85) В альбоме воспроизводятся надписи, которые сделали на листьях одного из венков дети школы № 2 Московско-Казанской железной дороги. Я приведу лишь несколько типичных комментариев:
Когда Ленин умер, то вся Россия плачет. (Улыбкин, 111 гр.)
У Ильича лицо было скучное, а глаза веселые. (Фокин И. М.)
Закатилось ясно солнышко, как не стало великого учителя В. И. Л. (Лесинкова)
Ленина любила. Ленину! Ленин был такой умный, что такого еще не было в России (О. Спиридонова, 111 гр.)
Мне жалко Ленина, он любил рабочих и детей и маленьких кошечек. (Курицын)
Ильич – честный парень, таких еще не было на свете. (Анисимович, 111 гр. 6)
Ленин был добрый и умный. Мы постараемся без Ильича не пропасть… (Венедиктов)[325]. (Илл. 86)
Илл. 86. «Ильич – честный парень, таких еще не было на свете»: фотография венка с надписями от детей школы № 2 Московско-Казанской железной дороги из каталога Ленину.
21 января 1924 (М.: Типография ф-ки «Гознак», 1925).
Илл. 87. «Ленин умер, но…»: иллюстрация, сопровождавшая публикацию фрагментов из книги И. Лина Дети и Ленин в журнале Мурзилка № 1, 1929.
Судить о степени детского горя по этим записям трудно; многие из них не выходят за пределы формул, типичных для такого рода случаев. Но вряд ли было бы правильно считать, что «великая скорбь о «дяде Ленине», о которой пишет Лин, была исключительно идеологическим шумом. Любопытным подтверждением реальности аффекта может служить «Практикум по экспериментальной психологии», подготовленный в 1927 году коллективом авторов, среди которых были Александр Лурия и Лев Выготский. В разделе, посвященном изучению эмоциональных реакций, авторы обсуждали особенности метода их стимуляции – в том числе и с целью «провокации уже наличных в психике испытуемого эмоциональных состояний»[326]. Как отмечали психологи, им «иногда удавалось вызвать сильные эмоциональные реакции у испытуемых студентов путем воспроизведения деталей посещения ими Колонного зала Дома Союзов в Москве в дни после смерти Ленина»[327].
Скорее всего, скорбь «маленьких сердечек», увиденная Лином, возникла под влиянием социального контекста, в котором находились дети. И в этом отношении невозможно отрицать того, что стараниями советских педагогов, писателей и художников, смерть вождя действительно воплотилась в особый жанр детской литературы, которая, в свою очередь, формировала у детей соответствующие сценарии поведения и репертуар эмоциональных реакций[328]. (Илл. 87) Детские журналы 1924–1926 годов регулярно печатали в своих январских номерах письма, сообщения и стихи детей, связанные со смертью Ленина. Например, «Пионер» во втором номере 1924 года цитировал «выписку из протокола общего собрания учеников 2 группы» (не указывая при этом ни школы, ни города):
Прочтя и обсудив письмо ЦК РКСМ, постановили
1. Собрать деньги в фонд имени тов. Ленина и отослать в газету «Правда».
2. Вступить всем классом в отряд юных пионеров.
3. Повесить в классе портрет В. И. Ленина.
4. Просить о переименовании школы в школу им. Ленина.
5. Послать письмо ЦК РКСМ [Центральный Комитет
Российского коммунистического союза молодежи][329].
Двумя годами позже еще один мемориальный номер «Пионера» симптоматично представит общее направление визуальной политики памяти на своей обложке: под присмотром (бюста) вождя пионер сосредоточенно мастерил модель ленинского мавзолея. (Илл. 88) При этом фотография ленинского бюста была вмонтирована в ткань художественного изображения. Фотодокумент и изовымысел оказывались частью одной визуальной истории. Разнородные модели репрезентации реальности утрачивали свои жанровые и онтологические различия. Или, точнее, способность активировать разно-видное восприятие изображения (плоскостное и объемное, живописное и фотографическое) подавалась в качестве оптической нормы.