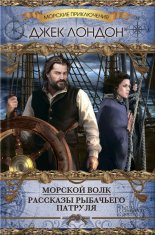Bella Германия Шпек Даниэль

Он ушел, оставив меня изводить себя сомнениями. Меня каждый раз неприятно удивляло, насколько холоден Робин бывает в спорах. Как уверенно он, обычно такой покладистый и милый, утверждает при случае свою власть.
Кроме того, я ненавидела, когда меня держали за маленькую девочку. В споре я бывала напористой, даже агрессивной, как львица, но хватало меня ненадолго. А потом наступало время апатии и невыносимых мук одиночества и оставленности.
Я вышла во внутренний двор и закурила. Срочно требовалось развеяться. Я села в машину – нужно было забрать из химчистки миланскую коллекцию. Загрузила шмотки в старый «вольво» – и тут меня осенило.
Меньше всего мне хотелось с ним встречаться. Я просто должна была убедиться, что Винсент не солгал и мюнхенский брат-близнец в самом деле существует. До Центрального рынка езды было не больше десяти минут. Я нырнула в туннель под железнодорожными путями и выехала на Шлахтхоф, соединявший фешенебельную часть изарского предместья с густонаселенным Зендлингом. Железная дорога была, по сути, границей. Жители богатого северного района пересекали ее нечасто. Они ходили в бары на Глокенбахе, а овощи покупали в супермаркете «Био», даже если на рынке у Центральной площади они стоили вполовину дешевле. В свою очередь, обитатели Зендлинга предпочитали оставаться по ту сторону железнодорожных путей – не исключено, что они считали нас, платящих дорогущую аренду на Глокенбахе, богатыми дураками. И возможно, не без оснований.
Я не спеша вырулила на рыночную площадь. Мюнхенские задворки – аляповатые граффити, мечети на заднем дворе, кумушки в платках и полиэстровых пальто. По рельсам застучал товарняк. Напротив входа на рынок, в самом начале небольшого торгового ряда, находился итальянский ресторан: столики прямо на тротуаре, смуглые официанты с блестящими от геля волосами. Посетители – рабочие с рынка, пенсионеры и молодые хипстеры – наперекор апрельской погоде попивали эспрессо на улице.
Рядом располагался магазинчик под синим козырьком. «Деликатесы Маркони» – было написано на витрине. Я притормозила и, не выходя из машины, вгляделась в окно. Сырная стойка, разложенные на прилавке куски ветчины, чугунная нарезочная машина красного цвета, расставленные на полках винные бутылки, огромная хромированная кофе-машина, барные стулья у высокой стойки.
Я ждала. Мимо текла толпа – итальянцы, турки, баварцы. Убедившись, что магазин закрыт, я припарковалась и вышла из машины.
На стене за стойкой висели фотографии, групповые, так что лиц было не разобрать. Семья, догадалась я. На двери прибита табличка с фамилией и именем владельца – действительно «Джованни Маркони» – и номером мобильного.
За стеклом висело объявление по-итальянски, написанное от руки: «Закрыто по случаю церемонии крещения». И под ним – вырезка из местной газеты с фотографией младенца и подписью по-немецки: «Семья Маркони с радостью извещает о крещении Регины Маркони, дочери Люка и Барбары Маркони, родившейся 3 марта 2012 года. Таинство совершится в приходской церкви Святого Андрея 5 апреля 2013 года в 16 часов по адресу: Ценеттиштрассе, 46».
Совсем недалеко, пять минут езды от силы. И уникальная возможность посмотреть на родственников, не привлекая к себе лишнего внимания. Я понятия не имела, что скажу, войдя в магазин, а вот в церкви могла остаться незамеченной. Она располагалась в одном из унылых коробкообразных послевоенных строений и меньше всего походила на храм. Скорее наоборот, одним своим видом уничтожала любую мысль о возвышенном.
В архитектуре пятидесятых, похоже, господствовал тот же дух, что и в тогдашней немецкой моде, а именно стыдливого, консервативного практицизма. Стиль немецких модельеров в те годы являл собой полную противоположность тому, что проповедовали французские и итальянские кутюрье. Никаких ярких цветов, броских рискованных экспериментов. Практичность и неприметность. Как развивалась бы немецкая мода, не будь наше сознание пропитано духом неизбывной вины и сокрушительного поражения? И почему мы, совершив прорыв в экономике и за какие-нибудь несколько лет наверстав военные потери, так и не вернули себе статус законодателей в искусстве?
Возле церкви как будто ничего не происходило. Ворота на замке, но слева от входа я заметила крытую галерею, такую же невзрачную, до убожества, как и главное здание. На застекленной доске под козырьком висели объявления на итальянском и немецком. Похоже, здание делили две общины. Из-за двери доносилось приглушенное пение. Осторожно толкнув створку, я заглянула в церковь.
Внутреннее убранство оказалось столь же скромным. Но наполненное голосами пустое, гулкое пространство поражало воображение размерами и устремленностью ввысь. В безупречных архитектурных пропорциях угадывалось влияние эстетики Баухауса.
Задние скамьи были не заняты, на передних сидело десятка два итальянцев. Гости, родители, крестные; сновала ребятня. Меня никто не замечал, все взгляды были устремлены на пожилого священника в белых одеждах, вещающего по-итальянски.
Я присела с краю последней скамьи. Священник поднял над купелью маленькую девочку, та заплакала. Мать пригладила малышке волосы. После молитвы девочку окунули в воду. Ребенок смолк, словно испугавшись, а потом завопил с новой силой. Священник передал дитя матери. К тому времени, когда подоспел отец, малышка совсем успокоилась. Ее отнесли к скамьям, где, словно на игровой площадке, резвились другие дети. Их никто не одергивал. Родня собралась вокруг новокрещеной. Священник продолжал читать, а итальянцы уже превратили службу в семейный праздник.
Я не помнила, когда последний раз заходила в церковь. Должно быть, в детстве, на Рождество. Меня не крестили. Мать предоставила мне самой выбирать веру по достижении сознательного возраста. Но в восемнадцать лет время чудес миновало безвозвратно, и чувственная, земная любовь стала интересовать меня куда больше, чем небесная.
Семейство хлопотало вокруг малышки, никому до меня не было дела. Внезапно меня охватило чувство оставленности, выключенности из жизни, к которому я оказалась не готова. Чувство было странное. Это ведь они, итальянцы, чужаки в моей стране. Но ощущение тем сильней и болезненней, чем хуже понимаешь его причину.
Я сидела на холодной церковной скамье, представляя себя на месте плачущей малышки. Как сложилась бы моя судьба? Рядом в нише стояла статуя, уставив на меня невидящие глаза. Мария Магдалина с окровавленным телом Христа на руках. На каменном лице скорбь и крайняя степень потрясения. Но поза исполнена любви.
Я собиралась покинуть церковь до окончания службы, но опоздала. Когда первые итальянцы устремились к выходу, я думала выскользнуть, отвернув лицо. Но замешкалась да так и осталась сидеть, разглядывая носки своих туфель. Я затаила дыхание, когда шумная компания прошла мимо меня. По счастью, итальянцы были слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на одинокую прихожанку. Когда шаги стихли, я подняла глаза. Рано.
Ушли не все. Один из итальянцев разговаривал со священником – благодарил, хлопал по плечу, совал мятую купюру. Когда мужчина повернулся, чтобы последовать за остальными, наши взгляды встретились. Итальянец был явно пенсионного возраста, низенький и живой, седая борода и небольшая залысина; видавшие виды мокасины, бежевые штаны и натянувшийся на круглом животе старомодный клетчатый пиджак. Он двинулся к выходу, а я разглядывала его прищуренные глаза, лицо в красных прожилках. Лицо состарившегося клоуна, сохранившее выражение детского любопытства. Пожалуй, он показался бы мне симпатичным, если бы не мой страх.
Он кивнул мне, чуть заметно. Удаляясь, замедлил шаг. Похоже, мое лицо показалось ему знакомым. А я узнала этот удивленный взгляд – так смотрел на меня Винсент, когда увидел впервые.
Хлопнула дверь. Я вздохнула с облегчением. Подождала, пока священник скроется в ризнице, и тоже направилась к выходу.
Глава 15
Итальянцы еще не разошлись. Болтали, обменивались подарками, рассаживали детей по машинам. Старик в клетчатом пиджаке подбрасывал крещеную малышку в воздух. Та визжала, пока наконец пожилая дама – похоже, его жена – не забрала у него девочку. Я отвернулась и направилась к своей машине.
Один из итальянцев обогнул меня на «веспе», притормозил и что-то крикнул в мою сторону. Вопрос, насколько я уловила из интонации. Я пригляделась. Карикатурный тип итальянца в неизменных солнечных очках и рубахе нараспашку – из тех, что шляются по мюнхенским барам в поисках любовных приключений. Вне всякого сомнения, парень предлагал прокатиться с ним на мотоцикле.
– Нет, спасибо.
Услышав немецкую речь, он рассыпался в извинениях:
– Oh, scusa, pensavo che fossi della famiglia. Sei italiana?[36]
– Нет, – ответила я, лишь догадываясь о сути вопроса. Во всяком случае, мне показалось глупым отвечать на него по-итальянски.
– Прости, – повторил он по-немецки с акцентом. – Я думал, ты из наших.
– Все в порядке…
Я улыбнулась. Он подвинул свою «веспу», освобождая мне место.
Наш разговор продолжался каких-нибудь несколько секунд, но они оказались решающими. К нам приближался Джованни. Лысина прикрыта серой кепкой, придававшей ему нелепо бесшабашный вид. На плечах у него сидела виновница торжества с пластмассовой короной на голове.
– O, Marco! – закричал Джованни, и «любовник-итальянец» обернулся. – Tua ragazza?[37] – Джованни кивнул на меня.
– No.
Бежать было поздно. Джованни с любопытством посмотрел на меня и спросил с неподражаемым итало-баварским выговором:
– Мы знакомы?
– Нет.
Я лихорадочно соображала, как буду выкручиваться. Сразу стало жарко.
– Джованни… Nonno[38] маленькой проказницы. – Он протянул мне руку.
– Юлия, – представилась я.
Лицо Джованни отразило лихорадочную работу мысли.
– Я думал, она итальянка, – сказал Марко. – Выглядишь как итальянка.
Я пожала плечами.
– Откуда ты? – спросил Джованни.
– Из Мюнхена.
Интересно, как долго смогу еще выдерживать эти прятки.
– Но твои родители итальянцы, ведь так?
Всегда ненавидела вопросы, касающиеся моего происхождения. Обычно люди задают их, чтобы завязать беседу, но только не в этом случае. Джованни явно сгорал от любопытства, желая узнать, что за незнакомка явилась на крестины его внучки.
– Мой отец итальянец, – ответила я.
Неуклюжая попытка завершить беседу не удалась.
– А… это видно! – воскликнул Джованни. – Откуда твой отец?
Я запнулась. Что я должна была отвечать? Правду? Назови я Рим или Венецию, пришлось бы лгать дальше, придумывать новые названия, имена. В конце концов я бы точно запуталась. Между тем я до сих пор не знала, хочу ли знакомиться с этим человеком. Возможно, я слишком растерялась, потому что неожиданно для себя выпалила:
– Я не знаю.
Теперь смутились все. Не знать, откуда родом твой отец, – такое просто не укладывалось в голове. Первым очнулся Джованни:
– Но… Как его зовут?
Нападение – лучшая защита. Собственно, теперь мне было все равно.
– Винченцо. Винченцо Маркони.
Гром грянул. У Джованни расширились глаза.
– Винченцо Маркони? – переспросил он, снимая девочку с плеч.
– Кто это? – встрял «любовник-итальянец».
– Nessuno[39], – буркнул Джованни.
Он буквально ел меня глазами. Мне хотелось исчезнуть.
– Так ты Джулия? – тихо спросил он.
Я кивнула.
– Santo dio…[40]
Жена позвала Джованни от машины и, когда он не отозвался, направилась к нам, прижимая к груди коробки со сладостями и букеты.
– Che c’?[41]
Женщина выглядела испуганной, она уже поняла, что муж чем-то встревожен.
– La figlia di Vincenzo[42], – пробормотал Джованни и кивнул на меня.
Женщина приоткрыла рот.
– Vincenzo?
По ее дрогнувшему голосу было ясно, что мое появление что-то разбередило.
– Я… я просто хотела взглянуть на вас… – сказала я, пытаясь сгладить ситуацию.
– Macch[43], просто взглянуть! – уже во весь голос возмутился Джованни. – Я его дядя, Santo Cristo![44]
Не успела я опомниться, как он заключил меня в объятия. В глазах Джованни стояли слезы. Он был ниже меня ростом, но не в пример живее. А круглый живот красноречиво свидетельствовал, что деликатесами он занимается не только ради выгоды.
Он не переставал целовать меня – в лоб и щеки, справа и слева – даже после того, как я перешла в объятия его жены.
Это была решительная матрона, полная, но крепко сбитая.
Теперь уже весь клан спешил к нам. Все понимали: произошло нечто важное. Один за другим родственники вылезали из машин и направлялись к нашей группе.
– Quanti anni sono?[45] – кричал Джованни. – Trenta, quaranta?..[46]
Даже малышка удивленно таращилась на меня. Джованни ласково объяснил ей, выговаривая каждое слово:
– Giulia. D buongiorno a Giulia[47].
Девочка спряталась за ногами деда, откуда кокетливо постреливала в меня глазами.
Я улыбнулась. Собравшиеся вокруг родственники наперебой кричали, осведомляясь, что стряслось. Чтобы их успокоить, Джованни отпустил какую-то шутку и повел меня к машине. По-видимому, тема Винченцо и его la figlia касалась не всех. Джованни прошептал что-то на ухо жене. Отныне жизнь этой пожилой пары, равно как и моя собственная, никогда не будет прежней – это было единственное, что я понимала в тот момент.
Они не дали мне уйти, ни малейшего шанса. Мы поехали к ним домой. Джованни и Розария – широкой души сицилианка в полосатом весеннем платье и огромных очках от «Гуччи», делавших ее похожей на мультяшную пчелку Майю, – проживали вместе со взрослыми детьми, по крайней мере с некоторыми из них, в многоквартирном доходном доме в Зендлинге. Дом располагался неподалеку от лавки Джованни на Центральном рынке. Таким образом, мир Джованни Маркони замыкался в круге радиусом в несколько сотен метров. Здесь протекала его жизнь, семейная и деловая, причем отделить одно от другого едва ли было возможно.
Предоставив мужчинам заниматься детьми, Розария и дочери организовали во дворе фуршет. «Все эти окорока, салями, сыр и вино доставлены прямо из магазина деликатесов», – заверил Джованни. И с такой гордостью наложил мне полную тарелку, словно спасал от голодной смерти.
Он ни на секунду не оставлял меня одну. Мы устроились за столом во дворе. Вокруг носилась ребятня, размахивая пластмассовыми мечами. Джованни включил динамики, подсоединенные к «айподу», и двор огласила итальянская эстрада.
– Buono, eh?[48] – интересовался Джованни после каждого проглоченного мной кусочка и с такой надеждой заглядывал в глаза, словно приготовил эту салями собственноручно. – Это трюфели из Пьемонта… Традиция!
И это действительно было buono. Даже molto buono!
К нам подошла Розария с огромной тарелкой. Села рядом и тихо спросила:
– Скажи, папа когда-нибудь навещал тебя?
Я покачала головой.
– Madonna mia… – прошептала женщина и укоризненно посмотрела на мужа: – Как такое возможно…
Тот перебил ее, также шепотом. Какой-то просьбой, судя по интонации. Розария согласно хмыкнула и ушла. Джованни объяснил, что она отправилась за семейным фотоальбомом.
Когда женщина удалилась на достаточно большое расстояние, он наклонился ко мне.
– Как ты нас нашла?
Задумавшись на мгновенье, я пришла к выводу, что правильнее всего будет сказать правду.
– Ты знаешь Винсента Шлевица?
Лицо Джованни омрачилось. Круглые глаза сузились до щелочек.
– Нет… еще вина?
Не дожидаясь ответа, он встал и направился к столу за бутылкой. Я чувствовала себя провинившимся ребенком. Подошел арко с тарелкой и спросил разрешения сесть рядом. Он улыбался. «Любовник-итальянец» оказался вполне привлекательным мужчиной, не лишенным самоиронии и отстоящим от Италии примерно на ту же дистанцию, что и я, только по другой причине.
Он называл родину предков насквозь коррумпированной банановой республикой, где не видел для себя будущего, потому и перебрался в Германию. Во всяком случае, способа честно заработать на жизнь, чтобы к тридцати годам не висеть у родителей на шее, в Италии у него не было.
Тут вернулся Джованни и объявил Марко, что желает поговорить со мной наедине. Марко подчинился – как младший старшему.
Джованни наполнил бокалы и тихо спросил:
– Так чего он хотел?
– Кто, Марко? – не поняла я.
– Винсент.
– Он действительно отец Винченцо?
Видит бог, мне нелегко далось произнести это имя вслух.
Джованни быстро осушил свой бокал.
– Disgraziato[49], – пробурчал он и еще некоторое время бормотал что-то, будто забыв о моем существовании, а потом вдруг поднял на меня глаза и ответил резко: – Нет.
Это прозвучало настолько категорично, что я мигом насторожилась.
– Мы едва знакомы, – сказала я. – Он хотел с моей помощью выйти на сына, и я подумала, может…
– Что ему было нужно?
– Не знаю. Он как будто хотел примириться.
Реакция Джованни на упоминание одного только имени Винсента меня поразила. Нет, не неприязнь, это было неприкрытое презрение. Словно бы я, сама того не заметив, перешагнула границу дозволенного и приблизилась к чему-то ужасному, что наложило на это имя табу и определенно имело отношение к Джульетте и ее смерти.
Вернулась Розария, положила на стол тяжелый фотоальбом в клетчатом переплете, обняла меня за плечи.
– Вот. Здесь много фотографий твоего папы.
Она улыбалась. Джованни тоже просиял. Он придвинул альбом к себе, пролистал. Вставленные в кармашки снимки были подклеены, страницы разделены хрусткой шелковой бумагой. Жизнь семьи в картонном переплете. Джованни открыл страницу с тремя фотографиями. Сверху от руки шла надпись явно женским почерком: Matrimonio a Salina[50]. И дата: 15 agosto 1968.
Снимки выцвели и имели характерный для фотографий шестидесятых годов желтоватый оттенок. Вот жених и невеста танцуют на деревенской свадьбе. Праздничный стол под оливами накрыт белой скатертью, на заднем плане виден клочок моря. На втором снимке я узнала Джованни и Розарию. Крупный план – глаза Джованни такие же круглые, шевелюра гуще. Розария, уже тогда плотная, млеет в его объятиях.
– Ты был красивый мужчина, Джованни… – Она рассмеялась.
Джованни лукаво подмигнул мне:
– Полюбуйся, в кого она меня превратила.
Я высматривала Джульетту. На третьем, групповом снимке я сразу ее узнала. Джульетта стояла рядом с Джованни.
– Смотри, как ты на нее похожа, – воскликнула Розария. – Dio buono! Incredibile![51]
Я замерла, вновь потрясенная сходством. Джульетта была примерно моих лет, около тридцати пяти. Она изменилась с тех пор, как снималась с Винсентом на фоне Миланского собора. Пропала безудержная радость в глазах, взгляд потускнел. Джульетта серьезно смотрела в камеру, держа за руку кудрявого подростка.
– Твой папа, – ласково представил мальчика Джованни.
– Какой он был хорошенький! – зацокала языком Розария.
– А у тебя есть дети? – спросил Джованни.
– Нет.
Повисла неловкая пауза. В их мире, где взрослых вечно окружал выводок bambini, бездетная женщина моих лет смотрелась жалкой калекой.
– Так радуйся! – подбодрил меня Джованни. – Дети – это катастрофа… Кто, ты думаешь, проел мне лысину?
Я разглядывала фото. Джульетта с Джованни, Винченцо с матерью. Где же его отец?
– Вот его отец. – Джованни показал на смуглого мужчину, который стоял чуть позади остальных и пристально смотрел на Джульетту.
Энцо. Каменная стена. Плечо, на которое всегда можно опереться. Сегодня такие мужчины большая редкость. Напрасно я пыталась найти сходство между ним и сыном. Винченцо – подвижный, с умными, пытливыми глазами – относился к тому типу детей, которые «сами по себе», ни в мать ни в отца. Джованни угадал направление моих мыслей. Он пролистал назад и показал фотографию Винченцо с Джульеттой и Энцо, сделанную несколькими годами ранее. Десятилетний мальчик гордо держался за руль велосипеда на фоне обшарпанной дощатой двери.
– Вот твои бабушка с дедушкой.
И снова эта не терпящая сомнений уверенность, на этот раз меня разозлившая.
– Но Винсент говорит, что отец он.
Я хотела его спровоцировать. Похоже, дар, переданный мне, – это ложь. И он же причина, по которой я стала персоной нон грата не в одном порядочном семействе. Возможно также, именно поэтому у меня до сих пор нет детей. Ведь каждая семья – как мне кажется, по крайней мере, – держится на замалчивании некоторых эпизодов своей истории. Причем, как правило, довольно важных. Ложь сплачивает, в отличие от правды. Но в молчании ложь вызревает до катастрофы. А потом все разлетается на куски.
Я встретила испуганный взгляд Розарии.
– Что он еще рассказал тебе о нас? – спросил Джованни.
– Что Джульетта забеременела от него. Это правда?
Розария вздрогнула, словно я помянула нечистого. Джованни подался ко мне, опершись о стол крепкими руками:
– Правда всегда двулика, дорогая Джулия.
Тогда я объяснила, что явилась сюда не для того, чтобы улаживать старые дрязги. Что прекрасно справилась со своей жизнью и без отца и просто хочу знать, почему он нас бросил.
– Где он сейчас? – спросила я.
Джованни с Розарией переглянулись.
– Он жив?
– S, – заверила Розария. – s, он жив, certo[52].
Я задумалась. Но с какой стати ей лгать? Розария вздохнула и собиралась продолжить, когда ее перебил Джованни.
– Этого Винченцо, – он ткнул пальцем в снимок, – этого bravo ragazzo[53] больше нет. Есть другой Винченцо…
Он отпил из бокала. Было видно, что Джованни стыдится племянника, бросившего семью. И это тоже замалчивалось. Скелет в семейном шкафу, вызволенный моим появлением.
– Винсент не сказал, что случилось с Джульеттой? – спросил Джованни.
Я покачала головой.
– Он только рассказывал, как они полюбили друг друга. Как он хотел забрать ее из Милана, а ваша семья этому воспротивилась.
– И больше ничего?
– Нет. Кроме того, что он вернулся в Германию и до сих пор не может ее забыть.
Джованни многозначительно поднял брови и разлил остатки вина по бокалам. Розария придвинулась к нему и что-то прошептала по-итальянски. Я догадалась по ее глазам: она хочет, чтобы я узнала историю до конца.
– il suo papa!
«Он ее папа», – так я это поняла. Джованни сделал хороший глоток красного вина и пролистал альбом к самому началу.
– Вот, – указал он на черно-белое фото, – наш дом в Милане. Там родился твой папа.
На снимке была старая улица с трамвайными путями. Слева – канал. Справа – доходные дома, с магазинами и тратторией на первых этажах. На другом берегу канала – церковь. Две женщины полощут в канале белье. Мир Джульетты, о котором рассказывал Винсент. Совпадало все, вплоть до мельчайших деталей. Я поймала себя на мысли, что как будто видела все это раньше.
Глава 16
Генрих Гейне
- На две категории крысы разбиты:
- Одни голодны, а другие сыты.
- Сытые любят свой дом и уют,
- Голодные вон из дома бегут[54].
Сын Джульетты родился 11 июня 1955 года на Виа-Лудовико-иль-Моро, 13. Джульетта собиралась рожать в больнице, но Джованни и Энцо работали в ночную смену, когда неожиданно начались схватки, и мама Кончетта вызвала доктора на дом. Вместе они вытащили ребенка на свет божий. Когда Джованни и Энцо вернулись, дома их ждал малыш.
– Успел раньше отца, – пошутил доктор, и они с Энцо рассмеялись.
Совсем не склонный к патетике, Энцо разрыдался. Он взял сына на руки, нежно поцеловал в лоб и возблагодарил Господа.
Джованни никогда не видел сестру такой измученной. Роды были нелегкими и, по словам Кончетты, разрешились успешно лишь ее неустанными молитвами. Джованни сумел поднять сестре настроение, но ему не давала покоя одна мысль. Еще вчера они с Джульеттой были дети, близнецы не разлей вода, тайком курили за церковью, делились друг с дружкой самым сокровенным. И вот теперь она мать. Еще немного – и их тесная квартирка затрещит по швам. Кто-то должен уйти, и этот кто-то, конечно, он, Джованни.
Не успела Кончетта сварить для всех кофе, как в дом хлынули соседи с поздравлениями. То, что Джульетта шла под венец беременной, вызвало шушуканья и пересуды в квартале. В те годы подобное было чревато скандалом даже среди миланцев, что уж говорить о сицилийской общине. Смягчающим обстоятельством стало то, что Энцо и Джульетта были помолвлены. А когда Кончетта принудила молодых к церковному покаянию, община и вовсе успокоилась и со спокойной совестью поздравила семейство Маркони с пополнением.
То, что первенец оказался мальчиком, было воспринято как благословение Божие. По сицилийской традиции он должен был получить имя деда по линии отца – Винченцо. Энцо спросил согласия Джульетты, и она молча кивнула.
Младенец оглушительно орал, пока Кончетта, нацепив на нос старые очки, разглядывала линии на его ладошке.
– Это необыкновенный ребенок, – объявила она благоговейно притихшей публике. – У него есть миссия. Такие рождаются раз в сто лет.
Вечером обитатели квартала прильнули к радиоприемникам. Квартиры же счастливых обладателей телевизионных аппаратов ломились от наплыва гостей. Джульетты, за неимением в семействе Маркони радио, не говоря уж о телевизоре, всеобщее возбуждение не коснулось. Поэтому, когда Джованни в компании других рабочих прислушивался к бормотанию старого приемника в траттории, она спокойно укладывала маленького Винченцо спать.
Между тем новость была ужасной. И не только для ветеранов автомобилестроения, у которых, как говорится, бензин тек в жилах. Позже события того дня признали крупнейшей аварией за всю историю автомобильного спорта.
Почти сразу после старта двадцатичетырехчасовой гонки «Ле-Ман» на трассе столкнулись два автомобиля. В результате немецкая «серебряная стрела» на скорости свыше двухсот сорока километров в час врезалась в заграждение, перевернулась и понеслась на зрительские трибуны, защищенные одним только дощатым бордюром да соломенными тюками. Автомобиль взорвался перед включенной камерой. Капот, передняя ось, двигатель разлетелись в разные стороны, снося людям головы. Больше восьмидесяти человек погибло на месте, более сотни получили ранения. Камера сняла дымящийся металлический остов на фоне обезумевшей от ужаса толпы.
Несмотря на то что команда компании «Мерседес» той же ночью отбыла в Германию, гонки не остановили. «Мазерати», «феррари», «ягуары» и «астон-мартины» как ни в чем не бывало продолжали движение к финишу до вечера следующего дня. Победителем стал виновник происшествия – пилот британского «ягуара». Имевшим доступ к телеэкранам запомнилось его победно улыбающееся в камеру лицо.
Раздолбанный радиоприемник в траттории был немецкого производства. Возможно, брошенным нацистами при отступлении. Слушая, Джованни представлял мюнхенского инженера, приникшего к такому же аппарату по ту сторону Альп. Он не думал, что ему доведется еще когда-нибудь свидеться с этим человеком.
Винченцо и в самом деле оказался необыкновенным ребенком. Из-за врожденной патологии легких он был подвержен приступам удушья. Джульетта не оставляла сына ни на минуту. Бывало, и среди ночи приходилось вызывать врача с кислородным аппаратом.
Джульетта бросила работу. Ее угрозы вернуться на завод домашние не воспринимали всерьез. Никто не сомневался, что молодую мать ожидает участь всех женщин квартала и отныне ее мир будет ограничен семьей и детьми. Но денег не хватало. Энцо все чаще оставался в ночную смену. Покойный муж ничего не оставил Кончетте, пенсии за него она тоже не получала. Деревянная колыбель – гордость и творение рук самого Энцо – стояла рядом с кроватью Джульетты, в спальне Кончетты. План перестановки напрашивался сам собой: Джульетта с младенцем выселяются из комнаты матери, а койки Джованни и Энцо в соседней гостиной переоборудуют в одну супружескую кровать. О такой роскоши, как детская, конечно, никто не мечтал.
Джованни души не чаял в племяннике, да и Джульетта ни за что не решилась бы сказать брату, что он должен съехать. Он по-прежнему был ближайшим ее другом, наперсником. Энцо был всего лишь муж и отец. Но даже Джованни не мог сочувствовать тому, что тяготило в то время душу сестры.
Однажды, когда они курили тайком за церковной стеной по другую сторону канала, Джульетта спросила брата:
– Как ты думаешь, в моей жизни еще будет любовь?
Джованни задумался.
– Не знаю, – ответил он, не желая огорчать сестру. – В любви ты понимаешь больше, чем я.
Оба знали, о чем говорят, точнее, о чем умалчивают. Мимо прогрохотал трамвай. Черная вода канала подернулась серебристой рябью.
– Ты веришь, что каждому человеку от рождения уготована пара? – спросила Джульетта.
– Так, похоже, только в фильмах. А в жизни твоя половина – дело случая. Наши родители познакомились на поле, и большого выбора у них на острове и не было. Но что-то потянуло их друг к другу, и они поженились. Ты когда-нибудь видела, как целуются в кино? О, это совсем другое… Любовь, когда у тебя в животе щекочут бабочки, но семья – это не то же самое. Чувства приходят и уходят… Черт, что бы там ни было, я-то всегда буду с тобой.
Джульетта молчала, и Джованни попробовал переменить тему.
– А что с твоим шитьем? – спросил он, имея в виду мечты сестры о карьере модистки.
– Ты же сам видишь… – отвечала Джульетта. – Винченцо плачет, стоит мне оставить его на минуту. Может, и получится что-нибудь года через два, когда он выздоровеет.
Но Джованни понимал, что сестра не верит тому, что говорит. То, что он любил в ней, – ее жажда жизни, мечтательность, безумные идеи – выродилось в унылую серьезность, состарившую Джульетту по меньшей мере на десяток лет.
В тот вечер Джованни твердо решил повременить с женитьбой и собственными детьми.
Настала осень, за ней зима. Джованни вынес угольную печурку из кухни в спальню Кончетты, Джульетты и Винченцо.
Однажды ночью, когда малыш кричал, а Джованни кемарил за кухонным столом, из спальни вышла Кончетта. Подогрела молоко на газовой плите и налила в стакан, который поставила на цветастую скатерть. Потом села напротив Джованни и сказала, глядя, как он пьет молоко:
– Ищи себе квартиру, сынок.
– Не беспокойся, мама, – ответил Джованни. – Я как раз собираюсь заняться этим.
Оба понимали, что это значит. Джованни не окончит курса в знаменитом Миланском политехникуме и никогда не станет инженером. Он будет до конца жизни работать на сборочной линии, если, конечно, будет работать вообще. Времена настали не лучшие. «Изетта» неплохо продавалась по лицензии за границей, но на родине не выдерживала конкуренции с массовой продукцией «Фиата». Она и вправду была современней «тополино» – эконом-рухляди времен Муссолини, но оставалась не по карману небогатому итальянскому потребителю. И это делало будущее Джованни как никогда проблематичным.
Он ушел в свою комнату. Энцо спал. Джованни откинул пахнущую мылом простыню и нащупал в матрасе тайник – прорезь, где между двумя плитками пенопласта хранился мятый конверт. Джованни достал его, пересчитал купюры – неприкосновенный запас, утаенная от матери часть зарплаты. На учебу, конечно, не хватит. И все-таки это его. Джованни хорошо помнил, чему учил его отец на смертном одре: «Устраивай свою жизнь сам, как знаешь. Не будь ничьим рабом».
Джульетта узнала о том разговоре только накануне Рождества. Никогда еще Джованни не видел сестру в такой ярости. Она обвиняла Кончетту в том, что та выставила за порог родного сына. И грозилась лично нанести визит ректору Политехникума.
– Но на что я буду жить? – спрашивал сестру Джованни.