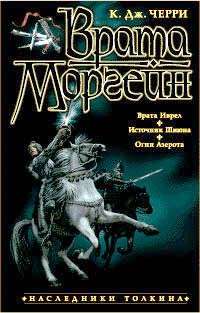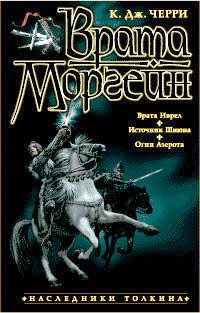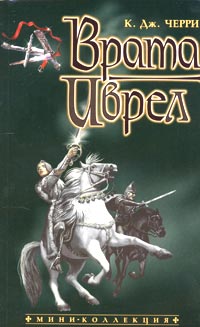Возвращение Стругацкие Аркадий и Борис

– Это меня тогда же, когда и тебя. Но мне обещали, что это скоро пройдет. Исчезнет без следа. И я верю, потому что они все могут.
– Кто это – они? – тяжело спросил Кондратьев.
– Как – кто? Люди… Земляне.
– То есть – мы?
Женя заморгал.
– Конечно, – сказал он неуверенно. – В некотором смысле… мы. – Он перестал улыбаться и внимательно поглядел на Кондратьева. – Сережа, – сказал он тихо. – Тебе очень больно, Сережа?
Кондратьев слабо усмехнулся и показал глазами: нет, не очень. Но скоро будет очень, подумал он. Все равно, Женя хорошо сказал. «Сережа. Тебе очень больно, Сережа?» Хорошие слова, и он хорошо их сказал. Он сказал их совершенно так же, как в тот несчастный день, когда «Таймыр» зарылся в зыбкую пыль безымянной планеты и Кондратьев глупо, никчемно рискнул во время вылазки и повредил ногу. Было очень больно, хотя, конечно, не так, как сейчас. Женя, бросив кинокамеры, полз по осыпающемуся склону бархана, волоча за собой Кондратьева, и неистово ругался, а потом, когда ум удалось наконец выкарабкаться на гребень, он ощупал ногу Кондратьева сквозь ткань скафандра и вдруг тихонько спросил: «Сережа. Тебе очень больно, Сережа?» Над голубой пустыней выползал в сиреневое небо жаркий белый диск, раздражающе тарахтели помехи в наушниках, и они долго сидели, дожидаясь возвращения робота-разведчика. Робот-разведчик так и не вернулся; должно быть, затонул в пыли. И тогда они поползли обратно к «Таймыру»…
– О чем ты будешь писать? – спросил Кондратьев. – О нашем рейсе?
Женя с увлечением принялся говорить о частях и главах, но Кондратьев уже не слышал его. Он смотрел в потолок и думал: больно, больно, больно… И, как всегда, когда боль стала невыносимой, в потолке раскрылся овальный люк, бесшумно выдвинулась серая шершавая труба с зелеными мигающими окошечками. Труба плавно опустилась, почти касаясь груди Кондратьева, и замерла. Затем раздался тихий вибрирующий гул.
– Эт-то что? – осведомился Женя и встал. Кондратьев молчал, закрыв глаза, с наслаждением ощущая, как отступает, затихает, исчезает сумасшедшая боль.
– Может быть, мне лучше уйти? – сказал Женя, озираясь.
Боль исчезла. Труба бесшумно ушла наверх, люк в потолке закрылся.
– Нет-нет, – сказал Кондратьев. – Это просто процедура. Сядь, Женя.
Он пытался вспомнить, о чем говорил Женя. Да. Повесть-очерк «За световым барьером». О рейсе «Таймыра». О попытке проскочить световой барьер. О катастрофе, которая перенесла «Таймыр» через столетие…
– Слушай, Евгений, – сказал Кондратьев, – они понимают, что случилось с нами?
– Да, конечно, – сказал Женя.
– Ну?
– Гм! – сказал Женя. – Они это, конечно, понимают. Но нам от этого не легче. Я, например, не могу понять, что они понимают.
– А все-таки?
– Я рассказал им все. Когда я дошел до этих ужасных эфирных мостов, они заявили: «Все понятно. Это была сигма-деритринитация».
– Как? – сказал Кондратьев.
– Де-ри-три-ни-та-ци-я. Сигма притом.
– Любопытно, – пробормотал Кондратьев. – Может быть, они еще что-нибудь заявили?
– Они мне прямо сказали: «Ваш „Таймыр“ подошел вплотную к световому барьеру с легенным ускорением и сигма-деритринитировал пространственно-временной континуум». Они сказали, что нам не следовало прибегать к легенным ускорениям.
– Так, – сказал Кондратьев. – Не следовало, значит, прибегать к этим… как их… ускорениям: А мы, значит, прибегли. Дери… тери… Как это называется?
– Деритринитация. Я запомнил с третьего раза. Одним словом, насколько я понял, всякое тело у светового барьера при определенных условиях чрезвычайно сильно искажает форму мировых линий и как бы прокалывает риманово пространство. Ну… это приблизительно то, что предсказывал в наше время Быков-младший. («Ага», – сказал Кондратьев.) Это прокалывание они называют деритринитацией. У них все корабли дальнего действия работают на этом принципе. Д-космолеты. («Ага», – снова сказал Кондратьев.) При деритринитации особенно опасны эти самые легенные ускорения. Откуда они берутся и в чем их суть, я совершенно не понял. Какие-то локальные вибрационные поля, гиперпереходы плазмы и так далее. Факт тот, что при легенных помехах неизбежны чрезвычайно сильные искажения масштабов времени. Вот это и случилось с нашим «Таймыром».
– Деритринитация, – печально сказал Кондратьев и закрыл глаза.
Они помолчали. «Плохо дело, – подумал Кондратьев. – Д-космолеты. Деритринитация. Этого мне не одолеть. И сломанная спина».
Женя погладил его по щеке и сказал:
– Ничего, Сережа. Я думаю, со временем мы во всем разберемся. Конечно, ничего не поделаешь, придется очень много учиться…
– Переучиваться, – прошептал Кондратьев, не открывая глаз. – Не обольщайся, Женя. Переучиваться. Все с самого начала.
– Ну что ж, я не прочь, – сказал Женя бодро. – Главное – захотеть.
– Хотеть – значит мочь? – ядовито осведомился Кондратьев.
– Вот именно.
– Это присловье придумали люди, которые могли, даже когда не хотели. Железные люди.
– Ну-ну, – сказал Женя, – ты тоже не бумажный. Вот слушай. На прошлой декаде я познакомился с одной молодой женщиной…
– Понятно, – сказал Кондратьев.
Женя очень любил знакомиться с молодыми женщинами.
– Она языковед. Умница, чудесный, изумительный человек…
– Ну разумеется, – сказал Кондратьев.
– Дай мне сказать, Сережа. Я все понимаю. Ты боишься. Не надо бояться. Здесь нельзя быть одиноким. Мне тоже сначала было страшно. А потом мы познакомились, и… Словом, выходи из больницы, и тогда поговорим. Поправляйся скорее, штурман. Ты киснешь.
Кондратьев помолчал, затем попросил:
– Евгений, будь добр, подойди к окну.
Женя встал и, неслышно ступая, подошел к огромному – во всю стену – голубому окну. В окне штурман не видел ничего, кроме далекого, прозрачного иеба. Ночью окно было похоже на темно-синюю пропасть, утыканную колючими звездочками, и раз или два штурман видел, как там загорается красноватое зарево – загорается и быстро гаснет.
– Подошел, – сказал Женя.
– Что там?
– Там балкон.
– А дальше?
– А под балконом площадь, – сказал Женя и оглянулся на Кондратьева.
Кондратьев насупился. Даже Женька Славин не понимает его. Одинок до предела. Совершенно один в огромном неизвестном мире. До сих пор он не знает ничего. Ничего. Он не знает даже, какой пол в его комнате, почему все ступают по этому полу совершенно бесшумно. Вчера вечером штурман попытался приподняться и осмотреть комнату и сразу свалился в обмороке. Больше он не делал попыток, потому что терпеть не мог быть без сознания.
– Вот это здание, в котором ты лежишь, – сказал Женя, – это санаторий для тяжелобольных. Здание шестнадцатиэтажное, и твоя комната…
– …палата, – проворчал Кондратьев.
– …и твоя комната находится на девятом этаже. Балкон. Кругом горы – Урал – и сосновый лес. Дальше там Свердловск. До него километров сто. Отсюда я вижу, во-первых, второй такой же санаторий. Во-вторых, вижу стартовую площадку для птерокаров. Ах, право, чудесные машины! Там их сейчас четыре… Так. Что еще? В-третьих, имеет место площадь-цветник с фонтаном. Возле фонтана стоит какой-то ребенок и, судя по всему, размышляет, как бы удрать в лес…
– Тоже тяжелобольной? – спросил штурман с интересом.
– Возможно. Хотя мало похоже. Так. Удрать ему не удается, потому что его поймала одна голоногая тетя. Я уже знаком с этой тетей, она работает здесь. Очень милая особа. Ей лет двадцать. Давеча она спрашивала меня, не был ли я случайно знаком с Норбертом Винером и с Антоном Макаренко. Сейчас она влечет тяжелобольного ребенка и, по-моему, воспитывает его на ходу. А вот снижается еще один птерокар… Хотя нет, это не птерокар… А ты, Сережа, попросил бы у врача стереовизор.
– Я просил что-нибудь, – сказал штурман мрачно. – Он не разрешает.
– Почему?
– Откуда я знаю. Женя вернулся к постели.
– Все это суета сует, – сказал он. – Все это ты увидишь, узнаешь и перестанешь замечать. Не нужно быть таким впечатлительным. Помнишь Кёнига?
– Ну?
– Помнишь, как я рассказывал ему про твою сломанную ногу, а он громко кричал с великолепным акцентом: «Ах, какой я впечатлителыный! Ах!»
Кондратьев улыбнулся.
– А наутро я пришел к тебе, – продолжал Женя, – и спросил, как дела, а ты злобно ответил, что провел «разнообразную ночь».
– Помню, – сказал Кондратьев. – И вот здесь я провел много разнообразных ночей. И сколько их еще впереди!
– Ах, какой я впечатлительный! – закричал Женя. Кондратьев опять закрыл глаза и некоторое время лежал молча.
– Слушай, Евгений, – сказал он, не открывая глаз, – а что тебе сказали по поводу твоего искусства водить звездолет?
Женя весело засмеялся:
– Была великая, очень вежливая ругань. Оказалось, я разбил какой-то телескоп на внеземной обсерватории. Честное слово, не заметил – когда. Начальник обсерватории чуть не удавил меня. Но воспитание не позволило.
Кондратьев открыл глаза.
– Ну? – сказал он.
– Но потом, когда они узнали, что я не пилот, все обошлось. Меня даже хвалили. Начальник обсерватории сгоряча предложил мне принять участие в восстановлении телескопа.
– Ну? – сказал Кондратьев. Женя вздохнул:
– Ничего не получилось. Врачи запретили. Приоткрылась дверь, в комнату заглянула смуглая девушка в белом халатике, туго перетянутом в талии. Девушка строго поглядела на больного, затем на гостя и сказала:
– Пора, товарищ Славин.
– Сейчас ухожу, – сказал Женя.
Девушка кивнула и затворила дверь. Кондратьев грустно сказал:
– Ну вот, ты и уходишь…
– Так я же ненадолго! – вскричал Женя. – И не кисни, прошу тебя… Ты еще полетаешь, ты еще будешь классным Д-звездолетчиком!
– Д-звездолетчик… – Штурман криво усмехнулся. – Ладно, Евгений, ступай. Сейчас звездолетчика будут кормить кашкой. С ложечки.
Женя поднялся.
– До свиданья, Сережа, – сказал он, осторожно похлопав руку Кондратьева, лежавшую поверх простыни, – Выздоравливай. И помни, что новый мир – очень хороший мир.
– До свиданья, классик, – проговорил Кондратьев. – Приходи скорее. И приведи свою умницу. Как ее зовут?
– Шейла, – сказал Женя. – Шейла Кадар.
Он вышел. Он вышел в незнакомую и в общем-то чужую жизнь, под бескрайнее небо, в зелень бескрайних садов. В мир, где, наверное, стрелами уходят за горизонт стеклянные автострады, где стройные здания бросают на площади ажурные тени, Где мчатся машины без людей и с людьми, одетыми в диковинные одежды, спокойными, умными, доброжелательными, всегда очень занятыми и очень этим довольными. Вышел и пойдет дальше бродить по планете, похожей и не похожей на Землю, которую мы с ним покинули так давно и так недавно. Он будет бродить со своей Шейлой Кадар и скоро напишет свою книгу, и книга – эта будет, конечно, очень хорошей, потому что Женя может написать только очень хорошую, умную книгу…
Кондратьев открыл глаза. Рядом с постелью сидел толстый, румяный врач Протос и молча смотрел на него. Врач Протос улыбнулся, покивал и сказал вполголоса:
– Все будет хорошо, Сергей.
Глава вторая
Самодвижущиеся дороги
Самодвижущиеся дороги
– Может, ты все же проведешь вечер с нами? – сказал Женя Славин с виноватым видом.
– Правда, оставайтесь с нами, Сережа! – сказала Шейла. – Поедем к нам, потанцуем. Я приглашу друзей…
– Нет уж, – пробормотал Кондратьев. – Я уж пойду.
– Ну куда вы пойдете с таким печальным видом? – сказала Шейла. – Может, вам не хочется танцевать? Тогда просто побеседуем. У нас сосед очень славный человек…
– Инженер-ассенизатор, – вставил Женя.
– Да нет, спасибо, – сказал Кондратьев. – Мне тут надо в одно место…
Шейла, конечно, приглашает искренне, но Женька… Хотя кто их разберет, влюбленных… И вообще – сидеть, завидовать и еще беседовать с каким-то ассенизатором… Нет уж.
– До свиданья, – сказал он решительно, отступая от птерокара.
Шейла улыбнулась ему ласково и печально и кивнула. Прекрасный человек Шейла, она все понимает. И не станет смотреть вслед долгим взглядом, шепча громко: «Ах, как ему тяжело сейчас, бедняжке!» Везет этому рыжему.
Женя небрежно кончиками пальцев коснулся клавиш uia приборной доске. Он даже не глядел на приборную доску. Левая рука его лежала за спиной Шейлы. Он был великолепен. Он не захлопнул дверцу. Он подмигнул Кондратьеву и рванул птерокар с места так, что дверца захлопнулась сама. Птерокар взмыл в небо и поплыл над крышами. Кондратьев поплелся к эскалатору.
Ладно, подумал он, окунемся в жизнь. Женька говорит, что в этом городе нельзя заблудиться. Посмотрим.
Эскалатор бесшумно понес его в недра здания. Кондратьев посмотрел вверх. Над головой была полупрозрачная крыша, на ней лежали тени птерокаров и вертолетов, принадлежавших, видимо, обитателям дома. Кажется, каждая крыша в городе была посадочной площадкой. Кондратьев посмотрел вниз. Там был обширный светлый вестибюль. Пол вестибюля был гладкий и блестящий, как лед.
Мимо Кондратьева, дробно стуча каблучками по ступенькам, сбежали две молоденькие девушки. Одна ив них – маленькая, в белой блузе и ярко-синей юбке, – пробегая, заглянула ему в лицо. У нее был нос в веснушках и челка до бровей. Что-то в Кондратьеве поразило ее. На мгновение она остановилась и, чтобы не упасть, ухватилась за поручень. Затем она догнала подругу, и они побежали дальше, а внизу, уже в вестибюле, оглянулись обе. «Ну вот, – уныло подумал Кондратьев, – начинается! По улицам слона водили».
Он спустился в вестибюль (девушек уже не было), попробовал ногой пол – не скользит ли. Оказалось – не скользит. В вестибюле по сторонам двери были огромные окна, и в окна было видно, что на улице очень много зелени. Город тонул в зелени – это Кондратьев видел, пролетая на птерокаре. Сверху казалось, что зелень заполняет все промежутки между, крышами. Кондратьев обошел вестибюль, постоял перед торшерной вешалкой, на которой висел одинокий сиреневый плащ, осторожно оглядевшись, пощупал материю и направился к двери. На ступеньках крыльца он остановился. Улицы не было.
Прямо от крыльца через густую высокую траву вела утоптанная тропинка. Шагах в десяти она исчезала в зарослях кустарника. За кустарником начинался лес – высокие прямые сосны вперемежку с приземистыми, видимо очень старыми, дубами. Вправо и влево уходили чистые голубые стены домов.
– Здорово! – сказал вслух Кондратьев и потянул носом воздух.
Воздух был очень хороший. Кондратьев заложил руки за спину и решительно двинулся по тропинке. Тропинка вывела его на довольно широкую песчаную дорожку. Кондратьев, поколебавшись, свернул направо. На дорожке было много людей. Он даже напрягся, ожидая, что праправнуки при виде его немедленно прервут разговоры, отвлекутся от своих насущных забот, остановятся и примутся пялить на него глаза. Может быть, будут даже расспрашивать. Но ничего подобного не случилось. Какой-то пожилой праправнук, обгоняя, неловко толкнул его и сказал:
– Простите, пожалуйста… Нет-нет, это я не тебе.
Кондратьев на всякий случай улыбнулся.
– Что-нибудь случилось? – услыхал он слабый женский голос, исходивший, казалось, из недр пожилого праправнука.
– Нет-нет, – сказал праправнук, доброжелательно кивая Кондратьеву. – Я здесь нечаянно толкнул одного молодого человека.
– А… – сказал женский голос – Тогда слушай дальше. Ванда стала спорить, что хориола лучше пианино, и мы…
Пожилой праправнук удалялся, и женский голос постепенно затих. «Здорово! – подумал Кондратьев. – Это, конечно, радиофон. Только где он у него?»
Праправнуки обгоняли Кондратьева и шли навстречу. Многие улыбались ему, иногда даже кивали. Однако никто не пялил глаз и не лез с расспросами. Правда, некоторое время вокруг Кондратьева описывал сложные траектории какой-то черноглазый юнец – руки в карманы, – но в тот самый момент, когда Кондратьев сжалился наконец и решил ему кивнуть, юнец, видимо отчаявшись, отстал. Кондратьев почувствовал себя свободнее и стал присматриваться и прислушиваться.
Праправнуки казались, в общем, самыми обыкновенными людьми. Пожилые и молодые, высокие и маленькие, красивые и некрасивые. Мужчины и женщины. Не было глубоких стариков. Вообще не было дряхлых и болезненных. И не было детей. Впрочем, Кондратьев вспомнил, что все дети сейчас должны находиться в школах-интернатах. И вели себя праправнуки на этой зеленой улице очень спокойно и непринужденно – словно принимали у себя дома старых добрых друзей. Нельзя сказать, чтобы все они исходили радостью и счастьем. Кондратьев видел и озабоченные, и усталые, изредка даже просто мрачные лица. Один молодой парень сидел у обочины дорожки среди одуванчиков, срывал их один за другим и свирепо дул на них. Видно было, что мысли его гуляют где-то далеко-далеко и эти мысли совсем невеселые.
Одевались праправнуки просто и все по-разному. Мужчины постарше были в длинных брюках и мягких куртках с открытым воротом, женщины – тоже в брюках или в длинных платьях изящного раскроя. Молодые люди и девушки почти все были в коротких широких штанах и белых или цветных блузах. Встречались, впрочем, и модницы, щеголявшие в пурпурных или золотых плащах, накинутых на короткие светлые, с золотым шитьем… рубахи, решил Кондратьев. На модниц оглядывались.
В городе было тихо. Во всяком случае, не было слышно никаких механических звуков. Кондратьев слышал только голоса да иногда – откуда-то – музыку. Еще шумели кроны деревьев и изредка проносилось мягкое «фр-р-р» пролетающего птерокара. Видимо, воздушный транспорт двигался, как правило, на большой высоте… Одним словом, все здесь не было совершенно чужим для Кондратьева, хотя и было очень забавно ходить в громадном городе по тропинкам и песчаным дорожкам, задевая одеждой за ветки кустарника. Почти такими же были сто лет назад пригородные парки. Кондратьев мог бы чувствовать себя здесь совсем своим, если бы только не чувствовал себя таким никчемным, никчемнее, несомненно, чем любая из этих золотых и пурпурных модниц с короткими подолами.
Он обогнал мужчину и женщину, идущих под руку. Мужчина рассказывал:
– …в этом месте вступает скрипка – та-ла-ла-ла-а! – а потом тонкая и нежная ниточка хориолы – ти-ии-та-та-та… ти-и-и!
Это получалось у него проникновенно. Женщина смотрела иа него с любовью и восторгом.
У обочины стояли двое немолодых и молчали. Один вдруг сказал угрюмо:
– Все равно, ей не следовало рассказывать об этом мальчику.
– Теперь уже поздно, – отозвался другой, и они снова замолчали.
Навстречу Кондратьеву медленно шли трое – высокая бледная девушка, огромный пожилой индус и задумчивый, рассеянно улыбающийся парень. Девушка говорила, резко взмахивая сжатым кулачком:
– Вопрос решать надо альтернативно. Или ты художник-писатель, или ты художник-сенсуалист. Третьего быть не может. По крайней мере, сейчас. Я не могу считать достойными те приемы, к которым прибегает Вальедалид. Он играет пространственными отношениями. Это дешевка – уже хотя бы потому, что это техника, а не искусство. Он просто равнодушный и самодовольный дурак.
– Маша, Маша! – укоризненно прогудел индус.
– Не останавливайте ее, учитель Яшпал, пусть ее, – сказал парень.
Кондратьев поспешно свернул на боковую тропинку, миновал живую изгородь, пеструю от больших желтых и синих цветов, и остановился как вкопанный. Перед ним была самодвижущаяся дорога.
Кондратьев уже слыхал от Жени об удивительных самодвижущихся дорогах. Их начали строить давно, и теперь они тянулись через многие города, образуя беспрерывную разветвленную материковую систему от Пиренеев до Тянь-Шаня и на юг через равнины Китая до Ханоя, а в Америке – от порта Юкон до Огненной Земли. Женя рассказывал об этих дорогах неправдоподобные вещи. Он говорил, будто дороги эти не потребляют энергии и не боятся времени; будучи разрушенными, восстанавливаются сами, легко взбираются на горы и перебрасываются мостами через пропасти. По словам Жени, эти дороги будут существовать и двигаться вечно, до тех пор, пока светит Солнце и цел земной шар. И еще Женя говорил, что самодвижущиеся дороги – это, собственно, не дороги, а поток чего-то среднего между живым и неживым.
Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева шестью ровными серыми потоками. Это были так называемые полосы Большой Дороги. Полосы двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. И тогда, наклонившись и прислушавшись, он услыхал голос Большой Дороги: скрип, шуршание, шелест. Дорога действительно ползла. Кондратьев решился и шагнул через барьер.
Он чуть не потерял равновесие – кто-то поддержал его под локоть, – выпрямился, постоял немного и перешел на следующую полосу.
Дорога текла с холма, и Кондратьев видел сейчас ее до самого синего горизонта. Она блестела на солнце, как, гудронное шоссе.
Кондратьев стал глядеть на проплывающие над вершинами сосен крыши домов. На одной из крыш блестело исполинское сооружение из нескольких громадных квадратных зеркал, нанизанных на тонкие ажурные конструкции. На всех крышах стояли птерокары – красные, зеленые, золотистые, серые. Сотни птерокаров и вертолетов висели над городом. Вдоль дороги, надолго закрыв солнце, проплыл с глухим свистящим рокотом треугольный воздушный корабль и скрылся за лесом. Никто не поднял головы. Далеко в туманной дымке обозначились очертания какого-то сооружения – не то мачты, не то телевизионной башни. Дорога текла плавно, без толчков, зеленые кусты и коричневые стволы сосен весело бежали назад, в просветах между ветвями появлялись и исчезали большие стеклянные здания, светлые коттеджи, открытые веранды под блестящими пестрыми навесами.
Кондратьев вдруг сообразил, что дорога уносит его на окраину Свердловска. «Ну и пусть, – подумал он. – Ну и хорошо». Наверное, эта дорога может унести куда угодно. В Сибирь, в Китай, во Вьетнам. Он сел и обхватил руками колени. Сидеть было не мягко, но и не жестко.
Впереди Кондратьева трое юношей сидели по-турецки, склонившись над какими-то разноцветными квадратиками. Наверное, они решали геометрическую задачу. А может быть, играли. «Зачем нужны эти дороги? – подумал Кондратьев. – Вряд ли кому-нибудь придет в голову ездить таким вот образом во Вьетнам или в Китай. Слишком мала скорость… и слишком жестко. Ведь есть стратопланы, громадные треугольные корабли, птерокары, наконец… Какой же прок в дороге? И сколько она, наверное, стоила!» Он стал вспоминать, как строили дороги век назад – и не самодвижущиеся, а самые обыкновенные, и притом не очень хорошие. Огромные полуавтоматические дорогоукладчики, гудронная вонь, зной и потные, измученные люди в кабинах, запорошенных пылью. А в Большую Дорогу вбита чертова уйма труда и мысли, гораздо больше, конечно, чем в Трансгобийскую магистраль. И все для того, видимо, чтобы можно было сойти где хочешь, сесть где хочешь и ползти, ни о чем не заботясь, срывая по пути ромашки. Странно, непонятно, нерационально. А еще двадцать второй век!
Стеклянные этажи над вершинами сосен внезапно кончились. Гигантская глыба серого гранита выросла над соснами. Кондратьев вскочил. На вершине глыбы, вытянув руку над городом и весь подавшись вперед, стоял огромный человек. Это был Ленин – такой же, какой когда-то стоял, да и сейчас, наверное, стоит на площади перед Финляндским вокзалом в Ленинграде. «Ленин!» – подумал Кондратьев. Он чуть не сказал это вслух. Ленин протянул руку над этим городом, над этим миром. Потому что это его мир – таким-сияющим и прекрасным – видел он его два столетия назад… Кондратьев стоял и смотрел, как уходит громадный монумент в голубую дымку над стеклянными крышами.
Сосны стали ниже и гуще. На минуту рядом с дорогой открылась широкая поляна, на которой кучка людей в комбинезонах возилась с каким-то сложным механизмом. Дорога проскользнула под узкой полукруглой аркой-мостиком, прошла мимо указателя со стрелой, на котором было написано: «Матросово – 15 км. Поворот к Желтой Фабрике-6 км» и еще что-то – Кондратьев не успел прочитать. Он огляделся и увидел, что людей на лентах дороги стало меньше. На лентах, бегущих в обратную сторону, было вообще пусто. «Матросово – это, наверное, поселок. А Желтая Фабрика?» Сквозь стволы сосен мелькнула длинная веранда, уставленная столиками. За столиками сидели люди, ели и пили. Кондратьев почувствовал голод, но, поколебавшись, решил пока воздержаться. На обратном пути, подумал он. Было очень радостно ощущать здоровый сильный голод и быть в состоянии в любой момент удовлетворить его.
Сосны поредели, и откуда-то вынырнула широченная автострада, блестевшая под лучами вечернего солнца. По автостраде летели ряды чудовищных машин на двух, трех, даже восьми шасси и вообще без шасси, тупорылых, с громадными кузовами-вагонами, закрытыми ярко раскрашенной пластмассой. Машины шли навстречу, в город. Видимо, где-то поблизости автострада ныряла под землю и скрывалась в многоэтажных тоннелях под городом. Приглядевшись, Кондратьев заметил, что на машинах не было кабин, не было места для человека. Машины шли сплошным потоком, сдержанно гудя, на расстоянии каких-то двух-трех метров друг за другом. В просветы между ними Кондратьев увидел несколько таких же машин, идущих в обратном направлении. Затем дорогу снова плотно обступили заросли, и автострада скрылась из глаз.
– Вчера один грузовик соскочил с шоссе, – сказал кто-то за спиной Кондратьева.
– Это потому, что снят силовой контроль. Роют новые этажи.
– Это-то так. Все равно, не люблю я этих носорогов.
– Ничего, скоро закончим многослойный конвейер, тогда шоссе можно будет закрыть.
– Давно пора…
Впереди показалась еще одна веранда со столиками.
– Леша! Лешка! – крикнули от одного из столиков и помахали рукой.
Парень и молодая женщина впереди Кондратьева тоже замахали руками, перешли на медленную ленту и соскочили на траву напротив веранды. И еще несколько человек соскочили тут же. Кондратьев хотел было тоже соскочить, но заметил столб с указателем: «Поворот к Желтой Фабрике – 1 км». И он остался.
Он соскочил у поворота. Между стволами была видна неширокая утоптанная дорожка, ведущая вверх по склону большого холма. На вершине холма на фоне закатного неба четко вырисовывались очертания небольших строений. Кондратьев не торопясь двинулся по дорожке, с наслаждением ощущая под ногами податливую землю. «А ведь в дождь здесь должна быть грязь», – почему-то подумал он. Через несколько минут он выбрался на вершину холма и остановился на краю исполинской котловины, тянувшейся, как ему показалось, до самого горизонта.
Контраст между спокойной, мягкой зеленью под синим вечерним небом и тем, что открылось в котловине, был настолько разителен, что Кондратьев попятился, зажмурил глаза и помотал головой. На дне котловины кипел ад. Настоящий ад, со зловещими сине-белыми вспышками, крутящимся оранжевым дымом, клокочущей вязкой жидкостью, раскаленной докрасна. Что-то медленно вспучивалось и раздувалось там, как гнойный нарыв, затем лопалось, разбрызгивая и расплескивая клочья оранжевого пламени, заволакивалось разноцветными дымами, исходило паром, огнем и ливнем искр и снова медленно вспучивалось и лопалось. В вихрях взбесившейся материи носились лохматые молнии, возникали и исчезали через секунду чудовищные неясные формы, крутились смерчи, плясали голубые и розовые призраки. Долго Кондратьев вглядывался как завороженный в это необыкновенное зрелище. Затем он понемногу пришел в себя и стал замечать и нечто другое.
Ад был бесшумен и строго геометрически ограничен. Ни одним звуком не выдавала себя грандиозная пляска огней и дымов, ни один язык пламени, ни один клуб дыма не проникал за какие-то пределы, и, приглядевшись, Кондратьев обнаружил, что все обширное, уходящее далеко к горизонту пространство ада накрыто еле заметным прозрачным колпаком, края которого уходили в бетон – если это был бетон, – покрывавший дно котловины. Потом Кондратьев увидел, что колпак этот был двойным и даже, кажется, тройным, потому что время от времени в воздухе над котловиной мелькали плоские отблески, вероятно, отражения вспышек от внутренней поверхности верхнего колпака. Котловина была глубокая, ее крутые, ровные стены, облицованные гладким серым материалом, уходили на глубину по крайней мере сотни метров. «Крыша» необъятного колпака возвышалась над дном котловины не более чем метров на пятьдесят. Видимо, это и была Желтая Фабрика, о которой предупреждали надписи на указателях. Кондратьев сел на траву, сложил руки на коленях и стал смотреть в колпак.
Солнце зашло, по серым склонам котловины запрыгали разноцветные отсветы. Очень скоро Кондратьев заметил, что в бушующей адской кухне хаос царит не безраздельно. В дыму и огне то и дело возникали какие-то правильные четкие тени, то неподвижные, то стремительно двигающиеся. Разглядеть их как следует было очень трудно, но один раз дым вдруг рассеялся на несколько мгновений, и Кондратьев увидел довольно отчетливо сложную машину, похожую на паука-сенокосца. Машина подпрыгивала на месте, словно пыталась выдернуть ноги из вязкой огненной массы или месила своими длинными блестящими сочленениями эту кипящую массу. Затем что-то вспыхнуло под нею, и она опять заволоклась облаками оранжевого дыма.
Над головой Кондратьева с фырканьем прошел небольшой вертолет. Кондратьев поднял глаза и проводил его взглядом. Вертолет полетел над колпаком, затем вдруг вильнул в сторону и камнем рухнул вниз. Кондратьев ахнул и вскочил на ноги. Вертолет уже стоял на «крыше» колпака. Казалось, он просто неподвижно повис над языками пламени. Из вертолета вышел крошечный черный человечек, нагнулся, упираясь руками в колени, и стал смотреть в ад.
– Скажи, что я вернусь завтра утром! – крикнул кто-то за спиной Кондратьева.
Штурман обернулся. Невдалеке, утопая в пышных кустах сирени, стояли два аккуратных одноэтажных домика с большими освещенными окнами. Окна до половины были скрыты в кустарнике, и качающиеся под ветерком ветки выделялись на фоне ярких голубых прямоугольников тонкими ажурными силуэтами. Послышались чьи-то шаги. Затем шаги на секунду остановились, тот же голос крикнул:
– И попроси маму, чтобы она сообщила Борису!
– Хорошо! – откликнулся женский голос.
Окна в одном из домиков погасли. Из другого домика доносились звуки какой-то грустной мелодии. В траве стрекотали кузнечики, слышалось сонное чириканье птиц. Во всяком случае, на этой фабрике мне делать нечего, подумал Кондратьев.
Он встал и отправился назад. Несколько минут он путался в кустарниках, отыскивая дорогу, затем отыскал и зашагал между соснами. Дорога смутою белела под звездами. Еще через несколько минут Кондратьев увидел впереди голубоватый свет, газосветные лампы столба с указателем и почти бегом сошел к самодвижущейся дороге. Дорога была пуста.
Кондратьев, прыгая, как заяц, и вскрикивая: «Гоп! Гоп!», перебежал на полосу, движущуюся в направлении города. Ленты неярко светились под ногами, слева и справа уносились назад темные массы кустов и деревьев. Далеко впереди горело в небе голубоватое зарево – там был город. Кондратьев вдруг ощутил зверский голод.
Он сошел у веранды со столиками, той самой, возле которой стоял указатель: «Поворот к Желтой Фабрике – 1 км». На веранде было светло, шумно и вкусно пахло. Народу было так много, что Кондратьев даже удивился. Были заняты не только все столики – их было не меньше пятидесяти, и они стояли полукругом, – но и пространство внутри полукруга, где люди сидели и лежали на каких-то ярко раскрашенных круглых матрациках. Большая куча таких матрациков громоздилась в углу веранды. «Здесь, пожалуй, поужинаешь…» – уныло подумал Кондратьев, но все-таки поднялся по ступенькам и остановился на пороге. Праправнуки пили, ели, смеялись, разговаривали и даже пели.
Кондратьева сразу потянул за рукав какой-то голенастый праправнук с ближайшего столика.
– Садитесь, садитесь, товарищ, – сказал он поднимаясь.
– Спасибо, – пробормотал Кондратьев. – А как же вы?
– Ничего! Я уже поел, и вообще не беспокойтесь. Кондратьев, совершенно не зная, что сказать и как себя вести, с величайшей неловкостью уселся, положив руки на колени. Огромный темнолицый мужчина напротив, поедавший что-то очень аппетитное из глубокой тарелки, вскинул на него глаза и невнятно спросил:
– Ну, что там? Тянут?
– Что тянут? – спросил Кондратьев. Все за столиком глядели на него. Темнолицый, перекосив лицо, глотнул и сказал:
– Ведь вы из Аньюдина?
– Нет, – сказал Кондратьев. – Я с Желтой Фабрики. «Не ляпнуть бы чего-нибудь невпопад», – подумал он.
– Где это? – с любопытством спросила молодая женщина, сидевшая справа от Кондратьева.
– До поворота на Желтую Фабрику один километр, – пробормотал экс-штурман.
– А там – по холму и… к домикам…
– И над чем вы там работаете?
Кондратьеву захотелось встать и уйти.
– Видите ли… – начал он.
Но тут коренастый юноша, сидевший слева, радостно сказал:
– Я знаю, кто вы! Вы штурман Кондратьев с «Таймыра»!
– Ох, простите! – сказала женщина. – Я не узнала вас. Простите!
Темнолицый сейчас же поднял правую руку ладонью вверх и представился:
– Москвичев. Иоанн. Ныне – Иван. Женщина справа сказала:
– Завадская Елена Владимировна.
Коренастый юноша задвигал ногами под столом и сказал:
– Басевич. Метеоролог.
Маленькая беленькая девочка, затиснутая между метеорологом и Иоанном Москвичевым, весело пискнула:
– Оператор тяжелых систем Марина Черняк… Экс-штурман Кондратьев привстал и поклонился.
– Я вас тоже не сразу узнал, – объявил Москвичев. – Вы здорово поправились. А мы вот здесь сидим и ждем. Не хватает планетолетов, остается только сидеть и поедать сациви. Сегодня днем нам предложили двенадцать мест на продовольственном танкере – думали, что мы не согласимся. Мы сдуру начали бросать жребий, а в это время на танкер погрузилась группа из Воркуты. Главное – здоровенные ребята! На двенадцать мест еле втиснулось десять человек, а остальные пятеро остались здесь, – он неожиданно захохотал, – сидят и едят сациви!.. Кстати, а не съесть ли еще порцию? А вы уже ужинали?
– Нет, – сказал Кондратьев. Москвичев вылез из-за стола.
– Тогда я и вам сейчас принесу,
– Пожалуйста, – сказал Кондратьев благодарно. Иоанн Москвичев удалился, протискиваясь между столиками.
– Выпейте вина, – сказала Елена Владимировна, пододвигая Кондратьеву свой бокал.
– Спасибо, не пью, – механически сказал Кондратьев. Но тут он вспомнил, что он больше не звездолетчик и звездолетчиком никогда уже не будет. – Простите. С удовольствием.
Вино было ароматное, легкое, вкусное. Нектар, подумал Кондратьев. Боги пьют нектар. И едят сациви.
– Вы летите с нами? – пропищала оператор тяжелых систем.
– Не знаю, – сказал Кондратьев. – Может быть. А куда вы летите?
Праправнуки переглянулись.
– Мы добровольцы, – сказал Басевич. – Мы летим на Венеру. Надо превратить Венеру во вторую Землю.
Кондратьев резко выпрямился и поставил стакан.
– Венеру? – спросил он недоверчиво. Он-то хорошо помнил, что такое Венера. – А вы были когда-нибудь на, Венере?
– Мы не были, – сказала Елена Владимировна. – Был Москвичев, да это ведь неважно. Плохо, что не хватает планетолетов. Мы ждем уже три дня.
Кондратьев вспомнил, как он тридцать три дня крутился вокруг Венеры на планетолете первого класса, не решаясь высадиться.
– Да, – сказал он с горькой иронией, – это неприятно ждать так долго…
Затем он с ужасом посмотрел на беленького оператора тяжелых систем:
– Простите, вы тоже летите на Венеру?
– У меня индекс здоровья восемьдесят восемь, – немножко обиженно сказала оператор.