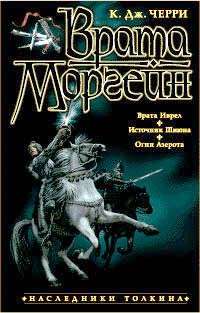Последний мятеж Щепетов Сергей
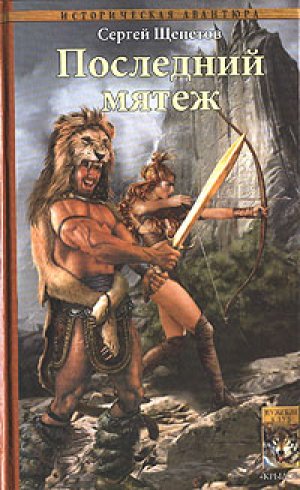
Часть первая
Глава 1
Первоубийцы
Он толкнул дверь и вошел в хижину. В нос ударил застарелый запах неопрятного человеческого жилья. Вар-ка молча опустился на лавку у стола — вот и все, он пришел…
Старик сидел напротив, положив на стол сцепленные руки с по-старчески вздутыми венами на кистях. Из-за бороды и волос его лица почти не было видно — только глаза — молодые, умные и… наполненные болью.
— Ты все-таки добрался… Вар-ка!
— Здравствуй…
Они долго молча смотрели друг на друга. Казалось, время остановилось. Да и было ли оно здесь?
Неясно, о чем думал старик, а Вар-ка не думал ни о чем. Он чувствовал, ощущал, смаковал и впитывал в себя осознание странного и удивительно важного события, касающегося только его одного. Свершилось нечто, свершилось в тот момент, когда он переступил порог этой хижины-развалюхи. Он сидит не в полупустой комнате с единственным окном без стекол, он висит в какой-то точке пространства-времени, где кончаются все пути… или наоборот, откуда они начинаются. Строго говоря, может быть, именно так все оно и было на самом деле.
Молчание нарушил старик:
— Что ж, это должно было случиться. Почему-то я знал, что так будет.
Вар-ка встряхнулся: «Это же…»
— Ведь я не ошибся? Да? Ведь это же ты, Рахама? Я же вырос, путаясь у тебя под ногами! Что с тобой случилось? Мне же всегда хотелось вернуться…
Седые заросли шевельнулись — кажется, старик усмехнулся:
— Наверное, когда-то я был тем человеком, о котором ты говоришь. Во всяком случае, я тебя помню.
— А все остальные? Поселок…
— Я покинул то место, когда прошла… Нет, не считал, но после тебя сменилась, наверное, сотня поколений — вряд ли меньше. Ты наверняка о чем-то таком догадывался. Ведь догадывался?
— Пожалуй… Амулет?
— Я не расстался с ним. Но осталось уже немного.
— В конце концов ты ушел…
— Если тебя посадить на большую раскаленную сковородку, то ты будешь метаться, пока не найдешь самый холодный край. Но и там жжет.
— И ты отправился, как и я, к вершине Великой горы — на границу миров?
— Ее называют по-всякому.
— Почему же ты не умер, раз было так тяжело? Ты ведь мог?
— А почему ты не остался жить там, где тебе было хорошо? Ведь мог?
— Не знаю…
— А я знаю! Но это — лишнее для тебя… пока.
Туман межвременья то наплывал, сужая видимое пространство до нескольких метров, то отступал, обнажая каменистые склоны. Неровно шумел ручей внизу. Этого места не было ни в одном из бесчисленного множества параллельных миров. И тем не менее оно было — где-то между ними. Два человека сидели у стены кособокого домика из дикого камня и говорили.
— Акурра? Его уже нет. Странно, что ты знаешь это имя. Хотя что-то такое было еще там, в Поселке.
— Вы тогда ругались с шаманом Лесных людей, который отказался от своего амулета. Он-то и помянул Акурру. Это был ваш учитель или наставник, если я правильно понял. Он-то и дал вам эти камушки.
— Что тебе до этого?
— Потом я попал в реальность, которую мы называем «мир Николая» — по имени моего… двойника. Там известен этот амулет. И есть легенды, что он дает бессмертие в обмен на невозможность делать зло людям. Только никто не знает, как им пользоваться, как его… включать, инициировать, заводить. В общем, легенды есть, есть сами камешки, но они не действуют. Люди того мира предложили нам разгадать эту загадку. По-видимому, они считают, что если амулет станет действовать у них, то их мир наконец перестанет быть таким жестоким. Мы с Колей и Женькой вновь отправились на границу миров. В той реальности она расположена на вершине безымянной сопки с отметкой 1242 м. Это очень глухое место, и людей поблизости нет. А на вершине когда-то работали геологи, они оставили после себя всякий мусор и деревянный вагончик, в котором можно жить.
— Николай — это твой двойник? Да, такое бывает в параллельных мирах. Жаль, что я так и не встретил своего… А кто такой Женька?
— Ты знал его, но, конечно, забыл. Это тот самый мальчишка, с которым мы ушли из Поселка. Тогда его звали Зик-ка. Когда началась заваруха, он не дал воинам прикончить меня на месте — начал расстреливать их из пращи. С тех пор он вырос, сам стал великим воином и сменил имя. Сейчас он связался с девчонкой и, кажется, надолго застрял в одном из миров. А мы с Колей продолжаем бродить по иным реальностям, пытаясь узнать тайну амулетов. В одной из них я взял твой след и пришел сюда.
— У этих амулетов нет тайны, но ты уверен, что они помогут людям того мира?
— Нет, конечно. Я вообще плохо понимаю, что это такое и зачем. Честно говоря, мне хотелось просто вернуться в Поселок и спросить у тебя!
Старик издал несколько клекочущих звуков, которые, вероятно, обозначали смех:
— Просто вернуться и спросить! Замечательно! Просто вернуться!
— Не смейся: я вернулся, и это было совсем невесело. На месте Поселка работали археологи. Остатки наших домов были в одном из самых древних культурных слоев. Ты знаешь, кто такие археологи?
— Видишь ли, мальчик, в разных мирах я успел побывать колдуном, пророком, профессором, нищим, президентом, рабом, писцом, жрецом и так далее. Уж будь добр, подбирай слова попроще, чтобы я мог уследить за полетом твоей мысли!
— Не сердись, шаман! Это ты тут как рыба в воде, а я так и не научился ориентироваться в этой мешанине миров. Брожу почти вслепую.
— Ага, вслепую! Но сюда-то добрался? Неужели не понимаешь, что вернуться в свое время нельзя? В место можно, а во время — нельзя, так не бывает!
— Конечно: время течет, как река…
— Оно течет, как вода в реке, — быстро на перекатах и медленно в заводях. Это очень удобно: позанимался с женщиной ТАМ, потом сходил СЮДА пообедать, вернулся, а ТАМ у тебя уже куча внуков… вот-вот помрет от старости! Каково? Впрочем, шучу я — почти шучу.
— Да, мы с Колей называем это «временным скачком» на границе. Он может быть большим, как в нашей реальности, или совсем маленьким, как в мире Николая.
— Что ж, ты неплохо продвинулся со своими друзьями. Могу добавить, что этот скачок далеко не всегда бывает постоянным.
— Ты хотел рассказать про того, кто дал тебе амулет.
— Я хотел?! Это ты хотел узнать, и, поверь, хотел лишнего! Скажу только, что он смог перестать жить лишь после того, как убедился, что я выдержу, что останусь. Остальное тебе знать пока еще рано.
— Значит, сначала я должен что-то сделать или что-то понять, да?
— Ты ничего не должен. Впрочем, если есть желание… Сходи посмотри! — старик невнятно кивнул куда-то в сторону.
— А ты объяснишь мне, что нужно смотреть и почему?
— Да пожалуйста! Это один из обычных миров. В его начале там жили… гм… почти люди. Или пред-люди — без речи и разума, вполне безобидные падальщики. Они всех боялись и никого не убивали, кроме себе подобных. Акурра там был и оставил несколько амулетов. Просил присмотреть, что получилось, а я… Миров много…
— Что-то ты темнишь — я чувствую. Почему не ты сам?
— А ты когда-нибудь присутствовал при родах ребенка? Человеческого ребенка?
— Да. Но давно — в детстве, еще в Поселке.
— Тебе понравилось?
— Нет.
— А там рождается не ребенок. Они разделились: те, кого едят, и те, кто ест.
С третьего удара кость раскололась. Ховр сунул руку внутрь черепа и извлек мозг. Остатки антилопы слишком долго пролежали под солнцем — дрожащий комок готов был потерять форму и протечь сквозь пальцы. Ховр кинул его в пасть, раздавил языком, глотнул, остаток размазал по небу и снова глотнул — хорошо! Он облизал ладонь, прислушался к ощущениям в желудке: хорошо, но… мало!
Его группа, его стая усердно орудовала обколотыми камнями — дробила все, даже самые мелкие кости в поисках мозга: мало, очень мало! Уже несколько дней — слишком мало.
Ховр задрал голову и стал смотреть в безоблачное бледно-серое небо. Сначала он ничего не увидел и чуть не завыл от обиды. Он опустил голову, потер глаза пальцами, снова посмотрел вверх и радостно оскалился: в бесконечно далекой раскаленной пустоте двигалась точка, и еще одна, и еще!
Вожак ударил себя в грудь, издал короткий рокочуще-повелительный звук и указал рукой в небо. Все перестали стучать камнями и урчать. Теперь они всматривались вверх.
— Агыр-р-р! — зазвучали радостные голоса: птицы показывают большую еду! Она где-то там, в предгорьях.
Мальчик играл с козленком. Может быть, конечно, это был и не козленок, а детеныш какой-то антилопы с начавшими пробиваться рожками. Им было весело. Мальчик убегал, прятался в высокой траве, а козленок, жалобно мекая, бежал за ним, прыгал, смешно вскидывая задние ноги. Или наоборот: мальчик грозно рычал, и зверек испуганно пускался наутек, а мальчишка скакал следом, пытаясь ухватить его за ногу. Наконец мальчику это надоело. Он выдернул несколько толстых трубчатых стеблей какого-то растения, уселся на землю в тени куста и стал жевать их нежные, не затвердевшие еще окончания. Потом он лег на спину и стал смотреть в небо, а козленок подобрался поближе и начал облизывать его ноги, перепачканные землей и соком раздавленных растений.
Ребенок, наверное, задремал, потому что очнулся он уже на ногах, чтобы кинуться прочь — в траву, в кусты, и бежать, бежать… Но не смог: чужая, несокрушимая воля остановила движение, связала руки и ноги.
— Не беги, не беги, стой спокойно. Теперь сядь, сядь на землю — как я, сядь на землю. Сиди, сиди тихо, не двигайся, не двигайся. Дыши и не бойся, дыши ровно и не бойся: все уже случилось, случилось. Бежать, что-то делать уже поздно, поздно — все случилось. Теперь сиди!
Мощный, дикий протест «Нет!!! Не поддамся!!!» коротко вспыхнул и погас: не устоять, не выдержать. Мальчик покорно опустился на примятую траву.
Перед ним был сугг. «Конечно, сугг, но… не сугг! Сугг, сугг, но… Это не сугг, но сугг!! — мысли спутались, заболела голова, на глазах выступили слезы. — Сугг — не сугг!»
— Я — не он, я — не он. Я — другой, другой. Перестань бояться, перестань бояться. Бежать — не надо, не надо! Ты все равно не сможешь, не сможешь. Я не убью, не убью. Я не голоден, я сытый и добрый, мне не нужна еда, я не убью.
Мальчишка еще сопротивлялся, сопротивлялся вопреки всему короткому опыту своей жизни:
— Ты сугг, сугг! Но я не нужен тебе! Я плохой, не такой, как надо! Ты не хочешь меня, не хочешь! Ударь и прогони меня, прогони! Я плохой!
— Нет!!! Сиди, как сидишь! Ты мне нужен. Именно ты. Сиди, как сидишь, сиди и не двигайся, не беги. Я — не он, я другой, перестань бояться, не надо бояться.
И ребенок сломался: мышцы расслабились, он завалился на бок, прижал ладони к лицу и заплакал.
Вар-ка встал, разминая затекшие ноги. Здесь, на границе горного леса, было не так жарко, как в открытой саванне, но пот тек с него ручьями. Парень оказался крепким орешком — может, напрасно он выбрал именно его?
Обозримый кусок этого мира представлял собой межгорную впадину или долину, шириной в добрую сотню километров — по утрам вдали на западе видны заснеженные вершины гор. На юге и севере конца-края у равнины не видно. Здесь же, на восточной границе, горы были тоже довольно высокими, но без снега на вершинах. «Вынырнув» в этой реальности, Вар-ка оказался на почти километровой высоте — в зоне альпийских лугов. Ниже начинался дремучий тропический лес, переходивший в предгорьях в саванну, по которой бродило множество разнообразных копытных.
Вар-ка потратил несколько дней на акклиматизацию: методом проб и ошибок распознавал съедобные растения, пытался, вспомнив молодость, охотиться на мелкую живность. После нескольких довольно сильных солнечных ожогов он решил, что уже может обходиться без одежды.
Первый раз его попытались съесть, когда он начал спускаться и вошел в лес. Вар-ка сумел почувствовать чужое пронзительно-пристальное внимание и ощутить угрозу. Он успел подавить страх перед неведомой опасностью и обратить его в свою противоположность — ярость и гнев. Стоя во влажном полумраке под плотным сводом переплетенных крон, он размахивал ножом и кричал куда-то в лабиринт ветвей и лиан:
— А-а-а!!! Сволочь!!! Убью! Уходи, гад, — убью!!!
Это сработало: какое-то утолщение, нарост у развилки кривого ствола вдруг шевельнулся и обрел свой отдельный облик: голова, лапы, хвост… Животное было явно из кошачьих, размером с крупную овчарку. Оно угрожающе шипело и демонстрировало непропорционально большие клыки — каждый размером с указательный палец. Вар-ка заорал еще громче и даже двинулся в сторону зверя, присматривая какую-нибудь палку, чтобы бросить.
В конце концов зверь отступил — спрыгнул на землю и скрылся в чаще. «Что ж, наверное, среди нормальных животных всех миров правило „охотник-жертва“ работает без сбоев, — размышлял Вар-ка. — Стоит почувствовать себя жертвой, начать убегать или обороняться — и съедят, обязательно съедят! Это только такой урод, как человек, может „жаждать бури“, может сознательно нарываться на неприятности, а нормальному хищнику нужен не бой, не схватка, а еда. Вот идет некто: явно не добыча, но и не претендент на территорию или самку — зачем же связываться?»
Сколько ни медитировал, сколько ни вслушивался он в пространство этого мира — черными звездными ночами или раскаленным полднем, на закате или на восходе — так и не смог понять, есть тут разум или нет. Потом он увидел этих существ и стал наблюдать за ними.
Их было много — больше, наверное, двух сотен — и они были… почти люди. По крайней мере, внешне. Но точно — не обезьяны: ходили на двух ногах, только заметно сутулились, пользовались камнями и палками, тела их были покрыты не шерстью, а скорее короткими густыми волосами. Никакой одежды они не носили, огня не разжигали — впрочем, в данных условиях, похоже, в этом и не было необходимости. Пару раз Вар-ка подбирался довольно близко и смог разглядеть несколько лиц: ничего, в общем-то, особенного по сравнению с обычными людьми — может быть, чуть узковатый скошенный назад лоб, чуть сильнее обычного выдаются вперед челюсти и надбровные дуги.
Человекообразные существа паслись на границе саванны и леса. Да, да, именно паслись: днем разбредались по саванне в одиночку или небольшими группами, а ночью спали на какой-нибудь проплешине недалеко от леса, но обязательно окруженной открытым пространством. Они что-то собирали с кустов, что-то выкапывали из земли, но, совершенно точно, не охотились! Всевозможные травоядные — какие-то быки, антилопы разных расцветок и размеров их совсем не боялись. Крупные хищники, похожие на безгривых львов, тоже не проявляли к ним особого интереса. Как заметил Вар-ка, человекоподобные жили с ними в противофазе — время охоты наступало в сумерках, а эти «почти люди» наиболее активными были в середине дня, когда даже птицы-стервятники куда-то прятались.
На третий день слежки Вар-ка сделал не слишком приятное открытие: человекоподобные интересуются падалью! Сильно интересуются! Да еще какой падалью…
Однажды утром, после бурной ночи, наполненной звуками большой охоты, в поле его зрения оказался раненый бык — довольно крупный рогатый самец одного из здешних видов антилоп. Он целый день бродил у края леса, ревел и пытался разогнать коротким хвостом облако мух. Вечером в сумерках его добила стая каких-то мелких хищников, похожих на собак или шакалов. Они пировали всю ночь: визжали и дрались из-за мяса. А утром слетелись птицы. Их было очень много — Вар-ка не подходил близко, но даже со склона можно было рассмотреть копошение кучи крылатых стервятников. К вечеру птицы стали разлетаться — наверное, мясо кончилось. На другой день к месту действия потянулись человекоподобные. В руках они несли камни.
Вар-ка побрел за ними, а потом долго сидел в траве, слушал стук каменных рубил и довольное курлыканье: «Что ж, каждому свое: кому-то теплое мясо, кому-то холодное, а кому — костный мозг. Он, говорят, богат протеином!»
Однажды, в коротких сумерках, Вар-ка увидел вдали начало великой битвы: несколько очень крупных хищников атаковали группу животных, похожих на больших слонов, только с короткими хоботами. Темнеет здесь очень быстро, и Вар не разглядел, чем кончилось дело, но утром туда полетели птицы — значит, охота была удачной. Скоро будет дело и для каменных орудий человекоподобных. На другой день они действительно потянулись туда — без команды, без предводителя, но довольно дружно.
Один из подростков не пошел вместе со всеми. Он остался возле места ночевки и играл с детенышем какой-то антилопы. Странно, но зверек подчинялся командам, пожалуй, лучше, чем хорошо выдрессированная собака.
Теперь мальчишка лежал на земле и плакал. Вар-ка стоял над ним: «Можно считать, что первый контакт получился. Речи, как таковой, у парня нет, но он восприимчив к внушению и сам пытается отвечать. Сочетание его звуковой пра— или пред-речи с взаимным внушением — чем не способ общения? Но кто или что такое „сугг“? И чего мальчишка так боится? Если я охотник, а он жертва, то как-то странно он сопротивляется. Интересно, а мыслить-то он может? И пойму ли я? Сейчас попробуем…»
— Почему ты здесь? Все ушли туда, там — еда, а ты здесь. Почему?
Ребенок перестал хлюпать и посмотрел на Вар-ка как-то странно — это было похоже на изумление. Он несколько раз судорожно сглотнул и издал серию звуков, которые были не совсем словами, но Вар-ка почти все понял.
— Я не пошел — это опасно. Большая еда, все идут — это опасно. Это — сугги. Опасно.
— Ладно, хорошо! — Вар-ка удовлетворенно улыбнулся и опять сел на землю. — Давай с самого начала.
Он ткнул себя в грудь:
— Я — не опасно. Я — не сугг. Сугг — плохо, это — не я! Я — Вар-ка, это хорошо, это не опасно. Вар-ка — хорошо!
Говоря это, Вар улыбался и излучал любовь и доброту. Потом он ткнул в сторону парня и изобразил подозрение и испуг:
— Ты — кто? Ты — сугг?
Реакция мальчишки была великолепна: он улыбнулся, почти засмеялся! Потом показал на свое лицо — несомненно, он имел в виду именно лицо, а не всего себя:
— Я не сугг! Ты видишь-знаешь: я не сугг! Ты боишься, но не боишься!
«Просто замечательно! А как у него с „частным“ и „общим“? С личностью?» — подумал Вар-ка и спросил:
— Они все, другие, которые пошли к еде, они не сугги? Они кто? Не сугги — кто?
— Они — не сугги. Они — ларги.
— Ларги — хорошо? Ларги — не опасно?
— Ларги — не очень хорошо, не очень опасно. Но ларги — не сугги!!
— Ты — ларг? Ты кто?
— Я — не очень ларг, плохой ларг. Я — Нокл.
— Ты — Нокл? Все остальные — не Нокл? Нокл — только ты?
— Да, Нокл только я.
Вар-ка присмотрелся, что за стебли жевал мальчишка, и сорвал рядом несколько таких же — оказалось довольно вкусно.
— Ларги — не сугги. Ларги — другие? Сугги — другие? — Вар-ка показал на свои руки, грудь, ноги. — Сугги другие — почему? Чем? Как?
Вопрос оказался трудным: мальчишка морщился, чесался. Его лицо, пожалуй, действительно отличалось от лиц ларгов, виденных Вар-ка раньше: высокий лоб, слишком изящные челюсти, осмысленный взгляд — вполне человеческая внешность.
Наконец парень что-то сообразил, сформулировал:
— Сугги — не другие. Ларги — не другие. Сугги, как ларги. Я — другой, не как сугги, не как ларги. Сугги используют, употребляют, едят ларги, которые как сугги!
«Та-а-ак, кажется, теперь моя очередь чесаться и корчить рожи: может, я вообще все не так понимаю? Они тут что, едят друг друга? Такие — не такие, ларги — сугги…»
Он подключил все — мимику, жестикуляцию, речь, внушение:
— Сугги убивают зверей — тех и этих — и ларгов?
— Нет. Сугги не убивают зверей. Только ларгов. Только ларгов, которые как сугги!
«Час от часу не легче! — окончательно смутился Вар-ка. — Как же в этом разобраться? Может, пойти познакомиться с суггами?»
— Я пойду к еде. Пойду, как все! Ты — тоже. Ты пойдешь со мной!
— Нет!!! Там — сугги! Нет!!!
— Ладно… — Вар-ка расслабился, ласково улыбнулся. — А где твой зверек?
— Лэк! Лэк! — повелительно позвал мальчишка, и через некоторое время из-за куста показалась испуганно-любопытная мордочка козленка.
Зверек явно боялся, но не смел ослушаться зова хозяина. Вар-ка сидел неподвижно, улыбался дружелюбно и безмятежно. Когда козленок оказался рядом, он коротким и точным движением сначала схватил его за ногу, а потом поднял и прижал к груди. Детеныш начал было сучить ножками, но быстро затих. Вар гладил его по загривку:
— Тихо, тихо, маленький! Все будет хорошо, хорошо — я добрый, тихо, тихо…
Мальчишка встал на четвереньки и смотрел на него широко раскрытыми глазами, в которых смешалось все сразу: страх, робость, гнев, обида и что-то еще:
— Отдай! Отпусти! Это — для суггов! Ты — не сугг! Отдай!
— Нет! Ты пойдешь со мной! Ты пойдешь со мной туда, где все!
Солнце стояло прямо над головой, когда Ховр понял, что они почти пришли: все чаще из высокой травы лениво взлетали потревоженные птицы — стервятники отдыхали после трапезы. Ноздри щекотал, вызывая прилив слюны во рту, сладостный запах тухлого мяса и развороченных внутренностей — скоро, уже скоро!
Сквозь траву плохо видно, и Ховр остановился, стал прислушиваться: может быть, там еще остался кто-то из хищников? Раскаленный воздух дрожал и поднимался кверху, стрекотали насекомые, а впереди слышался слабый гул — это мухи, очень много мух!
Ховр уже собрался идти дальше, когда услышал новый звук… и еще! «Это стук! Стук камней, разбивающих кости! О-о-о! — от волнения он забыл сглотнуть, и слюна потекла на землю. — Там ларги, много ларгов! О-о-о!»
— Ау-у-рр! Ларг, ларг!! — захлебываясь слюной, прорычал Ховр и заспешил вперед, сжимая в потной ладони обколотый камень.
— Ларг, ларг! — радостно подхватила стая и начала расходиться в стороны, охватывая полукольцом место, где была еда. Возле Ховра остались только его самки, а остальные отошли подальше — они будут ловить тех, кто захочет убежать.
Остатки туши — почти голый скелет с обрывками шкуры — лежали посреди вытоптанной в траве площадки, покрытой пятнами крови и экскрементами животных и птиц. В облаке мух у костей копошились ларги.
Ховр выскочил из травы и взревел, взмахнув рукой с камнем. Рев его подхватили все, кто был рядом:
— У-а-р-р-р-а! У-аррр!!!
Это был приказ не двигаться, и ларги замерли, побросав свои камни и кости: кто-то сел на корточки, кто-то лег на землю и закрыл голову руками.
— У-а-ррр-а!!!
На дальнем конце площадки кто-то все-таки шевельнулся и юркнул в траву, за ним другой. И почти сразу с той стороны донеслись ликующие вопли — там уже ели!
«Пускай едят! — сглотнул слюну Ховр. — Они мелкие и слабые, а я большой и сильный, я сам выберу себе добычу!» Он пошел вперед, разглядывая неподвижных или слабо шевелящихся ларгов.
Он искал еду для себя — молодого сильного самца или самку, которые захотят убежать или уползти. Он ходил, повелительно взрыкивал, пихал ногой то одного, то другого: не то, не то! Уже здесь и там слышались предсмертные стоны, глухой стук камня, довольное урчание, а он все не мог выбрать и уже начинал злиться.
Прищурившись против солнца, он высмотрел на краю площадки очень крупного ларга. «Вот то, что нужно!» — обрадовался Ховр и заспешил туда, сопя от нетерпения.
— У-арр! — Он аж передернулся от обиды и отвращения, выплюнул на землю излишек слюны. Ларг оказался безобразным уродом: голая, осклизлая от пота кожа, широкие плечи, раздутая над глазами голова — только она прикрыта прямыми волосами, — плоское лицо с торчащим носом и шерстью вокруг рта — брр!!! И вдобавок это мерзкое существо смотрело на него и не боялось!
В смятении Ховр шарахнулся в сторону и чуть не споткнулся о другого ларга. Этот был худой и маленький, но тоже уродливый — с раздутой спереди головой и почти лысой кожей. Он ни за что не стал бы есть такого, да и убивать его было противно, но Ховр все-таки поднял руку с зажатым камнем. Маленький урод что-то залепетал, задрыгал ногами, пытаясь подползти к кусту.
— Ва-аа! — хрипло выдохнул Ховр: мальчишка вытащил из-под куста и протянул ему тушку мертвого детеныша антилопы.
Это была вкусная, нежная еда, но Ховр не взял: пнул ногой уродца, перешагнул через него и пошел дальше. Недоумение и испуг без перехода сменились гневом: «Где моя пища?!!» В ярости он уже не выбирал и ударил первого, на кого наткнулся: кажется, это была немолодая самка.
Ховр орудовал камнем, зубами, пальцами, чавкал и уже не обращал ни на что внимания. А там, возле куста, его старый хромоногий сородич, у которого даже не было своего камня, захлебывался слюной, пытаясь содрать шкуру с мертвого козленка. Маленький большелобый худой ларг сидел рядом и смотрел.
Вар-ка чувствовал, что жить становится невыносимо: жара, вонь, мухи, урчанье, чавканье, глухой стук камней и возня здесь и там. Желудок просился на волю, и при этом мучительно хотелось пить. Хотелось в тень, под кроны деревьев — туда, где вода, где нет этих… Зря он так далеко забрался: до леса не один километр раскаленной саванны.
Убийства кончились, и человекоподобные спокойно занимались своими делами: кто-то лакомился трупами, кто-то пытался разбивать кости, кто-то, насытившись, трахал самку. Перекликались, ползали и бегали детеныши, что-то подбирали с земли, копошились в остатках туши.
«Кто тут ларги, кто тут сугги? Все они на одно лицо… Нет, надо уходить! Не торчать же здесь до вечера!» — принял решение Варка.
— Пойдем отсюда! Пойдем в лес! — повелительно сказал он Ноклу и показал рукой направление.
Мальчишка поднял глаза:
— Идти-бежать нельзя — сугги!
— Сугги не едят Вар-ка. Сугги не едят Нокла. Пошли в лес!
Ответ Вар-ка понял с трудом:
— Раньше-всегда сугги не едят Нокла: он плохой, не как сугги! Сейчас-сегодня сугг хотел убивать-есть Нокла. Дал еду — сугг не убил Нокла. Больше ничего нет — сугги убьют Нокла. Идти нельзя!
— Никто тебя не убьет, пошли! — надавил на него Вар-ка, и мальчишка покорно поднялся на ноги.
На них не обратили внимания, когда они покидали открытое пространство, но далеко уйти не удалось. Метров через пятьдесят уже в густой траве их остановили повелительные окрики.
Все эти рыки и вопли обладали значительной силой внушения. Вар-ка это прекрасно чувствовал, но, в отличие от ларгов, легко мог сопротивляться — он и сам так умел, и сам применял эту технику к людям.
Они наткнулись на компанию подростков: два молодых самца и самочка. Радостно урча, юные сугги выскочили навстречу из травы и сразу шарахнулись в сторону. Вид Вар-ка вызывал у них неодолимый страх и отвращение. В то же время никакой реальной угрозы для себя с его стороны они не ощущали. Если бы не было так жарко, Вар обязательно попытался бы разобраться с этим: к Ноклу взрослые сугги испытывали похожие чувства. Уродство, непохожесть на них самих делало сородича непригодным в пищу, неаппетитным. «Может быть, инстинкт действительно разрешает им убивать только себе подобных и категорически запрещает всех остальных: этакое „Не убий!“ навыворот?»
Впрочем, на сей раз Нокл, кажется, влип основательно: юные сугги прыгали вокруг него, махали камнями, пытались рычать, приказывая не двигаться, стоять на месте.
Молодые самцы явно пытались перещеголять друг друга, а самочка с интересом смотрела на них из зарослей. Нокл закрыл лицо руками и опустился на корточки в ожидании смерти.
Это было, наверное, неправильно, но Вар-ка уже плохо соображал от жары и решил вмешаться: набрал полную грудь горячего воздуха и…
— А-р-р!!! Р-р-аа! — потребовал он.
Эффект был великолепен: юные людоеды чуть с ног не попадали, а самочка исчезла — только трава зашуршала.
Три пары глаз смотрели теперь на Вар-ка: бессмысленные, испуганные, покорные глаза суггов и… Нокл смотрел одновременно и со страхом, и с восхищением! Вар-ка просто физически чувствовал, как копошатся, буквально распирают его череп какие-то мысли, какие-то новые для него соображения.
— Ты — не сугг и… сугг! Я не сугг, не сугг…
Мальчишка медленно разогнулся, встал в полный рост, шагнул назад, раздвигая спиной стебли травы. Он был весь во власти какой-то своей идеи:
— Ты — не сугг, я — не сугг…
И вдруг взвизгнул и упал на землю. Тут же вскочил и опять взвизгнул, снова упал и вскочил. Вар-ка уловил, почувствовал довольно слабый приказ, повеление, исходящее от него.
Молодым суггам этого хватило — они покорно легли на землю. Нокл топтался возле них, не веря своим глазам: неужели это сделал он, ОН?!
И вдруг — новая мысль! Мальчишка вздрогнул и замер.
А потом все произошло очень быстро, или, может быть, Вар-ка перегрелся на солнце и утратил реакцию.
Нокл шагнул вперед, подхватил чужой обколотый камень и ударил лежащего сугга в затылок, и еще раз, еще! Бросил камень, отскочил в сторону и завизжал:
— И-и-их!!!
Один сугг был мертв, а второй, услышав визг Нокла, вскочил и исчез в траве.
Мальчишка, казалось, сошел с ума. Он прыгал, визжал, махал руками:
— И-и-их!!! Ихх!!! Я — Нокл! Нокл — не сугг!!! Убил!!! Убил!!! Я! Нокл убил сугга!!! Сугга — убил!!!
Вар-ка устало опустился на землю: «Эта жара… Пить хочется… Нокл… Как он может прыгать?!»
— Да, ты убил сугга. Теперь давай ешь его! Давай-давай! Что смотришь?
Парень явно был сбит с толку, озадачен не на шутку:
— Нокл — есть… Есть сугга?! Нокл убил!!! Я есть сугга?.. Нокл — ларг. Ларги не едят суггов.
— Ларги не убивают суггов. Это сугги их убивают и едят. А ты убил. Ты — плохой ларг. Давай ешь теперь его!
— Нет! Нокл — ларг и не ларг. Нокл — плохой ларг…
Вар-ка уже устал от всего. Палило солнце, над телом сугга появились большие жирные мухи, а мальчишка маялся, решая новую для него проблему. Наконец, кажется, решил:
— Нокл — ларг! Нокл не будет есть сугга!
— Ну и не ешь! Черт с тобой, надоел ты мне…
Вар-ка поднялся с земли и, раздвигая стебли травы, двинулся в сторону леса.
Он шел уже довольно долго, все больше дурея от зноя, когда его остановил крик сзади. Вар-ка обернулся, нащупывая рукоятку ножа на поясе. Здесь, на небольшом возвышении, трава была низкой — по колено. И в этой траве, в десяти шагах от него, стоял Нокл с камнем в руке.
— И-р-р-а! И-рр! — повелительно закричал мальчишка и упал в траву. Тут же вскочил и снова закричал, взмахнув рукой.
От перегрева все чувства притупились, и Вар-ка вдруг захотелось сделать так, как он хочет, — лечь в траву и все… Он уже начал сгибать колени, но вовремя спохватился: «Не выйдет!! Ты что это задумал? Силу свою на мне пробовать?! Я тебе!..»
В раскаленном воздухе тонкая фигурка Нокла, казалось, змеится и мерцает. Порыв угас, и Вар-ка устало махнул рукой:
— Пошел к черту, гаденыш! — повернулся и побрел дальше.
Граница леса наконец осталась позади, и Вар-ка двинулся наискосок по склону, стараясь держаться подальше от отдельно стоящих кустов. Свой тайничок-захоронку он нашел не сразу — трава распрямилась, подросла и полностью скрыла следы его былого присутствия. Штаны, трусы, рубашка, куртка — все цело, только сырое и сплошь покрыто крупными черными муравьями. Хорошо, хоть дырок они не прогрызли!
Насекомых он кое-как вытряс, но одеваться не стал — так и пошел вверх с тряпками в руках — может быть, подсохнут, пока солнце не село?
Он долго брел по знакомому пологому гребню и смотрел, как растут, наливаются чернотой тени от камней и скал. Вот и первый клочок тумана показался в распадке слева, и еще один… Нет! Он не пойдет дальше! Вар опустился на теплый камень, лицом к зеленому морю саванны внизу. Он не пойдет…
«Неужели именно так рождается тот, кого называют „человек разумный“?! Двуногое существо втискивается между плотно упакованных экологических ниш, внушая окружающим: я не добыча и не конкурент вам. Оно очень плодовито, ведь самки способны к зачатию круглый год. Каннибализм как регулятор численности, как источник животного белка, как фактор отбора по принципу непохожести. Пламя разума возгорается из искры, высеченной неразрешимым противоречием: „Он такой же, как я, но не я…“
Противно.
Некто занес сюда амулеты, сделал „инъекцию праведности“ в эту реальность. И кормимые отделились от кормящих, появились ларги и сугги. Что будет с ними дальше? Они опять сольются, и возникнет общество, в котором будут рядом жить люди и… сверхзвери? Или импульса хватит, чтобы их пути разошлись навсегда?
Понятно, что способность к речевому общению со временем подавит и вытеснит способность к внушению. Но она не отомрет совсем, а сохранится в какой-то мере у каждого. Как и способность к убийству представителя своего вида. Если так всегда и везде, то кто мы? И я?»
Рассвета не было. Не было ничего, кроме белесого марева вокруг. Что ночь прошла, можно определить по ощущениям в мочевом пузыре и пустом желудке. Вар-ка поднялся и заковылял вниз, на ходу разминая затекшие мышцы: «Это будет то же самое место, но другое время».