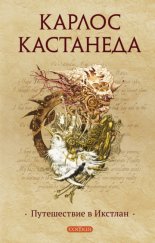Тобол. Том 1. Много званых Иванов Алексей
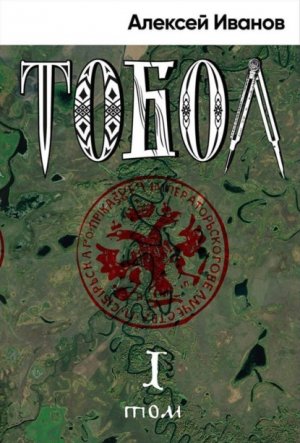
И они ушли в тайгу: Хемьюга, спотыкаясь, брёл первым, палкой пробуя путь, а в спину ему время от времени тыкал ружьём Ерофей, и затем друг за другом шагали служилые. Тайга приняла их, и Обь исчезла за рядами ёлок.
А Юрка остался на берегу с Айкони.
Юрка разжигал костёр, готовил ужин, а Айкони просто сидела в траве, сидела между огромным лесом и огромной рекой. Ей ничуть не было скучно. Она всегда ощущала в себе присутствие сестры, могла сказать, чем сейчас занята Хомани, о чём она думает, что у неё на душе. Ведь они обе, Айкони и Хомани, – один человек, так говорил отец, а человек всегда всё знает о себе. И Айкони не томило одиночество. Однако, кроме сестры, была ещё и тайга.
Люди ушли с берега, и тайга вокруг Айкони доверчиво успокоилась. Маленькие ёлочки облегчённо распушились. Поблизости от Айкони лежала поваленная сосна, и Айкони заметила, что из-под ствола этой сосны на неё смотрит любопытная лисица. Звери не способны читать мысли, с ними надо разговаривать. «Это я, Айкони», – сказала Айкони лисе одними губами. Из тайги на реку плыла тёплая, смолистая, густая тишина, но Айкони умела слышать в ней души звуков. Вот шумит завтрашний ветер; вот тоненькими-тоненькими, тоньше волоса, голосами все разом лопочут друг с другом хвоинки; вот чуть потрескивают, тихо созревая, кедровые шишки.
Тайга была наполнена тайной, невидимой жизнью, но Айкони её видела. Деревья, которые при людях притворяются спящими, открыли глаза. Трава невесомо трогала Айкони кончиками былинок, ощупывала, изучала. В сумрачно-солнечной чаще появились рогатые таёжные страшилища – они словно отслоились от узловатых стволов и бурелома; Айкони знала, что на самом деле эти страшилища были глупыми и пугливыми, как лоси, и всегда жили в тени. Прозрачные призраки будущих зверей потянулись из тайги к реке на водопой. Даже комары не досаждали Айкони – они исчезали от одного только взмаха еловой лапки перед лицом. Бескрайняя тайга обладала неизмеримой мощью, она могла уничтожить человека, будто муравья, в страхе или в гневе она могла породить демонов или чудовищ, как грозовая туча порождает молнии, но в потаённой глубине она была застенчивая, чуткая, нежная, девственная, и Айкони была допущена в эту глубину.
А солдат Юрка торопливо готовил ужин, косился на девку-остячку и всё примеривал, далеко ли ушли есаул и служилые, не вернутся ли они в самый неподходящий момент? Юрка не знал ни лесной жизни, ни крестьянской. Он был из дворни графа Шереметева и всегда жил при господском доме, усвоив все привычки холопа: хозяевам – ври; что плохо лежит – твоё; работа – для дураков. Ещё подростком Юрка наловчился воровать из кладовой у ключницы, допивать за барами из кубков и лазать в баню к девкам. Однажды сам граф Борис Петрович застал его на конюшне пьяным, велел выпороть и отдать в солдаты. Так Юрка оказался на царской верфи в Воронеже. Ненавистная служба лишила Юрку всех сладостей жизни, а смиряться он не умел и деятельно искал лазейки. Отказаться от девки было выше его сил.
Незакатное солнце зависло над дальним берегом Оби. Юрка решился. Кривовато улыбаясь от волнения, он подошёл к сидящей в траве Айкони, наклонился и ударил кулаком ей в лицо. Айкони молча упала навзничь, ошеломлённая, а Юрка схватил её за руку, рывком поднял на ноги, подтолкнул к лежащей неподалёку сосне, повернул и повалил на колени – животом на толстый ствол. Заломив девке руку, Юрка потащил вверх подол просторного остяцкого платья и едва не спятил, увидев голый девичий зад.
– Тихо, тихо, тихо, тихо… – задыхаясь, бормотал он.
Айкони было очень больно, и стыдно, и страшно, и невозможно было поверить, что всё это происходит с ней наяву, ведь чужие люди никогда не обижали и не били её. Её будто безжалостно выворачивали наизнанку против человеческого естества, разрывая тело. Чужое хищное вторжение в себя показалось ей нападением злого духа, который вселяется в человека и раздирает его изнутри. Её охватил ужас, и она заколотилась, как рыба. Но Юрка не выпускал девку, наотмашь хлестал ладонью по скуле и продолжал насиловать, пока с рычаньем, дергаясь, не лёг на неё, елозя ногами в траве.
Потом он подался назад, вскочил и трусовато отбежал, с опаской глядя на растерзанную остячку. Айкони сползла со ствола, оправляя подол. Она ощущала себя измятой, истоптанной, выпотрошенной, преданной. С ней сделали это… Словно украли бессмертие… Словно превратили в животное… И солнца над Обью больше не было. И лес молчал, замкнувшийся и пустой. И река была глухая, непрозрачная. Просто лес и река – без всего.
А далеко от Оби шаман Хемьюга в это время стоял на краю капища и смотрел на большой кедр, в ветвях которого вдруг всполошились и зашумели кедровки. Переполох кедровок – это беда. Значит, там, у русского судна на берегу Оби, всё-таки случилось то, чего Хемьюга так боялся.
Сюда, на капище, Хемьюга приходил редко. Здесь он говорил только с большими богами, которые живут на высоком небе, а лишний раз тревожить таких богов не стоило. Если затяжная стужа, или голод, или падёж оленей – тогда надо было идти сюда, а для обычной жизни, которой управляют мелкие духи, у Хемьюги имелся особый балаганчик за оленьим загоном – «тёмный дом». Там Хемьюга лечил, гадал и уговаривал духов послать удачу.
Капище находилось на поляне, которая наискосок съезжала к мелкому верховому болотцу. Поляна заросла высоким бурьяном, из травы кое-где углом торчали полуистлевшие срубы развалившихся старых лабазов. Лет десять назад Хемьюга построил три новых священных лабаза, три чамьи: они стояли на столбах, а их двускатные кровли уже покрыл мох. Над болотцем вздымался высокий двуногий идол; слева у него была одна рука, а справа – две; вместо лица у идола было прибито почерневшее и помятое серебряное блюдо, а на груди идола Хемьюга вырезал ещё одну личину. К двум соснам на опушке была привязана жердь, к которой Хемьюга стоймя привалил менквов – малых болванов. Их было семь, как и положено: старший слева, младший в серёдке, средний справа. Заострённые головы менквов были обвязаны платками и увенчаны лохматыми шапками. На краю поляны раскорячилась на ветвях огромная упавшая ель; хвоя и кора с неё давно облетели; тонким концом вершины ель уходила в подёрнутое ряской чёрное болото. Бессолнечное небо освещало капище странным неживым светом.
– Гиблое место, – негромко сказал кто-то из русских.
Служилые разбрелись по капищу, озираясь; ружья у них были заряжены, хотя бога не убить из ружья. Ерофей сразу направился к большому идолу, остановился возле него, пошлёпал истукана ладонью по резному рылу на груди, словно проверял, не укусит ли чудище, вытащил саблю и попытался клинком отколупнуть серебряное блюдо, приколоченное вместо личины. Никита и другой служилый по пояс в бурьяне прошли на край поляны к остроголовым менквам, принялись снимать с них шкуры и шапки и пихать в мешки. Терёха Мигунов обеими руками упёрся в угол сруба упавшего лабаза и раскачивал его, высвобождая из-под замшелой дырявой кровли.
– Что там было, уже гнильё, – сказал Терёхе служилый из молодых.
– Не брехай, лучше помоги, – сопя, упрямо ответил Терёха. – Они в лабазы куклу большую кладут, кукла в одёжках, платками обмотана. А в углы платков монеты завязывают. Монеты не сгниют.
Служилый тоже упёрся руками в сруб рядом с Терёхой и подналёг.
– Боязно тут, – сказал он.
– Дело делай. Мы не на погляд явились.
– Здесь беса тешат, – вполголоса сказал служилый.
Сруб заскрипел жалобно и как-то неприятно-сочно.
Полтиныч попробовал на прочность бревно с вытесанными ступенями, которое вместо лестницы вело в лабаз, стоящий на четырёх столбах. Бревно было крепким. Полтиныч осторожно полез наверх, в лабаз, и открыл дверцу, подвешенную на кожаных петлях. Пахнуло прелой вонью.
В лабазе было сумрачно. По стенам на деревянных гвоздях, воткнутых меж брёвен, висели расписные покрывала – порядок их расположения был ведом только шаману. На чурбачках лежал, будто мертвец, небольшой идол с грубой и злой мордой, одетый в шубу. Стоял большой берестяной короб, крышку которого Хемьюга намертво пришил к стенкам оленьими жилами. Ворочаясь в тесноте, Полтиныч достал нож и начал вспарывать короб.
Обшаривая богов, русские забыли про шамана. А Хемьюга вышел на середину капища, сбросил пояс и нацепил на лицо берестяную маску с прорезями для глаз и острым клювом. Он согнулся, накинув одежду себе на голову, тихо запел и стал крутиться, топчась в зарослях. Он переваливался с бока на бок, словно птица, и мёл распущенными рукавами по траве. И вслед за верчением шамана вокруг капища побежал ветер, зашевелил бурьян на поляне и папоротники в лесу, зашумел мелкими ёлочками. Служилый, что лез в другой лабаз, сверху увидел Хемьюгу и тотчас сорвался с бревна.
– Блядий сын! – падая, заорал он.
Терёха Мигунов оглянулся на вопль и тоже увидел шамана, крутящегося на месте, как подраненный ворон.
– Ах ты погань болотная!.. – ощерился он.
– Господи боже, помоги рабу своему! – побледнел молодой служилый.
Всё уже было неладно. Края поляны и глубину леса затягивала какая-то слепота. В непонятном тоскливом мороке деревья в чаще, кажется, медленно шевелились, колыхались – то ли сами оживали, то ли их трясли: похоже было, что из бездны тайги что-то огромное и невидимое приближалось к капищу, по пути натыкаясь на ели и кедры. Ряска на болотине задрожала, из чёрной воды тихо всплывали какие-то облепленные травой бугры.
В тесном лабазе Полтиныча внезапно повалило на пол, будто избушка наклонилась набок, подобно лодке. Полтиныч выронил нож и, ругаясь, бешено заворочался, цепляясь за короб и за идола, срывая со стен покрывала. Его катало по каморке в ворохе шкур и тряпья, и он пытался удержаться враспор. В проёме входа он видел, как мимо проплывают деревья, точно по берегу реки. Мелькнуло серое мерцающее небо, а в нём будто бы парила огромная птица, вся из дыр. Мелькнула мёртвая поваленная ель на краю капища – это был костяк огромной рыбины: ствол – хребет, ветви – рёбра и плавники, корневище – череп с глазницами и раззявленной пастью, а хвост шевелится в болоте. На капище слышались вопли служилых.
– Стреляй по шаману! – заорал Полтиныч.
Снаружи грохнул выстрел. И свистопляска сразу унялась.
Хемьюга лежал в вытоптанном бурьяне, ворочался и стонал. Русские ошалело поднимались с земли. Молодого служилого тошнило, как после качки в бурю на реке. В дрожащих руках у Ерофея дымилось ружьё. Полтиныч спрыгнул из лабаза, и его пошатнуло. Тайга взволнованно шумела.
– Вот ведь дьявол остяцкий! – потрясённо сказал Терёха.
– Уходить надо отсюда, – Полтиныч длинно сплюнул кровью от прикушенного языка. – Сгубят нас кикиморы, точно.
Ерофей подошёл к шаману и присел на корточки.
– Может выжить, – осматривая Хемьюгу, сказал он.
– Добей его! – с отчаянной ненавистью крикнул молодой служилый.
– Бросим его тут, пущай его бесы лечат.
– Полтиныч, надо его унести, – Ерофей убеждённо поглядел на есаула.
– Почему?
– Мы ещё не волки.
Однако все служилые чувствовали другое: добить шамана никто бы не решился, а разграбленное капище не смирилось; оно было как живой зверь, которого просто прижали к земле рогатиной. Надо забрать шамана, чтобы не пустил своих демонов по следу русских.
Они шли обратно как можно быстрее. Таёжная тропа была уже знакома. Хемьюгу тащили в шкуре, подвешенной к длинной жердине, а жердину несли все по очереди. Но мешки с добычей тоже никто не бросил.
К дощанику на берегу Оби служилые выбрались на восходе солнца. Дальний низкий берег прочертился алой линией между двумя объёмами синевы. Восход был как избавление от гнева оскорблённой тайги, и никто из служилых не пожелал заметить, что девчонка-остячка избита и растерзана. Хватит грехов, и так сатана уже в подол зубами вцепился. Юрка бегал, помогая, и заискивающе заглядывал в лица служилых. Полтиныч ему ничего не сказал. Хемьюгу вывалили в траву, и старик застонал.
– На судно, и угребаем, – устало сказал Полтиныч. – На воде отоспимся.
– А этот? – Ерофей указал на шамана.
– Сам к своим уползёт. До Певлора три версты.
– А ежели не уползёт?
– Чего ты хочешь, Колоброд? – обозлился Полтиныч. – Я его к остякам не попру! На шиша он камлать начал? Сам виноват!
– Я стрелял, я и попру, – мрачно согласился Ерофей. – А вы меня обождите здесь, добро?
Он очень устал, глаза вело вкось с недосыпа, но нельзя было упускать удачу. Пока что ему очень везло. В Певлоре тайком от Полтиныча он сунул за пазуху отличного соболя, а на капище отколупал от истукана серебряное блюдо. Надо было успеть ещё что-нибудь урвать, пока ангел помогает.
Ерофей, отдыхая, посидел на берегу и перекусил, размочив в воде юколу. Служилые повалились спать, а Ерофей залез в дощаник и вытащил большую лосиную кожу, крепкую и грубую, как кора, – её просмолили, чтобы закрывать груз от дождя. Ерофей положил раненого старика на кожу и волоком потянул в Певлор.
Он шёл по берегу Оби и щурился, когда искра от волны попадала в глаза. Старик вроде ничего и не весил – кожа легко скользила по траве. Пели птицы. Ерофей пинками отбрасывал с пути коряги. Он размышлял: чего можно было бы потребовать с остяков, уже дважды ограбленных, за то, что доставил их шамана? Остяки дадут, они же не знают, что этот спаситель сам и подстрелил спасённого; главное – придумать, что просить. И вскоре вдали показались прозрачные дымы остяцкого селения.
Жители Певлора увидели Ерофея и высыпали навстречу. Ерофей сразу бросил шкуру со стариком, не прекращая движения к Певлору. Он уже еле переставлял ноги. Остяки бежали – но мимо Ерофея, не обращая на него внимания. Они спешили к шаману, и Ерофей услышал за спиной горестные вопли и бабий плач.
В селении было пусто, если не считать безмолвных стариков, похожих на идолов. Они сидели у землянок и чумов и смотрели на Обь. Ерофей прошёл к костру; сбоку на углях стояла глубокая сковорода с варевом, из которого торчали рыбьи хвосты. Ерофей медленно опустился на землю, достал из-за голенища ложку и сразу по-хозяйски принялся хлебать из сковороды. Это была щерба – уха. Ерофей слышал взволнованные голоса остяков возле брошенного им шамана.
А потом у костра появился Пантила – молодой певлорский князёк. Он молча присел напротив Ерофея.
– С тебя плата, что я шамана принёс, – сказал Ерофей, облизывая ложку.
– Хемьюга мёртвый.
– Как? – поразился Ерофей. – Совсем недавно стонал!
– Мёртвый, – задумчиво повторил Пантила.
Это был удар судьбы. Все усилия оказались напрасны. Ерофей в досаде сунул ложку обратно за голенище. Да провались всё! Оборвалась удача!
– Похорони его, – вдруг тихо попросил Пантила.
– Может, мне ещё жениться на нём? – разозлился Ерофей.
– Хемьюга был сильный шаман, люди его любили, – печально произнёс Пантила. – Но вы убили его, и теперь он злой дух. Он запомнит того, кто уберёт его с земли. Люди боятся. Похорони его сам. Тебе всё равно.
Ерофей поглядел в ту сторону, где оставил лосиную кожу. Остяки по-прежнему толпились вокруг тела шамана и галдели, обсуждая и горюя, некоторые стояли на коленях, но никто, похоже, не прикасался к покойнику. Надежда вновь взбодрила Ерофея.
– Заплатишь – закопаю, – ухмыльнулся он.
– Что тебе дать? У нас всё взяли.
– Ты князь, тебе видней.
– У Хемьюги были пески за островом Нахчи. Возьми их себе на лето.
– Пески? – не поверил Ерофей. – На будущее лето?
Песками на Оби называли рыболовецкие угодья. Получить угодье – это не соболиный хвост и не серебряная тарелка, это настоящая удача!
– Делай дырку! – решительно сказал Ерофей.
Он достал свой нож и протянул остяку. Ни писать, ни читать Ерофей и Пантила не умели, и потому Ерофей потребовал клятвы по-таёжному – на дырке. Это когда в знак обещания остяк вырезает на своей рубахе небольшой лоскут и отдаёт тому, кому что-то пообещал. Лоскут, равный дырке, для воеводского переписчика подтверждает правдивость уговора. Не выбросит же остяк рубаху из-за маленькой прорехи.
Пантила вздохнул и взял нож Ерофея.
Вечером, когда солнце опять коснулось дальнего берега Оби, на лесной поляне в двух верстах от Певлора берёзовский служилый человек Ерофей Быков копал могилу. Он орудовал мотыгой с железным клювом; мотыгу ему дал князь Пантила. Рядом на лосиной коже лежал мёртвый шаман Хемьюга; как просили остяки, Ерофей связал шаману руки и ноги и обмотал голову шкурой. По кедрам, что вздымались над поляной, искрами шныряли белки. Однако яма у Ерофея получилась не слишком глубокая – в аршин: мотыга упёрлась в вечную мерзлоту. Ерофей и долбил, и скрёб, но ледяная земля звенела и не поддавалась. Ерофей воровато посмотрел по сторонам. Свидетелей нет. Ерофей вылез из могилы, без всякого почтения, как мешок, спихнул в неё мертвеца, и принялся быстро забрасывать яму. Сойдёт и так.
Глава 6
Тюменский схимник
Плотбище в деревне Меркушино растянулось вдоль Туры на целую версту. Берег загромождали причалы и вымостки, купеческие амбары и балаганы бурлаков, груды тёсаных брусьев и ворохи досок возле рам пильных мельниц, кучи сучьев и обрези. Зияли сквозной худобой длинные и высокие костяки будущих судов, ещё не обшитые по рёбрам бортовинами. Со склонов к воде тянулись лежачие спуски-лыжины из брёвен, по которым суда сталкивали на воду. Дымили грузные печи с вмазанными в зев котлами для дёгтя или смолы; от дождей печи были укрыты навесами на столбах. Из реки торчали осклизлые сваи; могучие лиственничные ряжи, засыпанные битым камнем, прикрывали речную гавань от ледоходов; в мутной воде плавала разбухшая щепа, а на дне лежали утонувшие брёвна.
Меркушино было начальной казённой верфью Сибири. Наловчившись за сто с лишним лет, потомственные меркушинские корабельщики строили уёмистые грузовые ладьи, плоские полубарки для провоза сена и лошадей, ладные остроносые дощаники с высокими мачтами и поднятыми кормами, шитики, состёганные ивовыми вицами, лёгкие на ходу расшивы и насады. Великие реки издавна были основными дорогами через непроходимую таёжную Сибирь. Огромные потоки начинались неведомо где, в ущельях китайских хребтов, а заканчивались среди вечных льдов полуночного океана. И плотбище в Меркушине готовило корабли для всех, кого государев указ гнал на просторы степей, тайги или тундры. Ещё во времена Годунова первые русские воеводы на меркушинских стругах добрались до Иртыша и Оби и поставили остроги, из которых потом выросли Тобольск, Тара, Сургут, Нарым, Берёзов и Обдорск. Меркушинские плотники строили даже морские суда: это они сколотили круглобрюхие кочи, которые вышли в Обскую губу, чьи мрачные и бурные волны остывали в дыхании студёных ветров. Московские стрельцы сошли с кочей, согнали с зимовий новгородских ушкуйников и воздвигли сказочную Мангазею.
Для обоза губернатора Гагарина с меркушинских плотбищ против течения Туры бечевой подтянули к Верхотурью два десятка дощаников. На суда погрузили поклажу, завели лошадей и закатили карету. Судно самого губернатора изнутри было оббито красной материей, а на парусе топырил крылья двуглавый орёл. Под ружейную пальбу флотилия отчалила от пристани. Матвей Петрович поклонился народу на берегах, перекрестился на ближайшую колокольню и с удовольствием принял из рук лакея Капитона объёмистый кубок с вином. Все тяготы гужевого пути оставались позади. Спутники губернатора на своих судах тоже откупоривали фляги.
Только на реке Матвей Петрович ощутил, что он снова в Сибири, – услышал гулкую, грозную и неспокойную тишину тайги. Молчаливая Тура неспешно изгибалась между плоских боровых холмов; ровное и гладкое течение не нарушало отражений. Лес переходил в воду без видимой границы, сотканный с рекой стволами деревьев, упавших вершинами в зеркала.
От Верхотурья до Туринска плыли неделю. В Туринске комендант приказал стрелять из пушек и не пожалел своего ковра, расстелив его на сходнях. Купцы ломились в приказную избу целовать ручку губернатору, крестьяне тащили челобитные – секретарь Дитмер складывал бумаги в дорожный сундук. Потом за два дня добрались до Туринской слободы, где бурмистр приказал бить в колокола, и ещё за три дня – до Тюмени.
Тюмень началась с Преображенского монастыря, потом на взгорье правого берега появились посады и новый бревенчатый кремль с шатрами башен. Над крышами изб радостно возвышался Благовещенский собор – весь в узорах, с пятью полосатыми главами и с черепичными кровлями в косую клетку. Когда Матвей Петрович покидал Сибирь, этого храма ещё не было. Гудели колоколенки; встревоженная птичья стая с граем вилась над рощей, что выросла на пустыре заброшенного Кучумова городища. Дощаник губернатора окружили лодчонки жителей, мужики приветственно орали и махали шапками. На гульбище деревянного минарета Бухарской слободы, расположенной по левому берегу Туры, вылезли имам и оба муэдзина.
Тюмень была очень важным для Сибири городом, и Матвей Петрович задержался здесь на несколько дней. Комендант Данила Копьёв поселил губернатора в лучших покоях Гостиного двора, стоящего на погребах. Князь Гагарин лично пролистал казённые книги в ратуше и на таможне, посмотрел запасы в новых каменных амбарах и поговорил с колодниками в тюрьме. Но главное дело у Матвея Петровича было в Преображенском монастыре.
Государь Пётр Алексеевич вручил князю Гагарину письмо для бывшего сибирского митрополита Филофея, который сейчас жил в обители как суровый схимонах Феодор. У государя имелось дело до Филофея.
В несуетной и добродушной Тюмени было уютно, как у бабушки на заднем дворе. Матвей Петрович пошёл в монастырь в простой одежде, без солдат, без Капитона и Дитмера. Накрапывал тёплый дождик. Гагарин шагал через Ямскую слободу по блестящим дощатым мосткам, кивал тем, кто ему кланялся, разглядывал на избах резьбу наличников, дымников и причелин. Подвернувшуюся на дороге козу он с удовольствием хлестнул хворостиной. Под скрипучим мостиком на речке Бабарынке плавали гуси. В бревенчатой проездной башенке монастыря князя уже встречали игумен и келарь.
– Владыка ждёт? – спросил князь.
– Не ждёт, – ответил игумен.
– Он у нас никого не ждёт, – с простодушной гордостью пояснил келарь.
– Пойдём, Матвей Петрович, подведу тебя.
Монастырь внутри оказался небольшим. Скромные бревенчатые палаты с кельями, службы, конюшня, старая шатровая церковь, цветущий огород, маленькое кладбище с крестами. Но посреди подворья вздымался огромный кирпичный куб недостроенного храма. Поверху на его стенах ходили монахи в перемазанных рясах, таскали носилки и сами укладывали кирпичи.
– Владыка Троицкий собор затеял, – пояснил игумен. – Всех нас расшевелил. Своим коштом сами возводим, никто и гроша не дал.
– Я дам, – сказал Гагарин. – Как владыка-то?
– Ожил с божьей помощью, а то ведь совсем причащать готовились. Школу при обители завёл. Сейчас с отроками пиесу разучивает, хочет на Преображенье народу показать.
– У него духовный тэатэр, – важно добавил келарь. – Зрелища разные богоугодные с поученьями. Хохляцкая придумка.
– Дождик вишь, Матвей Петрович, они все в подклет умотались.
Игумен открыл перед князем дверку в подвал будущего собора.
В подвале было довольно светло от небольших окошек. Покатые арки свода рябили свежим, ярким кирпичом. Вдоль стен стояли бадьи и грязные мешки с известью, лежали связки досок. На расчищенном закутке с ноги на ногу переминались несколько мальчишек лет по двенадцать – четырнадцать. Напротив них на лавке сидел владыка Филофей – тощий сутулый старик с длинными седыми волосами. Филофей оглянулся. Лицо у него было строгое и простое, словно с него стёрли всё лишнее.
– День добрый, князь, – сказал он, не вставая. – Обождёшь?
– Не ты меня, владыка, так я тебя, – хмыкнул Матвей Петрович, оглядываясь, на что присесть.
– Давай, Стёпка, слушаю, – Филофей повернулся к мальчикам.
Матвей Петрович смахнул пыль с бочки и уселся. Ему было интересно, какую такую забаву устроил владыка. Матвей Петрович слышал про духовные театры в Малороссии, но это вон как далеко от Сибири, да и жизнь там совсем другая… И владыка тоже понравился князю своей несуетностью. Впрочем, владыку любил царь – значит, и ему, князю, тоже надо любить.
Мальчишка, стоящий перед Филофеем, набрал в грудь воздуха, вытаращил глаза и завопил вирши:
Отец-мучитель сына угнетает,
вольно жить ему не дозволяет!
Ныне, слава богу, от уз освободился,
когда в чужую страну отмолился!
Филофей с сочувствием кашлянул в кулак.
– Подумай, Стёпка, о чём сии стихи? – рассудительно спросил он. – Юноша убегает из дома в гневе на отца. В гневе, Степан! А как в гневе человек ведёт себя? – Филофей испытующе поглядел на несчастного артиста. – Он же не орёт, как зазывала на базаре. Голос у него острый и прерывистый, руками он машет быстро и обильно, брови насуплены, телеса напряжены. Вот так и положено изображать гнев, понял?
– А что за представление? – тихо спросил Гагарин у игумена.
– Притча о блудном сыне. Владыка сам сложил. Блудный сын – это которого к немцам учиться послали, а он там только пьёт и паскудит, собака.
– Петька, давай, – тем временем приказал Филофей.
Вместо Стёпки перед владыкой появился Петька. Он двигался боком, мелкими шажками, и, прижимая к груди икону с изображением Христа, тоненько закричал:
Пойди к отцу, до ног поклонися,
глаголя сие, пред ним умалися:
«Отче, согрешил я на небе пред тебе,
прими меня, грешнаго, обратно к себе!»
– А ты, Петька, сейчас не Петька, а глас божий, – принялся поучать Филофей. – Ты за самого Иисуса Христа говоришь, а Христос за нас всех печалится. Как печаль выглядит? Голос тихий и слабый, руки медленные, голова склонённая, слёзы бегут. Вот такая печаль, а не постная морда.
– Где владыка таких премудростей нахватался? – тихо спросил Гагарин.
– В Киеве, в Лавре, – прошептал келарь, умилённо глядевший на Филофея и мальчишек. – Он же там экономом был.
Перед Филофеем уже выступал третий мальчишка. Оскалясь, он зарычал:
За мзды воздаяние ручку те целую,
питии и ести с тобою взыскую!
Ха-ха-ха, мы добрые люди,
а ты нам денег дать не забуди!
– Ты, Ванюша, изображаешь гадкого мужика, – терпеливо пояснял Филофей. – Он деньги блудного сына проедает и пропивает и злорадуется этому. Злорадование – оно, к сокрушению нашему, как честная радость выглядит. Голос звонкий, руки во все стороны летают, тело лёгкое, что ни скажет – всё смеётся. Вот так изображай.
– Эх, заворачивает! – всерьёз удивился Гагарин.
Матвей Петрович сразу увидел в Филофее не только образованность книжника и красноречие иерарха, но и природный ум опытного человека, сполна умудрённого и горестями, и разочарованиями.
Так оно и случилось у митрополита Филофея. Однако же начиналось у него в Сибири всё прекрасно. Сибирь два года маялась без архиерея, пока киевский митрополит по приказу государя искал для тобольской кафедры мужа учёного, деловитого и крепкого телом. Его выбор пал на Филофея – архимандрита Свенского монастыря в Брянске и эконома Киево-Печерской лавры. Пётр вызвал указанного монаха во дворец в село Преображенское и поговорил с ним – как всегда, быстро и с напором, будто на врага нападал. И отец Филофей царю понравился. Даже не просто понравился, а внушил уважение, укрепил надежду. Потом Пётр явился в Успенский собор и придирчиво наблюдал, как над гробами московских святителей Филофея посвящают в митрополиты Тобольские и Сибирские. Это было в 1702 году.
В Тобольск с собой Филофей повёз учёных киевских монахов, верных товарищей – архимандритов Мартиниана и Варлаама, книги, иконы и деньги. Филофею тогда уже перевалило за полвека, но, воодушевлённый, как юноша, он был преисполнен рвения. А в Сибири застал полное нестроение. Всё вкривь и вкось. Кругом язычники, раскольники и махометане. Храмов мало, нищие попы крестьянствуют и торгуют, службы ведут во хмелю и абы как – уже ни шиша не помнят ни чинов, ни канонов. Обители полупустые, монахи побираются по слободам, а самые неистовые заводят на посадах баб.
Филофей кинулся в труды с уверенностью, что всё ему по силам, и здесь, в Сибири, только его и не хватало. И почти сразу поссорился с воеводой князем Черкасским. Князь недавно открыл школу: вытащил из томской ссылки распопа Григорья Дровнина с премудрым братом Васильем и поставил в Тобольске учить детишек грамматике, арифметике и геометрии. Латынью воевода велел отроков не утруждать – всё равно в Сибири на латыни говорить не с кем. А брательники Дровнины оказались в Томске не за краденые пироги: злокозненный Васька в былые времена в Москве колдовал, пытался навести порчу на царей Петра и Иоанна и обещал выдать замуж «медвежью бабу» – мужиковатую царевну Софью. Жениху царевны Пётр отрубил башку, а брательников-еретиков сослали навечно. И таким учителям в православной школе было не место. На Софийском дворе в Тобольске Филофей основал собственную школу, забрал себе школу воеводы и прогнал взашей сатанаилов Дровниных. Князь Михаил Яковлевич обиделся.
Владыка требовал от воеводы ловить и сжигать раскольников – воевода уклонялся. Владыка требовал от воеводы сломать в Тобольске мечеть возле Гостиного двора – воевода приказал бухарцу Касыму перенести вертеп в Бухарскую слободу. Владыка требовал от воеводы снарядить гишпедицию на Обь, чтобы крестить инородцев, – воевода дал дырявую посудину с драным парусом, и берёзовские остяки только посмеялись над попами-нищебродами.
Заслужить уважение тоболяков у Филофея тоже не вышло. Филофей завёл на Софийском дворе духовный театр, сам написал пьесу, школяры разучили слова. Однако на первом же представлении вдруг рванул ветер и с треском сломил крест на храме святой Софии. Дурное предзнаменование.
От сомнений горожан и притеснений воеводы Филофей перебрался из Тобольска в Тюмень, с Софийского двора – в Преображенский монастырь.
Филофей жаждал призвать к правилу свой недостойный клир и написал свод уставных статей о том, как следует жить и служить попам и монахам. Брагу пить нельзя, в грязной рясе ходить нельзя, нельзя болтать о том, что услышал на исповеди. Статьи владыка огласил на всесибирском церковном соборе. Этот собор он провёл в Енисейске – не погнушался дальней дорогой. Филофей хотел, чтобы такие соборы стали в Сибири ежегодными, но тут уже сам государь наложил на съезды запрет: ретивый тобольский митрополит покусился на то, что дозволено было только Монастырскому приказу.
Не удалось и миссионерство. Архимандрита Мартиниана Филофей послал на Камчатку, однако за годы трудов Мартиниан сумел построить лишь жалкую часовню без престола. Архимандрита Варлаама Филофей сделал иркутским викарием, но малодушный Варлаам вскоре тихо сбежал из Иркутска: прошмыгнул мимо Тобольска и спрятался в Москве, на укоры отвечал слезами и отказывался возвращаться в страшную Сибирь. Миссия в Монголию к ламе Джебузяну тоже вернулась ни с чем.
Филофей надорвал душу в попытках что-то изменить. Неподъёмная и неповоротливая Сибирь оказалась глуха к его дерзаниям. Здесь вечно будут шуметь ярые кедрачи, а люди вечно будут жить по законам тайги, постепенно превращаясь в деревья. Филофей простыл, заболел и уже никак не мог оправиться. Сгорая, он написал прошение о сложении сана. Такого в России не бывало, из митрополитов уходили только в мир иной. Но граф Мусин-Пушкин, глава Монастырского приказа, всё же согласился отпустить владыку. Филофей понял: он умирает. Он принял великую схиму и последнее земное имя – Феодор. Он удалился в затвор – в убогую келью размером не больше бани. Эту келью ему соорудили в углу монастырского двора.
Да, он умирал. Он лежал в келье на досках топчана совсем один и в жару простуды ждал конца. И вдруг понял, что нестерпимо жалеет уходить из этого мира. Ну и пусть он проиграл. Ну и пусть ничего не получилось. По телу катились волны огня, ломило плечи, спину и колени, он бредил, в уме извивались и плавились какие-то страстные речи, его кувыркало, он куда-то летел, он рассыпался по миру горохом, расползался тестом под чьими-то властными ладонями, терял себя, обретал себя, пил хмельное вино, блуждал в огромных и дремучих видениях, стучал в барабан, хохотал и плакал, проталкивался в толпе, метался, обнимал жену, которая давным-давно умерла, горел в печи, целовал у Богородицы её тёплые руки и противился, противился смерти, как столько лет противился жизни.
Он сопротивлялся обыденной греховной жизни, боролся с ней, ломал об колено, но ведь жизнь во всей её смуте и есть Благая Весть. Только земная жизнь, вверенная душе, даёт обещание грядущей вечной жизни. Не чин и не власть, не подвиги и не победы, а эта неустроенная и неправильная жизнь. А он не принимал её. Не слышал гласа Гавриила. И сейчас не хотел умирать, будто был простым тёмным смердом, который в смерти видит конец всему. Боже, пусть снова захлопают над кровлей его кельи крыла Гавриила…
Он очнулся рано утром – по-прежнему один, в насквозь мокрой одежде, измученный, опустошённый, но живой. Бог оставил его на земле.
И вот сейчас, два года спустя, он сидел на том же лежаке и читал письмо царя Петра Алексеевича. Государь кланялся и просил, чтобы он, схимонах Феодор, занялся крещением инородцев. Инородцев в губернии – десятки тысяч. Нужен креститель. Но крещение – это бездна хлопот, это надо плыть по рекам за сотни вёрст. По силам ли такое старику? Впрочем, он может отказаться, схимнику царь – только царь небесный. Но ведь эта просьба Петра Алексеевича – та самая жизнь, которую ему подарили дважды…
Матвею Петровичу в убогой келье Филофея негде было и присесть, поэтому мальчик-послушник принёс ему из покоев игумена стул. Матвей Петрович смотрел на задумавшегося Филофея.
– Знаешь, чего государь от меня хочет? – спросил Филофей.
– Знаю, – кивнул Матвей Петрович. – Он мне на словах сказал.
Государь-то сказал, но Матвей Петрович всё равно осторожно вскрыл письмо и прочитал, а потом запечатал обратно, как было. Не мог же он не выяснить, о чём царь пишет в его губернию.
– Мне шисят один год, – сказал Филофей. – Какой из меня креститель?
– Ты начни, и дело пойдёт. А я тебе всю помощь окажу: денег дам, подарки, охрану, дощаники.
– Помру ведь я где-нибудь в дороге, – виновато вздохнул Филофей.
– Все где-нибудь в дороге помрём.
Матвей Петрович смотрел на колебания старика с любопытством. Было в них честное человеческое сомнение, а не раболепие, как обычно при дворе. Все знали гневное нетерпение государя в делах и ревнивую мстительность; если кто и отказывал царю, то на коленях, и ноги целовал, моля о пощаде.
А Филофей помнил, как неохотно соглашался на крещение инородцев воевода Черкасский. Для воеводы крещение – лишний пустой расход.
– Тебе-то сие зачем, Матвей Петрович? – Филофей посмотрел князю в глаза. – Тебе-то какая выгода на инородцев тратиться?
– Никакой, – охотно согласился Матвей Петрович. – Одни убытки. Но ведь до`лжно так – крестить нехристей.
В необходимости крещения Матвей Петрович был уверен, иначе в управлении не будет порядка. Он по опыту знал, как негодуют русские люди, когда диким инородцам дозволяется больше, чем своим мужикам. Почему у инородцев тягло полегче? Почему их в рекруты не берут? Почему воевода не судит их, как своих? В Сибири крещение уравнивало инородцев с русскими поселенцами. Поначалу оно и вправду было в убыток, но потом – в прибыль.
– На твоём воеводском месте твоя забота – не крестить, а воровать, – проницательно заметил Филофей.
– А твоя поповская забота – блудить, – тотчас ответил Гагарин.
– Так я старый, – засмеялся Филофей.
– А я богатый, – тоже засмеялся Матвей Петрович.
Оба они поняли, что нравятся друг другу.
– Ладно, Матвей Петрович, я подумаю, – тяжело вздохнул Филофей. – У бога совета спрошу. У меня в Тюмени дел – на полжизни, – он покачал головой, думая о монастыре, который уже врос в сердце. – Но привязанность к дому губит великие дела.
Глава 7
Карета азиата
Слава богу, ветер был попутный. «Хороший знак», – думал Матвей Петрович. Вот она, Сибирь. Настоящая. Главная награда в государстве. Конечно, тот же Алексашка Меншиков берёт больше и гремит громче, но он висит и пляшет на волоске царской милости. А Сибирь лежит себе тихо-мирно, есть-пить не просит, но бегут отсюда, бегут золотые ручьи.
Устье Тобола раскрывалось на Иртыш, как ворота, и густой, тесный запах хвои раздвинула свежесть речного простора. Иртыш зернисто сверкал под солнцем, и князь увидел вдали, на противоположном берегу, Тобольск.
Иртыш здесь изгибался огромной неспешной излучиной, и горло её было перехвачено ровной грядой Алафейских гор – могучей ступенью с плоского низкого дна пойменной долины на общую ровную высоту земли. Эту длинную стену татары называли «Алафага» – Корона. Вон справа – остроугольный Чувашский мыс, вернее, Почеваш, – верхний по течению Иртыша конец Алафейской гряды. Под ним зеленеет Княжий луг, на котором дружина Ермака билась с войском хана Кучума. А слева – Троицкий мыс, нижний по течению Иртыша, и он сверху и снизу занят Тобольском.
Матвей Петрович не раз бывал в Тобольске и знал, что изнутри, с улиц, город кажется очень большим. А отсюда, с Иртыша, было видно, какой он маленький. Дробная россыпь деревянных крыш под кручей мыса, проколотая шильями шатровых колоколен, а на мысу, рассечённом щелью Прямского взвоза, – Воеводский двор и Софийский двор. Гляди-ка, Софийский двор теперь стал каменным! Ну ведь и вправду кремль!.. Пояс кирпичных стен с зубчиками и толстые башни, круглые и квадратные, и за ними – туша Софийского собора, увенчанная пятиглавием, собранным в крепкое соцветие. Верхний город казался стоящим на спине сказочного кита.
– Это и есть город Тобольск, ваше сиятельство? – спросил Ефим Дитмер. – Столица Сибири?
– Тобольск, – кивнул Матвей Петрович. – Столица.
Матвей Петрович сидел посреди дощаника в резном ковровом кресле. Дитмер стоял рядом и рассматривал город в медную подзорную трубу. Над головами Гагарина и Дитмера ветер раздувал белый холщовый парус с двуглавым орлом, орёл словно встряхивал распростёртыми крыльями.
Губернаторская флотилия медленно пересекала Иртыш. Суда волочили за собой по волнам цветные ленты, паруса хлопали на порывах ветра, гребцы налегали на вёсла. Офицеры и чиновники вглядывались в приближающийся город. Полубарок с роскошной каретой князя тянула лодка-набойница, нанятая в попутной слободе. Вокруг флотилии сновали крестьянские насады и шитики, татарские каюки и лёгкие обласы инородцев, очертаниями схожие с луками, – судно губернатора сопровождали зеваки из окрестных деревень. На середине Иртыша они вдруг спохватились, бросили флотилию и шустро понеслись к берегу, чтобы смотреть на прибытие губернатора вместе с толпой. Каждому не терпелось поделиться своими впечатлениями о новом хозяине Сибири: какой у него парик с кудрями, какая шляпа, какой камзол.
Берег Иртыша в Тобольске был как попало загромождён строениями пристаней и привычно завален хламом. Длинные дощатые причалы на сваях, перекосившиеся бревенчатые ряжи, амбары на столбах – на время половодья, плотбища с недоделанными барками, груды брёвен, старые ветхие струги с дырами в днищах, раздавленные бочки, сломанные тележные колёса, лодки, затоптанные вымостки, лужи грязи. На воде у берега теснились, вздёрнув тонкие мачты, зачаленные дощаники, тихо колыхались тяжёлые плоты, мелкие волны толкались в борта затонувших и брошенных судов.
В городе звонили колокола, а на берегу гомонила толпа. Тоболяки, щурясь, смотрели на белые паруса губернаторской флотилии, посмеивались, лузгали кедровые орешки и ожидали зрелища. Под ногами у людей шныряли собаки. Распихивая народ, с лотками на груди сновали и весело покрикивали продавцы пирожков. Какой-то пьяный мужик, мыча, порывался плясать. Под шумок парень прижимался к девке и тискал ей зад. Вор осторожно срезал кошелёк с пояса посадского ротозея. Мальчишки за амбаром сражались на палках и вопили друг на друга. Лошади равнодушно щипали бурьян.
Два монаха бок о бок сидели на перевёрнутой лодке.
– Слух бежит, что Гагарин княже щедрый, – негромко говорил один. – В Верхотурье вклад дал в Никольский монастырь – на образ ризу в полпуда серебра. Авось и нам перепадёт.
– Хоть бы игумен попросил крышу на кельях перекрыть, – вздохнул второй монах. – Ещё одна хвороба – и меня на погост снесут.
На самом чистом месте берега, где грязь наскоро перекрыли свежим дощатым настилом, переминались дьяки, подьячие и писари Приказной палаты. Среди них стояли обер-комендант Карп Изотович Бибиков и два полковника – Васька Чередов и Афанасий Матигоров. Бибиков, робкий душою, страшно волновался, вытирал лоб большим цветастым платком, то снимал, то надевал шляпу, махал на себя ладонями, обдувая.
– На котором корабле-то губернатор? – тревожно спрашивал он.
– Да вон на том, где орёл, – снисходительно пояснил полковник Васька Чередов. – Как на свадьбу едет, жених. С лентами. А мы ему приданое.
Чередов командовал тобольским полком служилых людей, то есть был главным военачальником Сибири. А Матигоров командовал беломестными казаками, которые жили по острогам, и поэтому был воеводой без войска.
– Силён царский орёл, – добавил Чередов. – Такого борова нам принёс.
– Молчи, Васька! – перепугался Бибиков. – Афоня молчит, и ты молчи!
Рядом с приказными стояли три небольших чугунных пушки на колёсах. Усатые канониры с длинными запальниками в руках со скуки курили общую трубку, по очереди передавая её друг другу. Дымилось ведро с углями.
– Когда стрелять, господин комендант? – спросил один канонир.
– Да скажу, скажу! – страдальчески сморщился Бибиков. – За какие же грехи мне испытанье такое? Господи, помилуй!
Неподалёку от дьяков и пушек губернатора ожидали пленные шведы – почти все рослые, белобрысые, в потрёпанных париках, посыпанных мукой, и в непривычных русскому глазу камзолах. Один из шведов – краснолицый и такой белёсый, что казался безбровым, – держал перед собой большую икону, закрытую вышитым покрывалом из тонкой ткани. Шведы вырядились как на парад, нацепили шпаги и петушиные перья на треуголки.
– Почто им перья, батя? – спрашивал отца какой-то русский парняга.
– Дурь заморская, – уверенно пояснял батя. – Они своему королю дорогу шапками подметают. Не метлу же на шапку присобачивать.
Главным у шведов был ольдерман капитан Курт Фридрих фон Врех – маленький и пузатый, в большой треуголке с кантом и в парике с косичкой. С важностью в лице и жестах он приподнял покрывало на иконе.
– Очень тяжёлая, господин фон Врех, – пожаловался краснолицый швед.
Икона была вырезана из мамонтовой кости. Святой Матфей-евангелист, склонившись, писал пером в раскрытой книге.
– Потерпите, Георг, – вежливо попросил фон Врех.
– Вы хороший художник, ротмистр Малин, – похвалил капитан Табберт. Он тоже явился встречать губернатора.
– Я лишь копиист и резчик по кости, – возразил краснолицый швед. – Изображение я срисовал с русской деревянной иконы.
– Весьма остроумный подарок губернатору, Курт, – Табберт улыбнулся фон Вреху. – Как известно, святой Матфей был мытарем. Деятельность, весьма родственная задачам русского губернаторства.
– Я имел в виду небесное покровительство по имени, мой милый Табберт, – с достоинством, но ласково ответил фон Врех. – Однако ваше умение искать связи и видеть символы меня неизменно восхищает.
Штык-юнкер Юхан Ренат осторожно подошёл к русским артиллеристам.
– Ядро шесть фунт? – по-русски спросил он, рассматривая пушку.
– Холостыми палим, – ответил пожилой артиллерист. – Праздник же.