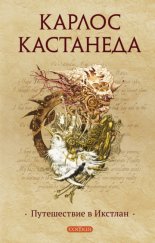Тобол. Том 1. Много званых Иванов Алексей
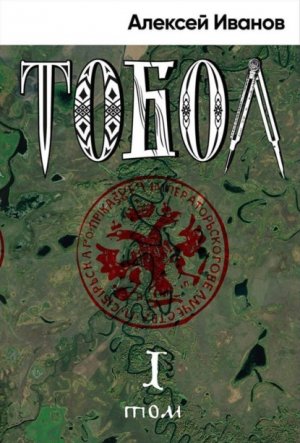
Карп Изотыч Бибиков, обер-комендант Тобольска, знал о пушнине, мягкой рухляди, куда больше воеводы из далёкого Берёзова. Этой зимой на ярмарке туруханская недокунь пойдёт всего-то за четыре собольих пупка, а цену на бобров уронят промышленные с Тунгуски, они какую-то бобровую реку нашли. Но слухи об этом наверняка ещё не добрались до низовий Оби, и Агапоша Толбузин не понимает, что принимает ставку себе в убыток.
– Зернить будем на три кона, Карпушка.
– Идёт, Агапоша. Тряси.
Толбузин ещё потряс стаканчик и опрокинул над столом. Воеводы склонились, разглядывая крупные сливовые косточки, покрашенные на одну сторону известью, на другую – чернилами.
– Чёт-нечёт, – сказал Толбузин.
Игру в зернь государь запретил, но в торговых банях законы были свои. Торговые бани Тобольска стояли отдельной дикой слободкой за ямскими дворами на берегу Иртыша. Узкие изогнутые улочки летом были залиты зловонными лужами – это из бань выплёскивали мыльную воду; зимой лужи замерзали грязными ледяными буграми. Бурьян, свалки, проулки, тупички, калитки. К банным срубам были пристроены тайные зерновые горницы. Бани и горницы теснились вперемешку с лабазами, погребами, дровяными сараями, конюшнями и хибарами, где жили работники, давно потерявшие стыд и совесть. Раздвинув беспорядочную застройку, нагло высились резные терема богатых хозяев – ссыльного стрельца Бердяя, мамаши Матрёны, жадного старого хрыча Панхария, татарина Усфазана, бывшего дьяка Авдея Рукавицына. Торговые бани дымили трубами день и ночь, над прелыми ветхими кровлями клубился пар, смердели мыловаренные котлы. Водовозы везли с Иртыша разбухшие и вечно подтекающие бочки. Шоркали пилы работников и стучали топоры – банные печи пожирали горы дров.
Добрые люди сюда старались не ходить. Только малые дети верили, будто баня нужна, чтобы помыться. Здесь метали зернь и шлёпали по столам краплёными картами. Здесь расплачивались медяками воровского чекана. Здесь прятали и продавали краденое. Корчёмщики тайком везли сюда водку и брагу. Богатый мельник мог найти себе на ночь дородную боярыньку, а парни из служилых вскладчину покупали гулящих девок. Купцы при свете лучин уговаривались о том, о чём не сговориться на Гостином дворе с его доглядчиками и приказчиками: о беспошлинной соли, пушнине и порохе. Здесь можно было найти лихого человека с кистенём, согласного на любое дело, или бродячего колдуна, продавшего душу дьяволу. Здесь укрывались беглые. В убогих домишках ютилась всякая рвань и вышедшие из неволи инородцы, от холопства утратившие навык честной жизни в лесах, – эти опустившиеся люди батрачили на банных владык за обноски и объедки. Пьяных отсюда вывозили на дровнях и бросали у паперти ближайшего храма. Порядок в слободке охраняли мордовороты с дубинками, которых содержали банщики, но бывало, что поутру в заулках находили зарезанных гуляк. Тобольские ямщики за дорогу в торговые бани брали двойную цену.
Карп Изотыч Бибиков встречался с берёзовским комендантом в бане Остафия Бердяя – московского стрельца, ещё при воеводе Салтыкове сосланного в Тобольск за грабёж. Бибиков доверял Бердяю: не донесёт. В предбаннике стояли стол и лавки, кадушка с водой и два витых железных светца с лучинами. Пахло вениками и древесиной. В приоткрытое волоковое окошко с уличного декабрьского мороза клубами валил белый пар.
Бибиков и Толбузин, распаренные и мокрые, сидели за столом в одних исподних рубахах и угощались хозяйской настойкой на калине, разливая по рюмкам из дорогой бутыли зелёного стекла. Закусывали квашеной капустой, солёными грибами, пирожками с деревянного блюда и свежей морошкой. Толбузин пихал капусту в пасть целыми горстями, капуста блестела в его окладистой бороде. Он то и дело толкал стол огромным брюхом, и всё было залито квасом, который плескался из кувшина и кружек. Бибиков щепоткой по-бабьи щипал морошку.
– Как таможня, Карпушка? – спросил Толбузин.
– Глухо, Агапошенька. Гагарин своего надзирателя посадил, цепного пса. Теперь через Верхотурье нам дорога закрыта.
– Не берёт?
– Не берёт, – тяжело вздохнул Бибиков. Его маленький носик-пуговка блестел, бровки сложились домиком, а маленький ротик алел, как у девушки.
Старинный и обширный дворянский род Бибиковых прочно врос в Сибирь многими воеводами, большими и меньшими, и никто из них не уехал домой восвояси с пустыми карманами. И Карп Изотыч тоже был опытным и ловким служакой, хотя как-то сумел сохранить девичью трепетность. Он начал службу младшим дьяком при воеводах Нарышкине и Бухвостове, а могущественный Михаил Яковлевич Черкасский назначил его старшим дьяком. С Черкасским Карп Изотыч жил душа в душу. Перед отъездом князь произвёл Бибикова в обер-коменданты – сделал начальником Тобольска и тобольского разряда. Пока князь Гагарин, новый губернатор, был занят в Москве, Бибиков управлял всей губернией. Это были лучшие годы. Сын Карпа Изотыча даже затеял строить новый дворец в имении под Новгородом. Но вот явился Гагарин, и прежний порядок посыпался.
– А ежели по закону провезти – дорого встанет? – спросил Толбузин.
Агапон Иваныч отправлял свои сорока с обозами Бибикова. Сам он был тупым и грубым и никак не сумел бы наладить сбыт того, что наворовал. Но под его воеводской рукой были бескрайние, кипящие пушниной пажити Оби – от устья Иртыша до полуночных развалин Мангазеи, и Агапон Иваныч брал столько, что Карп Изотыч не мог с ним не дружить.
– По закону совсем нельзя. Можно только купцам гостинодворским, у которых казённая марка на рухлядь куплена.
– Наймём такого дурня.
– Без прибыли будет, Агапоша. На Гостином дворе пошлина – глаза выпучивает. Купец третью долю себе отгребёт. Таможня десятину снимет. Что нам останется? От каждого сорока – семь штук. Страсти господни.
С деревянным ведром в руке в баню вошёл Аниска, холоп стрельца Бердяя, долил воды в кадушку и замычал, указывая пальцем на окошко. У Аниски был урезан язык.
– Закрой, голубчик, закрой, – согласился Бибиков.
Аниска заволок окошко, поменял догорающую лучину и вышел.
– Ну, тогда надо везти по твоему тайному тракту, – Толбузин опять разлил настойку. – В объезд таможни через Невьянскую слободу.
– Тайный тракт, Агапоша, как измена государю, – назидательно сказал Бибиков. – Поймают на нём мой обоз – Гагарин и тебя, и меня повесит.
– Не бывало такого, чтобы воевод за беспошлинную рухлядь вешали!
Толбузин буровил Бибикова гневным взглядом. Рожа у Агапона Иваныча была тяжёлая, как из теста, оплывшая брюзгливыми складками.
Сибирских воевод и вправду за воровство почти не наказывали. Царю, Боярской думе или Сибирскому приказу важно было, чтобы поток пушнины из Сибири не ослабевал, а что там творят воеводы в своей дремучей глуши, сколько воруют, – плевать. Лишь бы инородцы или служилые не бунтовали, потому что бунтовщики не платят подати. За холопский бунт воеводу отзывали со службы, будто кота за хвост вытаскивали из бочки с рыбой.
– Мы с тобой теперь не воеводы, а коменданты, – печально вздохнул Бибиков, снова пощипывая морошку. – Стали мы людьми маленькими. А губернатору ныне всё дозволено. Повесит, и покаяться не успеешь.
Толбузин мрачно стиснул в большой ладони стаканчик с костями и принялся трясти, словно вытрясал душу из Гагарина.
– Даю подскору и пёструю рысь, – пробурчал он.
– На красных белок приму, – легко согласился Бибиков.
Толбузин высыпал на стол кости и, сопя, наклонился посмотреть.
– Моё! – с удовлетворением заявил он.
Против хорошего меха белки шли десятками и сотнями. Но Толбузин и не размышлял, зачем ему эти груды дешёвой пушнины, если и ценную-то некуда девать. Агапон Иваныч брал всегда с размахом, без сытости, как волк, который режет всё стадо, хотя унесёт только одну овцу. Агапон Иваныч ревниво считал себя природным князем, хотя его род давным-давно утерял княжеское звание. Далёкий Берёзов был хорош Толбузину тем, что он жил здесь как князь: обирал и холопил инородцев, притеснял посадских, судил, любил пороть баб кнутом, а служилым дозволял грабить. Толбузин был уверен, что в Берёзове начальство ему не указ. Самоуправство и воровство для Агапона Иваныча было эдаким княжением. А мягкому сердцем Бибикову хищность воеводы казалась недугом, и Карп Изотыч жалел товарища.
– Карпушка, у меня сундуки от соболей трещат, – с угрозой сообщил Толбузин. – Мне надо товар на Москву спровадить. Ежели боишься обоз по тайному тракту от себя пустить, дай мне своего провожатого.
Карп Изотыч и сам слёзно страдал от того, что пушнина застряла в амбарах Тобольска. Начальство всегда ценило дьяка Карпушу Бибикова за рачительность. Бибиков был бережливым, как старичок: доедал обгорелые до угля корки хлеба, подбирал на улице рваные тряпки, подмешивал скотине в сено запаренную солому, а истоптанные до дыр башмаки не выбрасывал, а относил на паперть. Начальство изумилось бы ловкости, с которой робкий дьяк Карпуша уводил пушнину из казны – по чуть-чуть из разных статей: давал приказчикам заниженную цену и забирал избыток, находил изъяны и отсеивал как незачтённое в урок, записывал в поруху от мышей. Мало-помалу, а получалось много. Карп Изотыч не считал это мошенством. Он строго соблюдал казённый интерес, а то, что можно украсть, казалось ему незащищённым и потому потерянным: это был пустопорожний расход от неупотребления. Карп Изотыч просто восстанавливал порядок – всё одно ведь пропадёт: растрясут разини, приказная шпынь растащит при оказиях.
– Провожатого-то дам, Агапоша, – сказал Бибиков, – но за третью долю.
– Ну ты и змей, Карпушка! – обозлился Толбузин. – Спусти до четверти!
– Не могу, Агапошенька, – сердечно признался Бибиков. – Не могу. Треть давай, иначе не осмелею.
Там, в полутёмной бане Бердяя, берёзовский комендант и тобольский обер-комендант уговорились на воровской обоз и хлопнули по рукам.
Через месяц обоз вышел в путь. Тайный тракт в обход Верхотурской таможни на самом деле не был страшной заклятой тайной. От Тобольска возчики ехали в Тюмень, потом вверх по Туре до устья реки Ницы, вверх по Нице – до ярмарочной Ирбитской слободы. От Ирбита обозы двигались на Невьянский острог, и лишь за ним начинались места, где пути были известны только тем, кому можно доверять: дальше простиралось мрачное божелесье – заповедная тайга раскольничьих Весёлых гор. Здесь укрывались скиты с подземными молельнями и кондовые деревни. Царские дозоры не совались сюда с переписями – незваных гостей перебьют и похоронят, где и бог не сыщет. Селения староверов были связаны друг с другом едва заметными нитями безлюдных проторей, отмеченных лишь крестами с кровлями. Чтобы проскользнуть по глухим распадкам Весёлых гор и добраться до торгового города Кунгура, хозяева сибирских обозов кланялись старцам Невьянска и платили «потревожную ругу», но не всякого купца допускали до старцев. А от Кунгура наезженный большак уже спокойно бежал к Соликамску, где обозы снова вливались в общее движение Государева Сибирского тракта.
Бибиков и Толбузин снарядили в Тобольске обоз из шести крепких саней с шестью надёжными возчиками. На пяти санях стояли большие короба с пушниной, прочно обмотанные лыковыми верёвками, на шестых санях возчики везли свой дорожный скарб. Обоз быстро докатился до Тюмени, по замёрзшим болотам привычно обогнул город с его таможней и ехал дальше по ледяной дороге Туры. Незадолго до Туринской слободы возчики должны были свернуть на реку Ницу – к Ирбиту.
Лошадки неторопливо бежали по ледовому тракту Туры, сани свистели полозьями. Тракт был обозначен маленькими ёлочками, воткнутыми в снег, чтобы путь был виден и ночью. По берегам клубилась спутанная заиндевелая кудель синего тальника, из которой вразнобой мощно вздымались высокие, зауженные морозом ели – ярусы снежных юбок. Голодная январская тишина словно бы выжидала в засаде, сцепив зубы, чтобы из непролазной урёмы наброситься людям на спины. Стучал дятел. Широкое сизое небо в мглистой глубине было пропитано жидким жёлтым свечением.
– Эй! Эй! Дорогу! – раздалось на реке.
Обоз нагонял отряд из десятка всадников. Это были татары в стёганых зимних халатах, в меховых ичигах и волчьих малахаях. За плечами у них торчали стволы ружей. Из-под копыт коней летели комья снега.
– Посторонись, – приказал своему обозу артельный.
Обоз сдвинулся к сугробу обочины. Татары быстро догнали обоз.
– Толбузы товар? – белозубо улыбаясь, спросил с коня татарин-есаул.
Артельный даже не успел сообразить, откуда случайный татарин знает хозяина тайного груза.
– Ачу! – крикнул есаул.
Татары легко сбрасывали с плеч ружья и целились в возчиков.
– Ты чего? – обомлел артельный.
Выстрелы взорвали тишину лесов. В еловой чаще заметалась птица. Удары крупных пуль друг за другом валили возчиков на дорогу. Всё это было так просто и так неожиданно, что никто и не вскрикнул, не попытался выхватить из-под рогожи на санях заготовленный пистолет. Артельный в изумлении взмахнул руками, из чёрной дыры на груди его тулупа вылетели дымящиеся клочья овчины. Лошади вздрагивали, напуганные грохотом, и пугливо косились, но стояли смирно, как женщины.
Сронив шапки и остро задрав бороды, возчики неподвижно лежали возле своих саней на колеях ледовой дороги. Несколько татар спрыгнули с сёдел и принялись ворочать убитых – вдруг кто-то ещё жив?
– Они все мертвы, Сайфутдин, – по-татарски сказал есаулу один из спешившихся. – Добивать никого не надо.
– Кровь натекла?
– У одного.
– Нельзя, чтобы на льду увидели кровь. Ходжа Касым приказал не оставлять следов, – есаул Сайфутдин посмотрел по сторонам, не показался ли какой другой обоз. – Соскобли кровь ножом, Хабиль.
– Я сделаю, мой господин, – кивнул Хабиль.
– Берите лошадей под уздцы, и мы быстро уходим отсюда дальше, в Ирбит, – приказал Сайфутдин своим людям. – Теперь это наш товар. В смерти этих несчастных мы не виноваты, в ней виноват жадный Толбуза.
Ирбитская ярмарка начиналась через полторы недели. Торжище в Ирбите всегда соперничало с пушным базаром на тобольском Гостином дворе. В Ирбит обязательно приедут бухарцы, которым нет никакого дела до печати Верхотурской таможни, – они-то и купят захваченную пушнину берёзовского воеводы. Караванный путь из Бухары в Ирбит назывался Канифа-Юлы. Ходжа Касым знал, как взять и как сдать опасный товар.
– Хабиль и Нуриман, вы должны остаться здесь, пробить прорубь и скорее сбросить в неё тела убитых, – распоряжался Сайфутдин, удерживая танцующего от холода коня. – Потом возвращайтесь в Тобольск и передайте Ходже Касыму: верный Сайфутдин исполнил всё, что велел Ходжа.
Глава 14
Прореха Мазепы
Иоанн, митрополит Тобольский и Сибирский, стоя на коленях, молился перед образом Богоматери. Многоиконный киот занимал весь угол в келье митрополита, в полумраке он мерцал лампадами, ризами и бисером, но образ Богоматери словно бы сам тоже источал свет, подобно открытому окошку. Эту икону Иоанн привёз из Чернигова. Кондовая Сибирь такой красоты не ведала. В Сибири иконы писали по-строгановски, будто выкладывали из смальты: празднично-пёстро, сложно, строго, мелко и дробно. Затейливый рисунок выводили тонкой тёмной кистью и высветляли тяжёлым золотом, и потому не ощущалось в образах воздуха и простора, хотя искусные богомазы изображали рощи и каменные горки, а на клеймах – многолюдные действа. Черниговская же Богоматерь была не такая. Вот она – в лазоревом убрусе, в короне и со младенчиком на левой руце: ликом свежая, нежная, жизненная, и вся икона – волнительная, плавно-песенная, в радостном умилении.
Иоанн положил последний поклон, кряхтя, поднялся на ноги и взял посох. Сводчатая келья казалась бедной: топчан с тощей подушкой, лавка, поставец с книгами, сундук и стол, на котором подсвечник, оловянная кружка с водой, чернильница и бумаги. В глубокой печуре блестело дорогим бухарским стеклом маленькое оконце. Шаркая ногами, Иоанн пошёл к двери.
Филофей ждал митрополита в трапезной архиерейского дома, стоял возле открытого окна и глядел на улицу. Там сиял апрель. Влажное синее небо всей божьей силой взлетало ввысь столбами невидимого света; по-рыбьи серебрились обтаявшие от снега гребни тесовых кровель и лемеховые купола святой Софии; башни Софийского двора, будто бочки, распирало белизной; почернели тропинки меж осевших сугробов, и повсюду играли огни: искры солнца в ледяных сосульках, зернистый блеск наста, райские отражения в лужах и в двух вёдрах, которые старый монах нёс через двор на коромысле.
– Владыче! – улыбнулся Филофей, увидев Иоанна, и склонил голову, ожидая благословения.
– Отче! – ответил Иоанн, благословляя Филофея, и они обнялись.
Они были знакомы очень давно, ещё с Малороссии, с Киева. Вместе четыре года учились в коллегиуме митрополита Петра Могилы в Киево-Братской обители, а потом не раз встречались на служениях: сменяли друг друга экономами в Лавре и настоятелями Свенского монастыря в Брянске, даже смеялись: «Ванька дома, Маньки нет; Манька дома, Ваньки нет».
– Вот теперь и Ванька дома, и Манька, – сказал Филофей. – Присядем?
Иоанн и Филофей уже встречались в Сибири – прошлым летом, когда Иоанн, только что возведённый в митрополиты, ехал из Москвы в Тобольск и на два дня остановился в Тюмени в Преображенском монастыре. А ныне Филофей сам прибыл к митрополиту на Софийский двор.
– Как телесное здоровье твоё? – заботливо спросил Иоанн.
– С божьей помощью.
– Я ведь тоже лет пять назад в Чернигове чуть не преставился, – сказал Иоанн. – Лежал в горячке в полном расслаблении. Никто помочь не мог. И я молить начал – знаешь, кого?
– Кого?
– Феодосия.
Черниговский архиепископ Феодосий всегда благоволил к иеромонаху Иоанну. Перед смертью он вызвал Иоанна из Брянска, из Свенской обители, и назначил настоятелем Елецкого монастыря в Чернигове. Все понимали, что Феодосий видит в Иоанне преемника. А черниговская кафедра на Украйне была, может, важнее киевской, потому что окормляла сечевиков-запорожцев – непокорную гетманщину. После кончины Феодосия сам гетман Мазепа просил царя и патриарха Адриана о посвящении Иоанна в архиепископы.
– Феодосий ко мне во сне пришёл и повелел отслужить литургию, тогда, мол, исцелишься. Наутро я еле собрал себя, но приплёлся в храм. И веришь – прямо на службе с меня немочь как вода стекла.
– Хороший был человек Феодосий, – задумчиво сказал Филофей.
– Святой муж, – убеждённо заявил Иоанн.
– А правду говорят, владыка, что ты Черниговскую кафедру потерял, потому что поссорился с самим светлейшим? – спросил Филофей.
– Правду, – неохотно подтвердил Иоанн.
В полтавской баталии конница князя Меншикова атаковала шведов и расстроила их наступление – Меншиков спас всё дело. За это после битвы государь повелел гетману Скоропадскому выделить светлейшему имения в Почепской волости на Стародубщине. А в одном из тех имений достраивался храм. Престольным праздником ему наметили Благовещение. Архиепископ Иоанн должен был проводить освящение. Меншиков хотел присутствовать на службе, но не мог поспеть, и потребовал отложить торжество на три дня. Ну не мог же Иоанн передвинуть святое Благовещение – даже ради самого светлейшего! Иоанн освятил храм, когда было должно. Меншиков обиделся, что Иоанн пренебрёг его указом, и нашептал царю: дескать, черниговский архиепископ – смутьян, тайный прихвостень Мазепы, не уважает царскую власть. И вскоре Иоанна отправили из Чернигова в Тобольск.
– А правду говорят, что ты напророчил светлейшему, будто он сам ещё дальше тебя в Сибирь уедет?
– А это уже сказки, – осторожно ответил Иоанн.
Не мог он сказать такое Меншикову. Для него грозить Меншикову было всё равно, что грозить царю. А царя он убоялся, потому что был Батурин.
В начале войны со шведом Иоанн встречался с Петром в Киеве, и Пётр Иоанну очень понравился: внимательный, тонкого ума, весёлый, деятельный и совсем простой, без чванства. Иоанн охотно предрёк этому славному царю победу. Однако в Киеве был один Пётр, а потом Иоанн узнал другого.
Осенью 1708 года гетман Мазепа переметнулся к королю Карлу XII и бежал вместе с казной запорожцев. Пётр был в бешенстве: он верил гетману как отцу родному, он повесил ему на грудь драгоценную цепь с орденом Андрея Первозванного, он казнил судью Ваську Кочубея за донос об измене гетмана, и вообще – Мазепа в те дни оставался единственным союзником Петра против Карла. И этот союзник, оказывается, предал и обещал врагу под зимние квартиры свою гетманскую столицу – город Батурин.
Пётр направил на Батурин корволант Меншикова. Для защиты города Мазепа оставил артиллерию и казаков-сердюков полковника Митьки Чечеля. Меншиков осадил город. Взять на приступ казацкую твердыню было весьма непросто, но помог предатель: старшина Ванька Нос указал проход в крепость. Драгуны светлейшего ворвались в Батурин. Дикий вопль взвился, наверное, до небесного Престола. Драгуны стреляли, рубили и кололи пиками всех подряд: сердюков, пушкарей, дворовых холопов Мазепы, простых казаков, лавочников, попов, мужиков, баб и детей. Многие жители бежали от русских через речку Сейм по тонкому ноябрьскому льду, но лёд подломился, и люди тонули толпами. Драгуны разграбили дворец Мазепы, лавки, дома и амбары, а потом подожгли город, заваленный окровавленными телами. Сгорело всё – и крепость, и усадьба гетмана, и божьи храмы, и хаты батуринцев. Города Батурин больше не было на земле. Вместо него дымилось огромное пепелище, где среди обугленных костей торчали закопчённые остовы печей и чёрные щётки кольев от черешневых садов. Такого с городом не сотворил бы ни шведский король Карл, ни польский король Станислав.
Иоанн не видел батуринского истребления, но видел то, что случилось в Глухове. В этот городишко Пётр перенёс гетманскую столицу и созвал сюда казачью знать и украинских иереев, чтобы они вручили гетманскую булаву полковнику Скоропадскому. Потом на площади Глухова палачи казнили захваченных в плен батуринских старшин. Их мясничили невыносимо долго, и полковник Чечель всё кричал, кричал, кричал. Когда его отрубленную голову насадили на железную спицу, Иоанна потрясло безмерное блаженство на утихшем лице Чечеля – наконец-то голову отняли от истерзанного тела.
А весной 1709 года Иоанн стоял в Чернигове на берегу Десны и смотрел, как река несёт выплывших из Сейма мертвецов Батурина: у мужиков торчали мокрые клинья бород, бабы лежали в ореоле распустившихся волос, а дети были коротенькие. Казалось, что поток утопленников – это какое-то жуткое переселение, потому что на тихой тёмной воде среди льдин и трупов покачивались вещи: шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки. Беззвучное и слаженное движение долгого множества мертвецов завораживало, как зримое свидетельство могучих сил мироздания. Но господняя воля или дьяволов умысел привели эти силы в действие? Иоанн не знал. Конечно, царь – помазанник, и поэтому Иоанн будет славить царя в молитвах и сочинениях, как положено учёному архиерею, однако душа на явление этих сил не отзывалась радостью, молчала, как пленная. И увы: Иоанн не мог рассказать Филофею о своём смятении. Филофей не был свидетелем ужаса в Батурине и Глухове, он все события просидел в далёком сонном Тобольске. Ему не понять.
В трапезную заглянул парнишка-послушник.
– К тебе князь Матвей, владыка.
– Зови, Николка. Шубу у него в сенях прими.
Рослый и грузный Матвей Петрович занял собою весь дверной проём, и владыке на миг показалось, что это входит царь Пётр.
Иоанн, поднявшись, перекрестил князя, Филофей поклонился.
– Вот, господин губернатор, отче Филофей до тебя, – сказал Иоанн.
– Да уж вижу, – Гагарин опустился на лавку. – Жду, чем порадует.
– Подумал я, Матвей Петрович, и решил покориться воле государя, – сообщил Филофей. – Буду инородцев обращать. Об этом я владыке написал, а тебе хотел сам доложить, потому и приехал. Владыка уже благословил.
Иоанн кивнул.
– А здоровье твоё как? – Гагарин хитро прищурился.
– Кто умер на дороге, тот умер на дороге в рай, – Филофей спокойно улыбнулся. – Но тебе, губернатор, моя погибель обойдётся втридорога. Вот я уже и разметы набросал на первое плаванье до Берёзова.
Филофей распустил шнурок на рукаве рясы, вынул свёрнутые в трубку исписанные листы и протянул Гагарину. Матвей Петрович развернул свиток.
– Лучше на словах объясни, отче, – попросил он, оглядев бумаги.
– Мне нужны два дощаника с полной оснасткой, – начал Филофей по памяти, – сухарей четыре пуда, десять фунтов мяса, две чети муки, пять фунтов пороха, два фунта свинца, бочонок дёгтя. Новокрещенам на подарки надобно двести аршин холста, сто рубах и штанов, сорок шапок, триста крестиков кипарисовых и триста рублей серебром, двадцать образов Спасителя, Богородицы и Николы Угодника. Всего на тысячу двести рублей.
Основательность Филофея произвела впечатление на Гагарина.
– Видно, добрым экономом ты в Лавре был, – сказал он с уважением.
– Туда в экономы дураков не берут, – неприязненно пробурчал Иоанн.
Ему не нравился Гагарин. Иоанн полгода приглядывался к губернатору, к его крепкой хозяйской хватке и снисходительному барскому добродушию, пытался понять, в чём же суть гагаринских перемен, и вдруг осознал, что в деяниях князя чует всё ту же бесчеловечную силу, которая влекла по вешней Десне трупы убиенных жителей Батурина. В Тобольске Иоанн надеялся укрыться от этой силы, но не удалось: Гагарин, Меншиков и Пётр – они одним миром мазаны. И при Гагарине Иоанну хотелось то ли прижиматься к земле, как затравленному зайцу, то ли набрасываться, как псу на волка.
– Припасы – полдела, – продолжал Филофей. – Мне надобно, чтобы ты воеводе Толбузину в Берёзов отписал помогать мне. Всем новокрещенам он обязан простить все долги и на три года освободить от ясака.
– Придушу хапугу Агапошку, он запомнит, – кивнул Гагарин.
– В путь я возьму с собой пять братьев, шесть служилых и четырёх казаков. А командира для моей охраны мне владыка подобрал.
– Новицкий Григорий Ильич, ссыльный полковник, – сказал Иоанн.
Новицкого Иоанн приметил в церковном хоре на Софийском подворье. Голос у полковника был красивый, высокий, бабий, и пел Новицкий с душой, словно что-то изживал в себе страданием. Голосистых черкасов собрал в хор ещё Филофей, пока был митрополитом, а Иоанн поддержал начинание.
– Полковник? – удивился Гагарин. – Ссыльный? Не знаю такого. На кой бес он со шведами-то снюхался, что в ссылку угодил?
– Не со шведами, – глухо сказал Иоанн. – С Мазепой.
– С Мазепой? – с бесконечным презрением переспросил Гагарин.
Для Иоанна имя Мазепы было как удар плетью. Иоанн побледнел.
– С гетманом не одни иуды были, – с трудом произнёс он.
Матвей Петрович внимательно посмотрел на владыку.
– А кто ж ещё? – испытующе спросил он, чтобы Иоанн раскрылся.
Черниговский архиепископ Иоанн дружил с гетманом Мазепой, ездил к нему в гости во дворец в Батурин, благословлял гетмана на праздниках, освящал церкви, которые богатый гетман неутомимо строил по всем землям Украйны. Всё, чем гордился Иоанн, было создано на деньги Мазепы: и типография-друкарня в Троицком монастыре под Дорогобужем, и сам черниговский Коллегиум. Иоанн учредил его по образцу могилянского в Киеве; по латыни и на польском там учили парубков грамматике, синтаксису, риторике и поэтике; Мазепа воздвиг для Коллегиума колокольню с храмом – восьмигранную, волнистую очерком, словно бы кудрявую.
А Филофей понял, что князь выворачивает владыку наизнанку.
– Разные люди от Мазепы страдали, Матвей Петрович, – рассудительно сказал Филофей. – При мне в Тобольске пять лет сидел ссыльный фастовский полковник Семён Палий, слышал о таком?
Палий дерзал освободить от ляхов правобережную Украйну, искал помощи у Мазепы и Петра, но Мазепа приревновал полковника, казачьего любимца, и оговорил его перед царём, чтобы сечевики не выбрали Палия в гетманы. Пётр поверил Мазепе и сослал полковника в Сибирь. После измены Мазепы Пётр вспомнил про опального Палия и вернул его на родину. С Белоцерковским полком Палий дрался за царя под Полтавой.
– Слышал, – сказал Матвей Петрович.
Иоанн с ненавистью смотрел на губернатора. Хуже дружбы с Мазепой для него был только страх расплаты за эту дружбу. Иоанн понимал, что Мазепа – изменник царю, но вере православной Мазепа не изменял. Гетман просто ошибся: подумал, что Пётр проиграет войну, решил спасти Украйну от шведского разорения и задружился с Карлом. А Пётр, истребив Батурин, притащил в Глухов трёх украинских иереев – былых содружников гетмана: Иоанна, переяславского архиепископа и киевского митрополита. Пётр заставил иереев предать Мазепу анафеме. Потом на площади у Троицкого собора палач сорвал с чучела Мазепы «кавалерию с бантами» – ордена и ленты, и высек чучело гетмана плетью; соломенного Мазепу, обряженного в малиновый жупан с золотым кушаком и бобровый кобур с павлиньим пером, проволокли по улочкам Глухова и повесили.
Мазепа не остался в долгу, отомстил: он подстроил, что солдаты Петра поймали его казака с подложными письмами гетмана к тайным сторонникам – черниговскому архиепископу, глуховскому атаману и старшинам. Вот тогда страх смерти остудил Иоанна по-настоящему. Пётр быстро разобрался в обмане и не тронул тех, кого оговорил Мазепа, но душевный покой к архиепископу уже не вернулся. И дело не в том, что русский царь в любой миг и по любой прихоти мог его казнить. Иоанн впервые ощутил на собственной вые руку той бесчеловечной силы, которая двигала народы и царства. И разумом Иоанн соглашался, что сила права, но совесть восставала против неправедности, потому что в той воле не было благодати, и те, кто её исполнял, рушили божий порядок. Ведь и Мазепа согрешил, и Пётр, и он, Иоанн, что-то сделал не так, когда возгласил анафему гетману, от которого видел только добро. А правильного для всех решения тут не было и быть не могло. В душе Иоанна словно образовалась прореха; как открытая рана, она источала неутихающую боль. Кто знает, что Иоанн увидит в дольнем мире сквозь эту прореху? А губернатор хотел засунуть в неё руку по локоть.
Матвей Петрович сразу уловил напряжённую злость владыки, удивился – и даже обрадовался, но не подал вида. К Мазепе и его измене Гагарин был совершенно равнодушен, а Иоанн, оказывается, переживал близко к сердцу. Это крючок, на котором он, губернатор, может держать владыку. Зачем ему нужно подцепить Иоанна, Матвей Петрович ещё не знал, но крючок всегда пригодится. Князь Гагарин был опытным царедворцем.
– Я тоже Мазепиной сажей мазан, – проскрипел Иоанн.
Но Матвей Петрович уже услышал всё, что хотел.
– Ладно, отцы, – покладисто сказал он. – Все мы тут грешники.
Часть вторая
Луна всех варваров
Глава 1
Пиетисты
Никто бы в Тобольске не отдал для шведов целую площадь, поэтому они собрались на пустыре за Казачьим взвозом. Четыре сотни каролинов – подданных короля Карла XII – неровными рядами расселись на крутом склоне Панина бугра, будто на ступенях древнего амфитеатра. На самом деле пленных шведов в Тобольске было куда больше – около тысячи, но не все смогли прийти. Зато те, кто пришёл, приготовились к празднику: солдаты и офицеры красовались в камзолах и шляпах с позументом, слуги повязали на локоть банты, женщины надели кружевные фартуки и чепцы с лентами. Сегодня был день рожденья короля. Карлу XII исполнилось тридцать лет.
За Казачьим взвозом на обрыве белели зубчатые стены и квадратные башни Софийского двора – игрушечной крепости сибирского митрополита. Тёплый июньский ветер нёс по небу лёгкие облака, их тени беззвучно бежали по улицам и тесовым крышам русского города, по ровным зелёным откосам Алафейских гор; крепость то вспыхивала яркой белизной, то меркла, словно готовая исчезнуть. Вот так когда-нибудь исчезнут и узы плена, открывая каролинам свободную дорогу на родину. Но до этого надо было дожить.
Капитан Курт Фридрих фон Врех, ольдерман шведской общины в Тобольске, разглядывал лица своих товарищей с искренним сочувствием. Да, каролинам в русском плену пришлось нелегко. Но капитан приложит все силы, чтобы подданные короля не пали духом. Фон Врех гордился своим благородством в невзгодах. Маленький, толстенький и близорукий, он не мог проявить себя в битве, но мог показать свою стойкость в помощи ближним.
Капрал Брур Роламб, стихотворец общины, громко читал каролинам свою новую оду, сложенную к юбилею. Листок с текстом капрал держал в левой руке, а правой рукой широко взмахивал над головой. В одах господина Роламба всегда присутствовали коронованные львы, Юпитер, бури и молнии, гром пушек, грозные армии, сверкающие штыками, знамёна и победные литавры. Ротмистр Леонард Каг сидел поодаль от Роламба на стуле – многие офицеры принесли или привезли с собой стулья – и внимательно слушал, размышляя, стоит ли потом переписать эти стихи в дневник общины; ротмистр вёл дневник по поручению ольдермана. Фон Врех снял шляпу и в знак согласия со строфами кивал головой в потрёпанном парике. Офицеры понимали, как нужны простым людям эти неказистые вирши, и демонстрировали серьёзность. Офицеров в руководстве общины было около десятка; на собрание пришли полковник Арвид Кульбаш, капитаны Отто Стакелберг, Юхан Табберт и Хенрик Свенсон, лейтенанты Густав Горн, Петер Пальм и Юхан Матерн.
– Благодарю вас, господин капрал, – поднимаясь, сказал Роламбу фон Врех. – Мы все вас благодарим, – фон Врех подождал, пока Роламб отойдёт в сторону, и обратился ко всем: – Дорогие мои друзья! В этот счастливый июньский день я собрал вас не только для того, чтобы разделить радость от августейшего юбилея, но и для того, чтобы поделиться новостью, которая согреет наши сердца. Из Фельдт-комиссариата мне переслали письмо от профессора Августа Франке, духовного отца нашей общины!..
Делами пленных шведов занимался Фельдт-комиссариат в Москве, в Немецкой слободе. Возглавлял его старый граф Карл Пипер, глава походной канцелярии короля Карла; он попал в плен под Полтавой. Через Фельдт-комиссариат в глубины России поступали деньги для пленных: половинное жалованье от риксдага, воспомоществование от родственников, ссуды от принцессы Ульрики Элеоноры и благотворителей из вельмож.
Денег всегда не хватало, и капитан фон Врех нашёл ещё один источник финансовой поддержки. Родовое поместье фон Врехов нуждалось в хорошем управляющем, поэтому фон Врех, заботливый отец, ещё до войны с Россией отправил сына получать образование в город Галле в Пруссии, в педагогиум профессора Августа Франке. Дети занимались там круглый день, ходили в синих мундирчиках, не имели глупых развлечений, выходных и вакаций, росли послушными, набожными и трудолюбивыми, а выпускники хорошо разбирались в хозяйстве и ремёслах. Причиной таких успехов было учение пиетизма, которому следовал профессор Франке.
В Галле Курт фон Врех ознакомился с основами этого учения, и, когда судьба забросила его в Тобольск, фон Врех понял, что пиетизм весьма подходит для выживания в плену, позволяя сохранять благочестивый образ мысли и вести добродетельный образ жизни. Фон Врех написал письмо в университет Галле, где профессор Франке преподавал восточные языки, сообщив, что тобольская община шведских военнопленных для своего устава решила взять за образец принципы пиетизма; не сможет ли могущественная пиетистская школа господина Франке помочь единомышленникам деньгами и мудрым руководством? Через год из университета Галле пришли посылка с книгами и денежный перевод. Переводы от профессора стали регулярными.