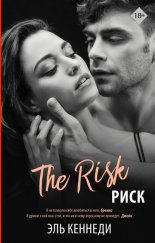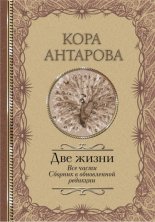Жажда Вульф Трейси

– Из-за Кэма. – Я внимательно наблюдаю за ее лицом в зеркале, пока она начинает укладывать свои короткие разноцветные волосы.
– Да, потому что я люблю Кэма, – отвечает она, делая так, чтобы пряди на ее голове встали торчком. – И потому, что здесь так не бывает.
– Как не бывает?
– Ну, мы тут поделены на группы. И члены этих групп почти не общаются.
– Да, я заметила это на вечеринке. Но это же не значит, что вам нельзя общаться, не так ли? И если тебе нравится Флинт, а ты нравишься ему…
– И вовсе мне не нравится Флинт, – с тяжелым вздохом говорит она. – А я определенно не нравлюсь ему. Но если бы он даже мне нравился, это бы все равно ничего не изменило, потому что…
– Потому что он так популярен?
Она опять вздыхает и качает головой:
– Дело не только в этом.
– А в чем? – У меня возникает такое чувство, будто я попала в фильм «Дрянные девчонки», только место его действия перенесено на Аляску.
Прежде чем Мэйси успевает ответить, раздается стук в дверь.
– Интересно, сколько же человек стучится в твою дверь до семи тридцати утра? – шутливо спрашиваю я, идя открывать. Мэйси не отвечает, только усмехается и начинает накладывать макияж.
Открыв дверь, я вижу моего дядю – он с беспокойством смотрит на меня.
– Как ты себя чувствуешь? Мэйси сообщила мне, что вечером и ночью тебя рвало.
– Лучше, дядя Финн. Моя тошнота прошла и головная боль тоже.
– Ты в этом уверена? – Он делает мне знак вернуться в кровать, что я выполняю, причем, если честно, испытывая при этом некоторое облегчение. Последние две ночи я так мало спала, что сейчас чувствую себя как в тумане, хотя горная болезнь наконец-то отпустила.
– Ну, хорошо. – Он кладет ладонь мне на лоб, словно проверяя, нет ли у меня температуры.
Я хочу пошутить насчет того, что горная болезнь – это не вирус, но, когда он целует меня в макушку, у меня перехватывает дыхание. Потому что сейчас, когда он сдвинул брови и скривил рот, так что на его щеках еще четче обозначились ямочки, дядя Финн стал так похож на моего отца, что мне приходится собрать всю мою волю в кулак, чтобы не заплакать.
– Я все же думаю, что Мэйси права, – продолжает он, не замечая, насколько я вдруг пала духом. – Сегодня тебе лучше будет весь день отдыхать и приступить к занятиям только завтра. Потеря родителей, переезд, Кэтмир, Аляска – ко всему этому невозможно привыкнуть быстро, а тут еще горная болезнь.
Я киваю и отвожу взгляд, чтобы не дать ему заметить горя, отражающегося в моих глазах.
Должно быть, он понимает, каково мне сейчас, поскольку больше ничего не говорит, а только похлопывает меня по руке, после чего подходит к туалетному столику, за которым Мэйси все еще накладывает макияж.
Они начинают говорить, но голоса их звучат так тихо, что я ничего не могу расслышать, а потому просто перестаю прислушиваться и натягиваю одеяло до подбородка. И жду, чтобы мучительная тоска по моим родителям прошла.
Спать я не собиралась, но все-таки засыпаю. В следующий раз я просыпаюсь в час с чем-то и слышу, как у меня урчит в животе. Но на сей раз это вызвано тем, что в желудке уже более суток не было ничего, хоть сколько-нибудь напоминающего еду.
На холодильнике стоит банка арахисового масла и лежит упаковка крекеров, и я жадно набрасываюсь и на то, и на другое. Умяв тонну арахисового масла и целую упаковку крекеров, я наконец снова начинаю чувствовать себя человеком.
А еще я чувствую себя в этой комнате и в этой школе как в западне.
Я пытаюсь не обращать внимания на охватившее меня возбуждение, пытаюсь смотреть мои любимые сериалы на Нетфликсе, читать журнал, который не дочитала в самолете. Я даже пишу сообщение Хезер, хотя и знаю, что она сейчас в школе, – я надеюсь, что мы с ней сможем какое-то время вести переписку по телефону. Но ей удается отправить мне только одно сообщение, в котором она пишет, что сейчас у нее контрольная по математическому анализу, так что из нашей переписки явно ничего не выйдет.
Что бы я ни пыталась делать, ничего у меня не клеится, и в конце концов я решаю просто пойти погулять. Возможно, прогулка по здешней аляскинской глуши поможет мне прочистить мозги.
Но, похоже, здесь, на севере, одно дело, решить отправится на прогулку и совсем другое – подготовиться к ней. Я быстро принимаю душ и, поскольку я тут человек новый, гуглю, как нужно одеваться на Аляске зимой. Оказывается, что утепляться нужно очень тщательно, даже когда на дворе еще только ноябрь.
Когда я нахожу заслуживающий доверия сайт, мне становится ясно, что Мэйси не зря накупила мне столько теплых вещей. Сначала я надеваю купленные ею шерстяные лосины и мою фуфайку-безрукавку, затем добавляю еще один слой теплого белья – штаны и рубашку. После чего натягиваю еще и флисовые штаны ярко-розового цвета (ну, конечно) и серую флисовую куртку. Сайт предлагает мне напялить поверх нее еще одну, более теплую, но пока еще не так холодно, как будет через пару месяцев, и я решаю пропустить этот предмет гардероба и сразу перейти к шапке, шарфу, перчаткам и двум парам носок. Наконец я облачаюсь в пуховую парку, которую мне купил мой дядя, и обуваюсь в непромокаемые зимние сапоги, стоявшие внизу моего стенного шкафа.
Быстрый взгляд в зеркало говорит мне, что выгляжу я так же несуразно, как и чувствую себя.
Но у меня будет еще более несуразный вид, если в свой второй полный день на Аляске я замерзну насмерть, а потому я игнорирую это чувство. К тому же, если во время прогулки мне станет жарко, я смогу снять с себя флисовый слой одежды – во всяком случае, именно это рекомендует найденный мною сайт, поскольку здесь, на севере, пот – это твой враг. Оказывается, нахождение во влажной одежде может привести к гипотермии. Как и все остальное в этом штате.
Вместо того чтобы отправить Мэйси сообщение в то время, когда она сдает какой-то свой тест, я оставляю ей записку, в которой говорю, что собираюсь исследовать территорию школы, – мне, разумеется, хватит ума не выходить за стену в здешнюю глухомань, где водятся волки, медведи и один бог знает кто еще.
Я иду к выходу, спускаюсь по лестнице, не обращая внимания ни на кого, – правда, мне почти никто и не встречается на пути, поскольку большинство учеников и учителей сейчас на уроках. Наверное, мне следовало бы испытывать чувство вины из-за того, что сама я здесь, а не там, но, честно говоря, я чувствую только облегчение.
Спустившись на первый этаж, я выхожу наружу через первую же попавшуюся дверь – и едва не передумываю идти гулять, потому что меня тут же бьет в лицо ветер и мороз.
Возможно, мне все-таки следовало надеть тот дополнительный слой теплых одежек.
Но сейчас уже слишком поздно об этом жалеть, так что я натягиваю на голову капюшон и прячу замотанное шарфом лицо в высокий воротник парки. И иду по двору, хотя все мои инстинкты кричат мне поскорее убраться обратно внутрь.
Но мне всегда говорили, что важные дела надо начинать и кончать в соответствии с заранее намеченным планом, и я вовсе не желаю весь остаток учебного года сидеть тут взаперти, как пленница. Лучше умереть.
Я засовываю руки в карманы и продолжаю идти.
Поначалу я чувствую себя так скверно, что могу думать только о морозе, о том, как он действует на мою кожу, хотя едва ли не каждый ее дюйм покрыт несколькими слоями теплой одежды.
Но чем дольше я иду, тем теплее мне становится, так что я ускоряю шаг и наконец-то начинаю оглядываться по сторонам. Солнце встало часа четыре назад, почти в десять утра, так что сейчас у меня впервые выдалась возможность увидеть здешнюю глухомань при свете дня.
Как же тут все красиво – даже на территории школы. Мы находимся на склоне горы, так что мне постоянно приходится идти либо вверх, либо вниз, что на этой высоте отнюдь не просто, хотя теперь мне уже стало намного легче дышать, чем два дня назад.
Сейчас, в ноябре, растений вокруг немного, но везде виднеются вечнозеленые деревья. И их зелень красиво смотрится на фоне белого снега, который устилает здесь почти все.
Мне любопытно, как это – слепить снежок, но я, конечно, не снимаю перчаток. Я нагибаюсь, беру горсть снега и пропускаю его сквозь пальцы, просто чтобы посмотреть, как он сыплется вниз. Когда он высыпается, я снова нагибаюсь, беру еще снега, затем леплю из него комок, как говорил Флинт.
Это легче, чем я думала, и через несколько секунд я уже изо всех сил швыряю получившийся снежок в ближайшее дерево, стоящее слева от развилки, которую дорожка образует впереди. И с удовлетворением смотрю, как он ударяется о ствол и взрывается, после чего иду к левому ответвлению дорожки.
Но, подойдя к дереву, я понимаю, что еще никогда не видела ничего, подобного этим его темным, корявым корням. Огромные, серые, шишковатые, хаотически переплетенные и словно вышедшие из какого-то страшного ночного кошмара, они едва ли не кричат прохожим: «Берегись!» Добавьте к этому обломанные ветви и местами содранную со ствола кору – и кажется, что этому дереву самое место в фильме ужасов, а вовсе не на безупречно аккуратной территории Кэтмира.
Не стану скрывать – я настораживаюсь. Да, я знаю, нелепо испытывать отвращение к дереву, но чем ближе я подхожу, тем уродливее оно выглядит и тем более стремной кажется мне тропа, которую оно охраняет. И, решив, что, отправившись на прогулку, я и без того уже достаточно далеко вышла из своей зоны комфорта, я иду не налево, а направо, по дорожке, которая освещена солнцем.
Этот мой выбор оказывается удачным – за первым же поворотом я вижу несколько флигелей. Я останавливаюсь, не доходя до них, поскольку там сейчас наверняка идут занятия, и мне совсем не хочется, чтобы меня застукали, когда я буду заглядывать в окна классов, как какая-нибудь извращенка.
К тому же перед каждым таким домиком установлена табличка, на которой написано его название и указано, что в нем преподают.
Один из наиболее крупных флигелей называется Чинук, и в нем преподается изобразительное искусство. Я занимаюсь живописью с тех самых пор, когда поняла, что цветные карандаши годятся не только для раскрашивания книжек-раскрасок, и сейчас мне очень хочется подбежать ко входу, распахнуть дверь и посмотреть, что собой представляет здешняя изостудия, в которой мне предстоит работать.
Но вместо этого я достаю телефон и делаю фотографию таблички. Надо будет погуглить слово «чинук». Я знаю, что оно означает «ветер», по меньшей мере, на одном из языков коренных народов Аляски, и будет интересно выяснить на каком.
Вообще-то надо будет погуглить все непонятные слова на этих табличках, и, обходя флигели – одни побольше, другие поменьше, – я фотографирую каждую табличку, чтобы затем выяснить значение всех не известных мне слов. К тому же, думаю я, это поможет мне запомнить, где что находится, ведь я понятия не имею, в каких аудиториях преподаются предметы из моего списка.
Я немного беспокоюсь – а что, если тех предметов, занятия по которым проводятся в этих домиках, окажется слишком много? Что же мне тогда делать? Бегать каждую перемену в мою комнату, чтобы напялить на себя все эти теплые одежки? А если да, то сколько здесь, в Кэтмире, длятся перемены? Потому что шести минут – столько длилась каждая перемена в моей прежней школе – мне определенно не хватит.
Дойдя до конца ряда построек, я вижу выложенную камнями дорожку, которая, похоже, идет по территории школы, ведя к противоположной стороне замка. Меня охватывает странное чувство, похожее на то, которое я вчера вечером испытала в библиотеке: внутренний голос говорит мне, что надо повернуть назад, и я на секунду останавливаюсь.
Но я знаю, что это просто-напросто игра моего воображения, как и тогда, когда меня напугало то дерево, а потому избавляюсь от непонятного чувства и продолжаю идти вперед.
Но чем дальше я отхожу от главного здания, тем более пронизывающим становится ветер, и, чтобы не замерзнуть, я ускоряю шаг. Теперь ясно, что мне однозначно не станет жарко и можно распрощаться с мыслью об избавлении от одного из слоев одежек, как предлагал тот веб-сайт. Напротив, с каждой секундой все более и более реальной становится перспектива превратиться в ледышку.
Но я все равно не поворачиваю назад. Кажется, теперь я обошла уже более половины территории школы, а раз так, идя вперед, я скорее дойду до главного здания, чем если направлюсь назад по той же дороге, по которой пришла. И я еще плотнее обматываю шарфом лицо и продолжаю идти вперед.
Я прохожу мимо деревьев, мимо замерзшего пруда, на котором я бы с удовольствием покаталась на коньках, если бы мне удалось удержать равновесие во всех этих одежках, затем вижу еще два небольших флигеля. Табличка перед одним из них сообщает, что этот домик называется Шайла и что там находится магазин, а на табличке, прибитой над дверью второго, написано: «Танана – студия танца».
Названия этих флигелей прелестны, однако количество преподаваемых в них предметов немного удивляет меня. Не знаю, чего именно я ожидала от Кэтмира, но определенно не такого. Здесь преподаются все предметы, предлагаемые для изучения в обычной старшей школе, но сколько же тут и других, которых в государственных школах не сыщешь днем с огнем.
Надо признать, что все известные мне сведения о дорогих школах-пансионах почерпнуты из старого DVD моей матери с фильмом «Общество мертвых поэтов», который она заставляла меня смотреть вместе с нею раз в год. Но показанная в этой картине частная школа-пансион Велтон отличается от Кэтмира. В Велтоне царили сверхстрогость, сверхжесткость и сверхчванство, а в Кэтмире, похоже, наблюдается только последнее из трех.
Ветер все усиливается, и я еще больше ускоряю шаг. Дорожка проходит мимо нескольких больших деревьев – не вечнозеленых, а голых, безлистных, с ветвями, покрытыми инеем и усеянными сосульками. Я останавливаюсь, чтобы полюбоваться ими, потому что они красивы и потому что преломляемый ими солнечный свет образует на земле у моих ног пляшущие радужные пятна.
Я так очарована этой причудливой игрой света, что некоторое время готова терпеть даже ветер, поскольку именно он заставляет радужные пятна плясать. Однако в конце концов мне становится слишком холодно стоять на месте, и я, миновав деревья, выхожу к еще одному замерзшему пруду. Судя по всему, он являет собой место отдыха, поскольку вокруг него стоят скамьи, а в нескольких ярдах от дорожки возвышается увенчанная снежной шапкой беседка.
Я делаю пару шагов в ее сторону, подумав, что можно было бы посидеть в ней и минутку отдохнуть, но тут замечаю, что она уже занята: в ней сидят Лия – и Джексон.
Глава 16
Иногда, только держа своих врагов близко, можно избежать гипотермии. Вот черт!
Я дала себе слово, что, увидев Джексона в следующий раз, не стану спасаться бегством, как напуганный кролик, но сейчас определенно не лучшее время для того, чтобы толочься рядом. Ведь все в облике этих двоих так и кричит, что они говорят о чем-то очень серьезном. И, что еще важнее, о чем-то сугубо личном.
Они подались друг к другу, но их тела не соприкасаются.
Их плечи напряжены.
И каждый из них всецело поглощен тем, что говорит другой.
Мне хотелось бы оказаться к ним поближе, хотелось бы услышать, о чем идет речь, хотя это совершенно не мое дело. Очевидно одно – если у людей такой напряженный и сердитый вид, как у этих двоих, у них определенно есть какая-то проблема, и я бы погрешила против истины, если бы сказала, что не хочу знать, в чем она состоит.
Не понимаю, почему это кажется мне таким важным – возможно, потому, что в их ссоре чувствуется какая-то интимность, от которой у меня начинает болеть живот. Что нелепо, ведь Джексон едва мне знаком. К тому же во время двух из наших четырех встреч он прошел мимо меня так, будто я вообще не существую.
Это уже само по себе недвусмысленный намек на то, что он не желает иметь со мной никаких дел.
Вот только я все время вспоминаю выражение его лица, когда он отогнал от меня Марка и Куинна в ту первую ночь. И то, как расширились его зрачки, когда он дотронулся до моего лица и вытер каплю крови с моих губ.
Когда его тело касалось моего, все мое естество замирало, ожидая возможности возродиться, ожить.
Тогда у меня не было такого чувства, будто мы с ним чужие.
Наверное, именно поэтому я и продолжаю наблюдать за ним и Лией, вопреки голосу рассудка.
Теперь они ругаются так ожесточенно, что я могу слышать их возбужденные, громкие голоса, хотя от меня до них далеко. Я не могу расслышать их слов, но мне это и не нужно – мне и так понятно, насколько они оба взбешены.
И тут Лия замахивается и бьет Джексона ладонью по той щеке, которую пересекает шрам, бьет с такой силой, что его голова дергается назад. Он не дает ей сдачи, собственно, он не делает ничего, пока ее рука не приближается к его лицу опять.
На сей раз он перехватывает ее запястье и крепко сжимает его, а она пытается вырвать руку. Теперь она вопит во все горло – звучащие в ее воплях ярость и душевная боль пронзают меня, и на глазах моих выступают слезы.
Я хорошо знаю эти звуки. Знаю порождающую их боль и ярость, из-за которой их бывает невозможно сдержать. Они исходят из самых глубин твоей души и рвут ее в клочья.
Я инстинктивно делаю шаг в сторону Лии, меня тянет к ней и эта ее боль, и чувствующийся в их перепалке надрыв. Но тут ветер усиливается, и они оба вдруг поворачиваются, воззряются на меня, и от стеклянного взгляда их темных глаз меня пробирает дрожь. Они глядят на меня так, словно они хищники, а я добыча, и им не терпится вонзить в меня клыки.
Я говорю себе, что нервничаю без причин, но все равно испытываю странное чувство, когда машу им рукой. Вчера мне казалось, что мы с Лией можем подружиться – особенно после того, как она пригласила меня заходить к ней, чтобы вместе делать маникюр и педикюр, – но очевидно, что в том, что происходит сейчас между Джексоном и ею, нет ни капли дружеских чувств. И хорошо, думаю я, ведь мне совсем не хочется встревать в ссору двух человек, между которыми явно что-то было. Но я также не хочу оставлять их наедине друг с другом, раз уж Лия распалилась настолько, что ударила своего собеседника, а он, защищаясь, схватил ее за руку.
Я не знаю, что предпринять, и просто смущенно смотрю на них, а они – на меня.
Когда Джексон отпускает запястье Лии и делает пару шагов в мою сторону, на меня вдруг накатывает такой же панический страх, как вчера, на вечеринке. И та странная завороженность, которая с самого начала всякий раз нападала на меня при встрече с ним. Не знаю, что в нем есть такого, но всякий раз, когда я вижу его, меня начинает тянуть к нему, хотя я не в силах понять почему.
Он приближается ко мне, и мое сердце начинает неистово биться.
Однако я не отступаю. Один раз я уже бежала от Джексона, но больше не стану.
Но тут Лия вдруг хватает его и тянет назад. Опасные огоньки в ее глазах гаснут (правда, в его глазах они остаются), и она радостно машет мне рукой:
– Привет, Грейс! Давай к нам.
Ну нет, благодарю покорно. Ни за что. Ведь все мои инстинкты кричат мне, чтобы я бежала отсюда со всех ног, хотя я не знаю почему.
И вместо того чтобы идти к ним, я опять машу ей рукой и кричу:
– Вообще-то мне надо вернуться в комнату, пока Мэйси не начала разыскивать меня опять. Я просто хотела немного исследовать кампус, прежде чем завтра у меня возобновится учеба. Хорошего дня!
Последнее пожелание – это явный перебор, ведь оба они взбешены, но, нервничая, я всегда либо теряю дар речи, либо начинаю нести всякую чушь, так что сейчас у меня получилось не так уж и плохо. Во всяком случае, именно так говорю я себе, когда поворачиваюсь и иду прочь – так быстро, как только могу.
Каждый шаг требует от меня выдержки, ведь мне приходится заставлять себя не оглядываться через плечо, не проверять, смотрит ли на меня Джексон или нет. Ощущение мурашек на затылке говорит мне, что сейчас он глядит мне вслед, но я пытаюсь не обращать на это внимания.
Как и на странное чувство, которое возникает у меня всякий раз, когда я вижу его. Я уверяю себя, что это пустяки, что это ничего не значит. Что я ни за что не влюблюсь в парня, в котором столько заморочек.
Но мне все равно ужасно хочется оглянуться – до того момента, когда Джексон вдруг не оказывается рядом со мной. В его глазах светится интерес, а волосы развеваются на ветру.
– Зачем тебе так спешить? – спрашивает он, преградив мне путь и пятясь, так что я вынуждена замедлить шаг, чтобы не врезаться в него.
– Да так. – Я опускаю взгляд, чтобы не смотреть ему в глаза. – Мне холодно, я замерзла.
– Так каков твой ответ? «Да так»? – Он останавливается, вынудив меня сделать то же самое, затем, одним пальцем подняв мой подбородок, все-таки заставляет меня взглянуть ему в глаза. И улыбается кривой улыбкой, от которой у меня замирает сердце, – собственно, именно поэтому я так и старалась не смотреть на него. Особенно после того, как только что наблюдала такую бешеную ссору между ним и Лией. – Или хочешь сказать, что ты правда дико замерзла?
Если приглядеться, можно все еще различить след ее ладони на его прочерченной шрамом щеке. Это бесит меня, хотя и не должно бы, если учесть, что я едва знаю этого парня. А потому я делаю шаг в сторону и говорю:
– Я замерзла. Так что извини, но мне нужно идти.
– На тебе столько всего надето, – замечает он, тем самым подтвердив, что я выгляжу так же несуразно, как чувствую себя, и снова преграждает мне путь. – Ты уверена, что замерзла и что это не отговорка?
– Мне нет нужды искать отговорки. – Однако именно это я и делаю – ищу отговорки и пытаюсь убежать от того, что я только что наблюдала. И от всех тех чувств, которые он будит во мне, хотя на самом деле мне хочется одного – обнять его крепко-крепко и не отпускать. Это нелепое чувство, нелепая мысль, но от этого слова не становятся менее реальными.
Он склоняет голову набок, вскидывает одну бровь – и мое сердце начинает биться еще чаще.
– Да ну? В самом деле?
Вот тут-то мне и следует опять начать двигаться вперед. Следует сделать что угодно, лишь бы это не выглядело так, будто я вешаюсь ему на шею. Но я не сдвигаюсь с места.
Не потому, что Джексон преграждает мне путь, хотя именно это он и делает, а потому, что все мое естество неудержимо влечет к нему. В том числе и к исходящей от него опасности. Особенно к опасности, хотя прежде я была не из тех девушек, которые рискуют просто ради острых ощущений.
Возможно, поэтому-то, вместо того чтобы обойти его и побежать к замку, что было бы правильно, я смотрю ему прямо в глаза и говорю:
– Да, в самом деле. Потому что я тебе не подчиняюсь.
Он смеется. И это самый наглый и надменный смех, который мне когда-либо приходилось слышать.
– Мне подчиняются все… в конечном итоге.
О боже! Какой козел!
Я картинно закатываю глаза, обхожу его сбоку и иду по дорожке, выпрямив спину и ускоряя шаг, – по идее, это должно показать ему, что я не желаю, чтобы он шел за мной. Потому что, когда он говорит такие вещи, мне становится неважно, что меня влечет к этому парню. Зачем тратить время на человека, который возомнил, что своим существованием он всех осчастливил?
Однако, похоже, Джексон умеет понимать язык тела не так хорошо, как я полагала, или же ему просто-напросто пополам. Как бы то ни было, он не отваливает, как ожидала я, а идет рядом со мной, не отставая, как бы быстро я ни заставляла себя идти.
Это достает и само по себе, а тут еще и эта мерзкая самодовольная ухмылка, которой он даже не пытается скрыть. И взгляд искоса, за которым следуют слова:
– Близко общаясь с Флинтом Монтгомери, ты слишком высовываешься. Лезешь на рожон.
Я игнорирую его и иду дальше, просто иду дальше.
Не дождавшись моего ответа, он продолжает:
– Дружба с дра… – Он вдруг осекается и прочищает горло. – Дружба с таким малым, как Флинт, это…
– Что? – набрасываюсь на него я, вне себя от злости. – Дружба с Флинтом – это что? О чем ты?
– Это все равно что намалевать у себя на спине мишень, – отвечает он, немного ошарашенный моим гневом. – Близко общаясь с Флинтом, ты не сможешь оставаться в тени.
– Да ну? А что же тогда могло бы означать близкое общение с тобой?
Его лицо утрачивает всякое выражение, и какое-то время я думаю, что он не станет отвечать. Но в конце концов он говорит:
– Это была бы полнейшая, совершеннейшая глупость.
Это не тот ответ, которого я ожидала, особенно от такого высокомерного и вредного типа, как он. Но его откровенность и прямота обезоруживают меня, и, хотя до этого мне казалось, что тут нечего говорить, я отвечаю:
– И все же ты здесь.
– Да. – Его темные задумчивые глаза всматриваются в мое лицо. – Я здесь.
Между нами повисает молчание – тяжелое, опасное, полное скрытых смыслов и напряженное, словно натянутый под цирковым куполом канат.
Мне надо уйти.
Ему надо уйти.
Но мы оба застыли и не сдвигаемся с места. И, быть может, я сейчас даже не дышу.
Наконец Джексон шевелится, хотя напряжение это не разряжает, и делает шаг ко мне. Потом еще, еще, пока между нами не остаются только мои объемистые одежки и тончайший слой воздуха.
По спине у меня бегают мурашки – не от холода, а от того, что Джексон сейчас так близко.
Мое сердце стучит часто и гулко.
Голова идет кругом.
Во рту сухо, как в пустыне.
Состояние остальных частей моего тела не лучше… особенно когда Джексон берет мою руку в перчатке и большим пальцем гладит мою ладонь.
– О чем вы с Флинтом говорили? – спрашивает он, секунду помолчав. – На вечеринке?
– Я не помню, честно. – Это звучит как уход от ответа, но это чистая правда. Когда Джексон прикасается ко мне, я с трудом могу припомнить даже мое собственное имя.
Он не ставит мои слова под сомнение, но уголки его губ приподнимаются в на редкость самодовольной улыбке.
– Вот и хорошо, – шепчет он.
Эта его самодовольная ухмылка почему-то помогает мне успокоиться – наконец-то, – и теперь уже моя очередь задать вопрос:
– А о чем ругались вы с Лией?
Не знаю, чего я ожидала – возможно, что сейчас у него снова сделаются стеклянные глаза или он скажет, что это не мое дело. Но вместо этого Джексон отвечает:
– О моем брате. – И его тон говорит, что он не просит сочувствия и не потерпит его.
Я ожидала не такого ответа, но тут те немногочисленные фрагменты информации, которые у меня есть, складываются в цельную картину, и у меня падает сердце.
– Хадсон… был твоим братом?
Сейчас я впервые вижу в его глазах неподдельное удивление.
– Кто рассказал тебе про Хадсона?
– Лия. Вчера, когда мы с ней пили чай. Она сказала, что… – Я осекаюсь, видя ледяной холод в его глазах.
– Что именно она рассказала тебе? – Он произносит это пугающе тихо.
Я сглатываю и быстро заканчиваю:
– Только одно – что ее бойфренд умер. О тебе она ничего не говорила. Я просто предположила, что ее бойфренд может быть…
– Моим братом? Да, Хадсон был моим братом. – Тон у него сейчас ледяной, полагаю, это нужно ему для того, чтобы не показать мне, какую боль эти слова вызывают в его душе. Но я тоже пережила утрату и уже несколько недель пытаюсь делать то же самое, так что ему меня не обмануть.
– Мне так жаль, – говорю я и беру его за руку. – Я знаю, словами твоему горю не поможешь, но мне правда очень жаль, что ты так страдаешь.
Несколько долгих секунд он молчит и глядит на меня этими своими темными глазами, которые видят так много и показывают так мало. Наконец, когда я начинаю думать, что еще тут можно добавить, он спрашивает:
– Почему ты полагаешь, что я страдаю?
– А разве нет?
Опять долгое молчание. Затем он отвечает:
– Не знаю.
Я качаю головой:
– Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
Он тоже качает головой, пятится, отступает на пару футов назад. Теперь моя рука сжимает пустоту.
– Мне нужно идти.
– Подожди. – Я знаю, что мне не стоит этого делать, но все равно опять беру его за руку. – Что, ты уйдешь просто так?
Он позволяет мне держать его руку одну секунду, две. Затем поворачивается и идет к пруду таким быстрым шагом, что это больше похоже на бег.
Я даже не пытаюсь догнать его. За последнюю пару дней я уяснила, что, когда Джексон Вега хочет исчезнуть, он исчезает и мне не под силу этому помешать. Так что я поворачиваюсь в другую сторону и иду к замку.
Теперь, когда я точно знаю, куда направляюсь, путь кажется мне куда короче, чем вначале, когда я блуждала по кампусу школы. Но меня не оставляет неприятное чувство – мне чудится, что за мной следят. Что, разумеется, полная чушь – ведь Джексон двинулся в другую сторону, а Лия ушла из беседки сразу после их перепалки.