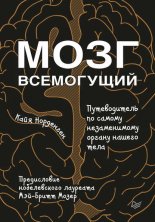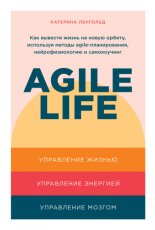Две жизни. Все части. Сборник в обновленной редакции Антарова Конкордия
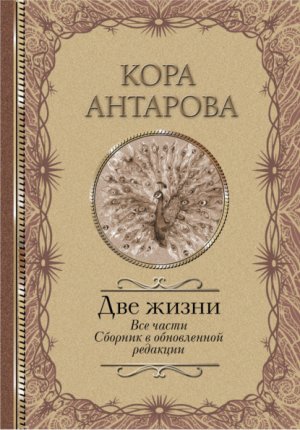
Только эти украшения и оказались подлинными.
Со всех сторон послышались изумленные и негодующие восклицания.
– Вы говорите что-то такое, чего сами, должно быть, не понимаете. Вещи, которые вы носили, выбирал я. А уж я-то – знаток, – дерзко ответил Браццано, швыряя вилку на стол.
Строганов встал с места, желая призвать наглеца к вежливости, но сэр Уоми сделал ему знак, и он покорно, молча опустился на стул.
– Быть может, вы и знаток, но меня вы обманули, – тихо, но четко и твердо произнесла Строганова.
– Это детские разговоры. За ваши драгоценности можно купить княжество. Может быть, вы станете утверждать, что и эта вещь не драгоценная? – ткнул он вилкой в сторону Анны, указывая на сверкавший на ее руке браслет.
– Эта вещь – подлинная драгоценность. Но она никогда вам не принадлежала, – раздался спокойный голос сэра Уоми. – Она была украдена; и вы отлично знаете, где, кем и когда. Это вас не остановило, и вы отдали ее одному из надувающих вас шарлатанов, чтобы он сделал из нее любовный приворот. Судя по настроению обладательницы прекрасной руки, на которую он надет, вы сами, думаю, можете убедиться, пользуетесь ли вы симпатией и каковы ваши шансы сделаться мужем Анны, – все так же спокойно продолжал сэр Уоми.
Браццано так отвратительно заскрежетал зубами, что я невольно закрыл уши руками.
– Кто же это донес вам на меня? И почему меня не арестовали, если я подбираю похищенные вещи? – дерзко выкрикнул он, весь багровый от злости.
– О том, что вы похитили эту вещь, сказал мне ее владелец. А что касается ареста, то большая часть вашей бесчестной шайки сейчас уже изловлена и главари ее бегут из Константинополя. Самый же главный из них – вы – не только ногами передвигать, но и разогнуться не может как следует.
Браццано из багрового сделался белым, потом снова то багровел, то белел от видимых усилий встать, но все равно сидел, как приклеенный, наклонившись к столу и дико вращая головой, которая одна ему еще повиновалась.
– Вот финал вашей преступной жизни, – продолжал сэр Уоми. – Вы втерлись в прекрасную, дружную, честную семью. Чудесной чистоты женщину, Елену Дмитриевну, вы погружали день за днем в подлый гипноз. Пользуясь ее робостью и добротой, вы превратили ее в сварливое, отравляющее жизнь всей семье, капризное существо. Вы развратили ее младшего сына, заманив его в сети дружбы, и сделали из них обоих себе прислужников.
Вам было дано Анандой три дня на размышления. Вы еще могли выбраться из ада своих страстей, а иначе и нельзя назвать вашу разнузданную жизнь.
Вы пленились красотой женщины и решили заманить ее в любовные сети, вызвав на бой все чистое и светлое, что защищает ее. Мы пришли сюда по вашему призыву. И теперь доказываем вам, чего стоит власть, приносимая злом, обманом, воровством, убийством, которой вы так добивались.
Вам сказали правду. Все то, что было дано вами Елене Дмитриевне, – как талисманы ваших знаний и власти, – все вздор, уничтожаемый истинным светлым знанием. Как дым разлетелся ваш суеверный наговорный вздор, оказавшийся вдобавок медью вместо золота.
Вы уверяли Леонида, что феска его ни в каком огне сгореть не может, что его черные жемчужина и бриллиант – вещи вечности.
– И сейчас утверждаю это, – прокричал Браццано, нагло перебивая сэра Уоми.
– Хотите испытать силу ваших знаний? – спросил сэр Уоми. – Хоть сию минуту, – раздувая ноздри, с видом бешеного быка орал Браццано.
– Левушка, сними феску с головы Леонида, а вы, капитан, снимите с его левой руки кольцо и положите все ну хотя бы на эту серебряную тарелку, – сказал сэр Уоми, подавая мне через стол большое серебряное блюдо, с которого он снял высокий хрустальный кувшин.
Пока мы с капитаном обходили длинный стол, чтобы подобраться к любимчику Леониду, спутник Браццано, уже давно нетерпеливо ерзавший на своем стуле, тихо говорил ему:
– Оставьте, уйдем отсюда; не надо никаких испытаний. Ведь вы опять почти согнулись.
– Замолчите, или я сейчас пристрелю вас, – зарычал Браццано в ответ.
Я подошел к Леониду, имя которого я узнал только сейчас, снял феску безо всякого труда и положил ее на блюдо.
Казалось, это очень удивило Браццано; он как будто ожидал, что феску будет не снять с головы юноши. Я вспомнил, как напялил на меня Флорентиец шапку дервиша, которую я действительно не мог снять, и поневоле засмеялся.
Мой смех лишил Браццано остатков самообладания.
– Посмотрим, засмеетесь ли вы через час, – прошипел он мне.
Капитан что-то долго не мог снять кольцо. Но сэр Уоми, перегнувшись, посмотрел пристально на Леонида – и кольцо в тот же миг лежало рядом с феской.
По указанию сэра Уоми я поставил блюдо в широкий восточный камин. Он встал, обсыпал вещи уже знакомым мне порошком и поджег.
Вспыхнуло большое, яркое пламя. Будто не одна маленькая феска горела, а целый сноп соломы. Смрад, но не от горелой материи, а точно запах падали, заставил всех зажать носы платками. Раздались два небольших взрыва, и пламя сразу погасло. Я распахнул по указанию И. окно. Через некоторое время воздух очистился, и я подал сэру Уоми блюдо, которое он велел мне отнести Браццано, что я и исполнил, поставив блюдо перед ним на стол.
Вернувшись на место, я полюбопытствовал, почему капитан так долго не мог снять кольцо. Он ответил, что если бы не повелительный взгляд сэра Уоми, он и вовсе бы его не снял. Глаза злодея Браццано жгли ему руки, как огонь; да и кольцо сидело на пальце Леонида, точно его приклеили вечным клеем.
На блюде перед Браццано лежали жалкий, скрюченный кусочек меди, осколки черного стекла и бесцветный камень, похожий на кусок граненого стекла. Фески не было и помину, если не считать горсти черной золы.
– Уйдемте, прошу вас, Браццано; или хотя бы отпустите меня, чтобы я мог привести помощь, – умолял приятель.
– Вы попросту глупец. Не видите разве, что все это шарлатанство? Что могут сделать эти шантажисты против моего амулета? – заорал Браццано, вытаскивая дрожащей рукой из жилетного кармана треугольник из золота, в котором сверкал огромный черный бриллиант.
По лицу сэра Уоми точно прошла молния. Снова его глаза стали ярко-фиолетовыми.
– Не желаете ли испытать силу вот этого талисмана? – спросил Браццано сэра Уоми, держа в руках дивный камень, сверкавший, точно молнии, в огне ламп и свечей.
– Подумайте еще раз о вашей жизни, Браццано, о всей вашей жизни; и о том, что вы делаете сейчас. Вы отлично знаете, что эта вещь украдена у одного венецианца. Вы знаете, что ее венчали когда-то крест и звезда – символы любви. Вы знаете, кто кощунствовал и надругался над этой вещью, отрубив крест и звезду, и какая судьба свершилась над ним. – Тверд, тих, почти ласков был голос сэра Уоми, и глаза его с состраданием смотрели на Браццано.
Тем временем ужин, за которым почти никто ничего не ел, кончился.
– Судьба свершилась? Глупость его свершилась, – злорадствовал Браццано. – Дуракам туда и дорога! Не Боженька ли ваш поможет вам сейчас сразиться со мною? – продолжал орать вне себя Браццано.
Он положил на блюдо свой камень, от которого словно пошли брызги всех цветов, от светлого до багрово-алого. Глаза всех были прикованы к необычайной игре дивного бриллианта.
– Ха, ха, ха! Ну, вот моя ставка за власть. Если ваш огонь превратит мой камень в такой же прах, – указывая на золу, издевался он, – продаю вам свою душу. Если же вещь сохранит свою силу, то есть мою власть, – вам не уйти, и вы мой раб, – дергаясь, с пеной у рта, орал Браццано.
Лицо сэра Уоми стало суровым; глаза метали искры не меньшей яркости, чем искры, испускаемые камнем.
– В последний раз прошу вас, несчастный вы человек, одумайтесь. Идут последние минуты, когда вы еще можете избавить себя от непоправимого зла.
Сейчас я еще в силах спасти вас, но после уже ни я и никто другой не сможет протянуть вам руку помощи.
– Ага, струсили, сэр спаситель, – хохотал Браццано. – Бессильны, так заблеяли овечкой! Ну, позовите к себе вашего Спасителя, авось тот покрепче будет.
Не успел он договорить кощунственной фразы, как Ананда подал блюдо сэру Уоми. Тот наклонился над ним, перебросил какой-то тоненькой деревянной палочкой, бриллиант на свою тарелку, придержал его этой палочкой и, достав небольшой флакон, облил чем-то бесцветным камень. Поднеся свечу, он поджег жидкость, и она горела на его тарелке тихо и ровно, точно спирт.
Браццано, не спуская глаз с огня, молчал; но лицо его выражало такую муку, будто жгли его самого.
Я посмотрел на сэра Уоми и был поражен тем выражением сострадания, которое отражалось на его чудесном лице.
Огонь погас. Сэр Уоми велел мне протереть оставшийся невредимым бриллиант и подать его Браццано.
– Что же, цел? Чья взяла? Кто кому будет теперь рабом? – хрипел Браццано, дрожащими руками вырвав у меня свое сокровище.
Но едва он прикоснулся к нему, как с диким криком уронил на стол.
– Дьявол, дьявол, что вы с ним сделали? – завопил он как зверь.
Сэр Уоми протянул руку и тихо сказал:
– Умолкни. Я предупредил тебя, несчастный человек, что теперь никакая светлая сила тебя уже спасти не может. Ты не способен вынести прикосновения любви и света и умрешь мгновенно. Последнее, чем я могу помочь тебе, – это уничтожить мерзкую связь между тобою и теми, потерявшими человеческий облик, предавшимися черной магии кощунственными существами, которым ты обещал отдать жизнь за власть, славу и богатство.
Он велел мне палочкой, которую мне подал, снять феску с головы Браццано и бросить ее в камин. Я обсыпал ее порошком и по приказанию И. вернулся на место.
– Я ничего не сделал с вашим камнем, – снова заговорил сэр Уоми. – Просто тот наговор, который – как вы уверяли – превышает все силы света, оказался ничтожным обманом, а не истинным знанием. Вы совершили два больших преступления. Вы отдали два – правда, украденных вами, – состояния и обещались быть семь лет в рабстве у шарлатана и кощунника, давшего вам камень. Теперь вы видите, куда это все привело вас. – Подойдя к камину, сэр Уоми поджег порошок. Никогда не забуду, что произошло через миг. Раздался грохот, точно разорвался снаряд. В черном дыму камина завыл ветер. Женщины вскрикнули, – но все продолжалось несколько коротких мгновений.
– Сидите все спокойно. Никакой опасности нет, – раздался голос сэра Уоми.
Когда дым рассеялся, все взоры обратились к Браццано. Совершенно идиотское и скотское выражение было на его лице.
– Возьми флакон, Левушка, протри этим платком лоб, лицо и шею несчастного, – сказал сэр Уоми, подавая мне через стол небольшой пузырек и платок.
Побеждая отвращение, с состраданием, которое разрывало мне сердце, я выполнил приказание.
Через некоторое время лицо несчастного стало спокойнее, пена у рта исчезла. Он озирался по сторонам, и всякий раз, как взгляд его падал на чудесный бриллиант, его передергивало; нечто вроде отвращения и ужаса мелькало на его лице, как будто в сверкающих лучах камня он видел что-то устрашавшее его.
Некоторое время среди царившего молчания слышалось лишь прерывистое дыхание Браццано, да изредка не то стон, не то вздох.
– Молодой человек, – внезапно обратился он ко мне, – возьмите от меня этот камень. Только в одном вашем сердце было милосердие, и вы не побрезговали мною. Я не говорю о трех этих людях, – указал он на сэра Уоми, Ананду и И. – От их прикосновения я бы умер. Но здесь сидят те, кого я баловал немало, как например любимчика Леонида. И ничего, кроме ужаса и страха, как бы моя судьба не испортила ему жизнь, я в его сердце сейчас не читаю. В одном вашем сердце, в ваших глазах я вижу слезу сострадания.
Спасибо. Возьмите эту вещь, пусть она сохранит вас в жизни, напоминая вам, как я погиб.
– О, нет, нет, этого не может быть! Не может погибнуть человек, что бы он ни сделал, если он встретил сэра Уоми. Я буду молить моего великого друга Флорентийца, наконец упрошу Али помочь вам. Прошу вас, не отчаивайтесь, – заливаясь слезами, сорвался я с места, точно подхваченный бурей. И никто не успел опомниться, как я обнял Браццано за шею и поцеловал его. Я стал перед ним на колени, призывая мысленно Флорентийца и моля его облегчить судьбу несчастного. Из глаз Браццано скатились две слезы.
– Это первый чистый поцелуй, который мне дали уста человека, – тихо сказал он. – Освободите же меня, возьмите камень, он меня невыносимо давит; пока он будет тяготеть надо мною, я жить не смогу.
Я посмотрел на сэра Уоми, вспоминая, как он говорил, что следует быть осторожным, принимая от кого-то вещи.
– Вещь, Левушка, сама по себе теперь безвредна. Но, принимая ее, ты берешь на себя обет сострадания всем несчастным, гибнущим в когтях зла. И взяв ее сегодня, ты должен будешь идти путем не только борьбы со злом, но и защиты всех страдальцев, закрепощенных страстями и невежеством, – сказал он мне.
– Когда Флорентиец бежал со мной через поля, спасая меня от смерти, он не дожидался моих просьб. Когда Ананда дал мне одежду дервиша, он нес мне милосердие, о котором я его не просил. Когда он и И. вызвались помочь моему брату, они, как и вы, сэр Уоми, шли легко и просто. Я мал и невежествен, но я рад служить Браццано – вот этому, освобожденному вами, – и не вижу в этом подвига; так же как я буду стараться защищать и утешать всех падающих под тяжестью собственных страстей.
В то время как я говорил это, я увидел, что рука спутника Браццано тянется по скатерти к камню. Зрелище этой красной, волосатой руки, выпяченных, что-то шептавших губ, с вожделением, жадностью и каким-то тайным страхом глядящих на камень выпуклых глаз и вытянутой вперед маленькой головки доктора Бонда было так отвратительно и вместе с тем мерзко-комично, – что привлекло внимание всех, и многие стали невольно смеяться.
Заметив, что его поведение все равно привлекло всеобщее внимание. Бонда привстал, еще дальше вытянул руку, но никак не мог ухватить камень. Обводя стол своими шарящими черными глазками, он сказал:
– Браццано, не делайте глупостей; подайте мне камень. Я его спрячу, а потом передам куда надо, – и снова все будет хорошо.
Он, видимо, старался переменить свою неудобную позу, но не имел сил разогнуться.
– Последняя просьба, сэр Уоми. Разрешите мальчику взять камень и развяжите меня с этим ужасным Бондой. Перед ним я не виноват ни в чем.
Скорее, он ввергал меня во все новые и новые бедствия, – сказал Браццано.
– Вы уже освобождены от всех гадов, что шипели вокруг вас. Вспомните: когда вы несли на себе этот камень, впервые став его владельцем, вы встретили высокого золотоволосого человека. Что он сказал вам? – спросил сэр Уоми.
– Я отлично помню, как он сказал мне: «Добытое кровью и страданием, кощунством и грабежом не только не принесет счастья и власти; оно несет рабство, яд и смерть самому владельцу. Если чистый поцелуй сострадающего сердца не осушит слезу на твоей щеке – страшен будет твой конец!» Тогда я не придал никакого значения этим словам и смеялся ему в лицо. Теперь – свершилось, – закончил Браццано.
– Приказать мальчику я не могу, как не внушал я ему этот поцелуй сострадания. Он сам – только он один – может решить в эту минуту свой вопрос, – ответил сэр Уоми.
Я взглянул на сэра Уоми, но он не смотрел на меня. Глаза И. и Ананды, Анны, Строганова были тоже опущены вниз. Никто не хотел или не мог помочь мне в этот трудный момент. Я взглянул на капитана и увидел, что только его глаза, полные слез, смотрели на меня так ободряюще, так ласково, что мне сразу стало легко. Я собрал все силы, позвал Флорентийца и… точно увидел его улыбающимся в круглом окне. Я засмеялся от радости, взял камень и сказал Браццано:
– Я исполню легко и весело ваше желание. Но у меня нет ничего, что я мог бы предложить взамен. Что будет в моих маленьких силах – я буду рад для вас сделать.
На лице Бонды отразилось злобное разочарование, и он убрал наконец свою руку.
– Ступайте отсюда, – тихо сказал ему сэр Уоми. – А вы, капитан, помогите Браццано добраться до дому и вернитесь сюда, – обратился он к моему доброму другу.
– Браццано, все, что я могу для вас сделать, – это помочь вам укрыться в Тироле у моих друзей. Если вы хотите, капитан даст вам каюту на своем пароходе и довезет вас до С. Там вас встретят и проводят до места, где ваши сообщники не дерзнут вас преследовать, – сказал сэр Уоми.
– Выбора у меня нет, – ответил тот. – Я согласен. Но ведь все равно меня и там найдут и убьют мои вчерашние спутники, – безнадежно, опустив голову и помолчав, прибавил он.
– Идите смело и ничего не бойтесь. Страшно не внешнее, а внутреннее ваше разложение, – все так же тихо и твердо сказал сэр Уоми.
Капитан подошел к Браццано, помог ему встать и увел из комнаты, поддерживая его согнувшееся по-стариковски тело.
Вслед за их уходом все встали из-за стола, и часть общества перешла в кабинет Строганова. Когда все сели, я увидел, что кроме моих друзей здесь только муж и жена Строгановы, Анна и Леонид.
– Анна, во многом, что произошло сегодня, есть часть твоей вины, – сказал сэр Уоми. – Два года назад Ананда сказал тебе, чтобы ты покинула этот дом и сожгла феску Леонида. Ты не сделала ни того, ни другого. Но ты одержала над собой другую победу, – и у Ананды была еще возможность взять на себя охрану твоей семьи. Когда он приехал сейчас, чтобы радостно увезти тебя в Индию, где ты должна была начать иную полосу жизни, он нашел тебя в сомнениях, ревности, мыслях о своей молодости и красоте, увядающей без личного счастья.
Тот кусок материи, что прислал Али, я не могу тебе передать. Из нее шьют в Индии хитоны людям, видящим счастье жизни в освобождении от страстей. Ты же стала жаждать страсти.
Остальное – буря, от которой тебя спас Ананда и куда ты дала себя увлечь Браццано, – то только твоя тайна; и о ней говорить я здесь не буду.
Теперь трудись еще семь лет, учись, работай в гуще простой жизни серых дней. Помоги Жанне достичь самообладания и храни пока ее детей. Помогай князю; не дичись людей и не мечтай о жизни избранных. Не скупись на музыку; расточай людям сокровища своего дара. Играй и пой им, но не бери денег за свою музыку.
Нет времени, нет пространства как ограничения на пути вечного совершенствования человека. Радуйся, что испытание пришло сейчас и раскрыло тебе самой, как шатко твое сердце.
Не плачьте, Елена Дмитриевна. Тяжелый и страшный урок вам показал, как, решившись на компромисс, будешь все глубже увязать в нем и кончишь падением.
Внесите теперь мир в свою семью, которую вы разбили. И поставьте своего младшего сына в нормальные условия, он должен трудиться. А для мужа постарайтесь быть доброй и заботливой сестрой милосердия, так как это по вашей вине он считает себя больным, на самом же деле ваш вечный страх заразил и его и выразился в мнимой болезни. – Это были последние слова сэра Уоми.
В дверях комнаты появилась высокая фигура капитана. Сэр Уоми ласково ему улыбнулся, простился со всеми, и мы вышли на улицу, отказавшись от экипажа Строганова.
Я был счастлив вырваться из этого дома на воздух. Увидя небо в звездах, вспомнил Флорентийца, как ехал с ним в повозке, ночью, по степи, к Ананде.
Каким тогда я чувствовал себя одиноким и брошенным! Теперь же, – ощутив, как нежно взяли меня под руку И. и капитан, как ласково смотрели на меня сэр Уоми и Ананда, – чувствовал себя в их защитном кольце, словно в неприступной, радостной крепости.
Я еще раз мысленно поблагодарил Флорентийца, который дал мне возможность узнать всех этих людей и жить подле них.
Глава XXIV
Наши последние дни в Константинополе
Точно в девять часов на следующий день я стучался в двери сэра Уоми.
Каково же было мое изумление, когда, вместо работы, я нашел сэра Уоми в дорожном костюме и в прихожей увидел увязанный чемодан.
В комнате был капитан, передававший сэру Уоми билеты на пароход. Он, очевидно, пришел незадолго до меня. Лицо его было очень бледно, как будто он всю ночь не спал. А я, по обыкновению, вечером провалившийся в глубокий сон, ничего не знал о том, как мои друзья провели ночь.
Заметив мой расстроенный вид, сэр Уоми погладил меня по голове и ласково сказал:
– Как много разлук пришлось тебе пережить, Левушка, за последнее время. И все ты пережил и переживаешь тяжело. С одной стороны – это показывает твою любовь и благодарность людям. С другой – говорит об отсутствии ясного знания, что такое земная жизнь человека и как он должен ценить свой каждый день, не растрачивая его на слезы и уныние.
Скоро, всего через несколько дней, ты уедешь с И. в Индию. И новые страны, через которые ты будешь проезжать, кое-где останавливаясь, и новые люди, их неведомые тебе обычаи и нравы – все поможет расшириться твоему сознанию, толкнет твою мысль к новому пониманию вещей.
Пройдет несколько лет, мы с тобой увидимся; и годы эти – твои счастливейшие годы – мелькнут, как сон. Многое из того, что ты увидел и услышал за это короткое время, лежит сейчас в твоем подсознании, как на складе. Но ты не только поймешь все, что там копишь, но и перенесешь большую часть в свое творчество.
На прощанье, мой дорогой секретарь, возьми от меня вот эту цепочку, надень на нее очищенный силой любви камень Браццано; и носи на груди, как знак вечной памяти о милосердии, обет которого ты сам добровольно принял.
Где только возможно – будь всегда милосерден и не суди никого. Любовь знает помощь; но она не знает наказаний и осуждения. Человек сам создает свою жизнь; а любовь, даже когда кажется, что она подвергает человека наказанию, – только ведет его к высшей форме жизни.
Завет мой тебе: никогда, нигде и ни с чем не медли. От кого бы из нас ты ни получил весть – выполни тотчас же приказ, который она несет; не вдавайся в рассуждения и не жди, пока у тебя где-то внутри что-то созреет. Эти промедления – только доказательство неполной верности; и ты видел, к чему привели они Анну, как разъели сомнения мост, ею же самой выстроенный, к уже сиявшему ей новому пути освобождения.
Этот камень, принесший людям столько горя и слез, очищен такой же силой любви и сострадания, какая бросила тебя в объятия гада и заставила задрожать слезу в его глазах, не знавших никогда пощады. Твой поцелуи принес ему привет закона вечности: закона пощады.
На этой цепочке, кажущейся тебе столь великолепной, сложены слова на языке, которого ты еще не знаешь. Они значат: «любя побеждай». Я вижу, – засмеялся сэр Уоми, – ты уже решил изучить этот язык.
– Ах, сэр Уоми, несмотря на кашу в моей голове и огорчения, одним из которых является разлука с вами, я ясно сознаю, как я невежествен. Я уже дал себе однажды слово изучить восточные языки, когда ничего не понимал в речах Али и Флорентийца. Теперь этому моему слову пришло новое подкрепление.
И я подставил шею сэру Уоми, надевшему мне собственной рукой камень с цепочкой.
– Этот камень был украден у Флорентийца. На вершине треугольника были еще крест и звезда из изумрудов. Когда ты приобретешь полное самообладание и такт, ты, по всей вероятности, получишь их из рук самого Флорентийца. Теперь же он просил меня надеть камень милосердия тебе на шею. А моя цепь пусть свяжет тебя со мной.
В любую минуту, когда тебе будет казаться, что трудно воспитать себя, что недосягаемо полное бесстрашие, – коснись этой цепочки и подумай о моей любви и верности тебе. И сразу увидишь, как, единясь в красоте и любви, легко побеждать там, где все казалось непобедимым.
Он обнял меня, я же едва сдерживал слезы и был полон такой тишины, мира и блаженства, какие испытывал минутами только подле Флорентийца.
В комнату вошли И. и Ананда. Лица их были совершенно спокойны, глаза-звезды Ананды сияли, как и подобает звездам; и оба они, казалось, совсем не были расстроены предстоящей разлукой с сэром Уоми.
Этого я никак не мог взять в толк. Поглядев на капитана, я увидел на его лице отражение своей собственной скорби. Как ни ценил я своих высоких друзей, но с капитаном чувствовал себя как-то в большем ладу, чем с ними.
Мне казалось, что непереступаемая грань лежит между мною и ими; точно стена иногда отделяла меня от них, а между тем никто из них преград мне не ставил ни в чем.
Ананда взглянул на меня – опять точно череп мой приподнял – и смеясь сказал:
– Стена стене рознь.
Я покраснел до корней волос, И. и сэр Уоми улыбнулись, а капитан с удивлением смотрел на меня, не понимая ни моего смущения, ни реплики Ананды, ни улыбок остальных.
Глубоко растроганный напутствием сэра Уоми, я не сумел выразить ничем своей благодарности вовне. Я приник устами к его маленькой, очаровательно красивой руке, мысленно моля его помочь мне сохранить навек верность всему, что он сказал мне сейчас.
Вошел слуга сэра Уоми и доложил, что князь прислал спросить, может ли он видеть его. Сэр Уоми отпустил нас всех до двенадцати часов, прося зайти к нему еще раз проститься, так как в час его пароход отходит. Он приказал слуге просить князя, с которым мы столкнулись в дверях.
Мне было тяжело, и я инстинктивно жался к капитану, сердце которого страдало так же, как мое. Среди всех разнородных чувств, которые меня тогда раздирали, я не мог удержаться, чтобы не осудить равнодушие моих друзей при разлуке с сэром Уоми.
Как мало я тогда разбирался в душах людей! Только много позже я понял, какую трагедию победило сердце Ананды в это свидание с сэром Уоми. И какой верной помощью, забывая о себе, были и он, и И. моему брату во все время моей болезни в Константинополе и до самого последнего вечера, когда столкновение с Браццано дошло до финала у Строгановых.
И. не говорил мне, что погоня за нами все продолжалась и концы ее были в руках Браццано и его шайки. Как потом я узнал, ночь перед отъездом сэра Уоми все мои друзья провели без сна. Они отдали ее капитану, наставляя его к будущей жизни, а также объясняя ему, где и как он должен оставить Браццано.
И. не сказал мне ни слова, а самому мне было невдомек, как тревожила его дальнейшая жизнь Жанны и Анны и всей семьи Строгановых, поскольку своим участием во всем этом деле он брал на свои плечи ответ за них.
– Ничего, Левушка, не смущайся. Ты уже не раз видел, как то, что кажется, вовсе не соответствует тому, что есть на самом деле, – сказал мне И.
Я посмотрел ему в глаза – и точно пелена упала с глаз моих.
– О Лоллион, как мог я только что почувствовать какое-то отчуждение? И я мог подумать, что ваше сердце было равнодушно?
– Не равнодушием или горечью и унынием движется жизнь, а радостью, Левушка. Той высшей радостью, где нет уже личного восприятия текущей минуты; а есть только сила сердца – любовь, – где ни время, ни пространство не играют роли. Любовь не судит; она радуется, помогая. Если бы я не мог забыть о себе, а стонал и горевал бы о том, что разлука с сэром Уоми лишает меня общества любимого друга и его мудрости, – я бы не имел времени думать о тебе, твоем брате, Жанне, княгине и еще тысяче людей, о которых ты и не подозреваешь в эту минуту.
Живой пример великого друга сэра Уоми, который ни разу за все время моего знакомства с ним не сосредоточил своей мысли на себе; который сам делал все, о чем говорил другим, вводил меня в тот высокий круг активной любви, где равнодушие, уныние и страх не существуют как понятия.
Капитан с Анандой повернули в сад, мы же с И. пошли к себе. Я рассказал ему все, о чем говорил мне сэр Уоми, и показал подаренную им цепочку, которую он сам, продев в нее камень, надел мне на шею.
– Вот тебе, Левушка, наглядный пример того, какая разница между тем, что только кажется людям справедливостью, и тем, что на самом деле происходит по истинным законам целесообразности. Чтобы получить такую цепочку, тысячи людей затрачивают годы жизни. Иногда они всю жизнь добиваются победы над какими-то своими качествами, мешающими им двигаться дальше: трудятся, ищут, падают, борются, – наконец этого достигают, как кажется им и окружающим. А на самом деле, перед лицом истинных законов жизни, – стоят на месте.
Ты, мальчик, ничем – по законам внешней справедливости – не заслужил того счастья, которое льется на тебя как из рога изобилия. Ты и сам не раз за это время, окруженный высшим счастьем, считал себя одиноким и несчастным, – ласково говорил И.
К нам вошел капитан, но, заметив, что у нас идет серьезный разговор, хотел уйти к себе.
– Вы не только не помешаете, дорогой капитан, но я буду рад, если вы побудете с Левушкой до прихода парохода. Ни вам, ни ему не следует провожать сэра Уоми, так как он еще многих должен принять; а для Хавы, которая задержится здесь еще несколько дней и, быть может, отправится домой на вашем пароходе, у него останется только несколько минут пути от дома до набережной. Я не сомневаюсь, что обоим вам это тяжело; но ведь вы оба достаточно осчастливлены. Берегите свое счастье и уступите немного другим.
И. вышел, и мы остались вдвоем с капитаном. Обоим нам было одинаково тяжело, что мы не проводим сэра Уоми и не будем видеть его милого лица до последнего мгновения. Капитан курил папиросу за папиросой, иногда ходил по комнате и ерошил свои и без того торчавшие ежиком волосы.
Мы внутренне приводили себя в порядок, как бы совершая свой духовный туалет перед последним свиданием с сэром Уоми в двенадцать часов, как им было назначено. Наконец, я решился прервать молчание и сказал:
– Капитан, дорогой друг, не сердитесь, что я нарушаю молчание, хотя и вижу, что вам совсем не хочется говорить. Но мне надо поделиться с вами, какими мыслями я сейчас жил и как нашел в них успокоение.
Каждый из нас получил от сэра Уоми так много. Лично мне одно его присутствие давало даже физическое ощущение блаженства. Не говоря уже о совершенно особенном состоянии внутреннего мира, когда все кажется понятным, ничего не нужно, кроме как следовать за ним. Я понял сейчас, что это станет возможным только тогда, когда я самостоятельно решу свои жизненные вопросы.
Когда научусь твердо стоять на собственных ногах, не ища помощи со всех сторон, как это делаю сейчас.
Должно пройти какое-то время, и я определю для себя свой путь в творчестве, найду силы крепко держать себя в руках, – вот тогда я могу пригодиться сэру Уоми, как ему нужны сейчас И. и Ананда.
Я рад, что первое легкое испытание меня больше не расстраивает. Сколько времени пройдет до нового свидания с сэром Уоми, не знаю, но я думаю только об одном: достойно прожить каждую минуту разлуки, не потеряв ни мгновения попусту.
– Ты совершенно прав, друг; надо быть достойным всего того, что мы получили от сэра Уоми, Ананды и И. Но ты теряешь только одного из них, а я теряю не только всех троих, но и тебя. С кем могу я теперь, когда я понял глубочайший смысл жизни, поделиться своими новыми мыслями? Я и прежде-то был замкнут и носил прозвище: «ящик с тайнами». Кому же теперь я могу высказывать свои мысли, как буду искать тот путь единения, о котором говорят мои новые друзья?
– Я, конечно, ничего еще не знаю и мало чего понимаю, капитан. Но я видел, как стал вам понятен язык музыки. У вас появилась теперь новая платформа для понимания Лизы и ее матери. И вы сами как-то говорили, что много думаете о Лизе и написали ей письмо.
Это раз. Второе – разве между вами, мною и еще сотней простых людей и нашими высокими друзьями лежит пропасть? Хоть раз вы видели, чтобы они показали людям свое превосходство? Чтобы они презирали кого-то? Или обошли своей помощью, если могли помочь? Хоть раз вы их видели тяготящимися той или иной встречей? Так и мы; сколько можем, должны стараться следовать их примеру.
Третье – если я теряю сэра Уоми и Ананду, сохраняя близость И., то из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял только одно: люби до конца, будь верен до конца, не бойся до конца, – и жизнь пошлет вознаграждение, какого не ждешь и откуда не ждешь.
– Мальчишка мой, милый философ! Пока я еще ни разу не любил до конца, не был верным до конца и не был храбрым до конца; а утешение от твоей кудрявой рожицы уже получил, – весело расхохотался капитан. – Ну, вот что. Скоро одиннадцать. Поедем-ка в садоводство и привезем цветов, Левушка.
– Ох, капитан, у сэра Уоми в его собственном саду такие цветы, что лучше уж нам не срамиться.
Капитан напялил мне на голову шляпу, мальчишески засмеялся и потащил на улицу.
Очень быстро мы нашли коляску и покатили к его другу – садоводу.
Подгоняемый обещанным вознаграждением, кучер забыл о своей константинопольской лени, и вскоре мы предстали перед садоводом.
Капитан оставил меня у деревца с персиками, которые хозяин любезно предложил мне есть сколько хочется, и они ушли в оранжерею.
Не успел я еще насладиться как следует персиками, как он появился, неся цветы в восковой бумаге. Хозяин уложил их в корзиночку с влажной травой, обвязал и подал мне. Она была довольно тяжелая.
Когда мы ехали обратно, я спросил моего спутника, почему он не показал мне цветы, точно это была заколдованная красавица.
– Цветы эти и есть красавицы. Они очень нежны и так чудесны, что ты немедленно превратился бы в «Левушку-лови ворон», если бы я тебе их показал. А у нас времени в обрез.
– Ну, хоть скажите, как зовут ваших таинственных красавиц? – спросил я с досадой.
Капитана рассмешила моя раздраженность, и он сказал:
– Философ, их зовут фрезии. Это горные цветы, их родина Индия. Но если ты будешь сердиться, из белых они станут черными.
– Ну, тогда вам придется подарить их Хаве; сэру Уоми черных красавиц больше не надо. Довольно и одной, – ответил я ему в тон.
Капитан весело смеялся, говорил, что я все еще боюсь Хавы и что, наверное, мое «не бойся до конца» относится к обществу Хавы.
– Очень возможно, – ответил я, вспоминая письмо Хавы, которое я получил в Б. – Но, во всяком случае, если она когда-нибудь и будет жить в моем доме, то я буду ее бояться меньше, чем вы боитесь сейчас Лизы и всего того, что должно у вас с нею произойти, – брякнул я, точно попугай, которых носят по Константинополю, они вытаскивают билетики «судьбы» и подают любопытным их будущее в виде свернутой в трубочку бумажки.
Удивление капитана было столь велико, что он превратился в соляной столб.
Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мы не подъехали в эту минуту к дому и не встретились с Анандой и Хавой, шедшими к сэру Уоми.
– Возьмите ваших красавиц, – сказал я, подавая капитану цветы.
– Каких красавиц? – спросил Ананда.
– Белых, для сэра Уоми, если они еще не почернели, – очень серьезно сказал я. – Если же почернели, то…
– Замолчишь ли ты, каверза-философ?! – вскричал капитан.
Хава заинтересовалась, каких это еще красавиц не хватало сэру Уоми.
– Горных, – шепнул я ей.
– Нет, это невыносимо! Неужели вы притащили ему козленка? – смеялась она, обнажая все свои белые зубы.
– Вот-вот, из самой Индии; если только этот козленок не позавидовал вашей коже и не сделался черным.
– Левушка, ну есть же границы терпению, – воскликнул капитан, начиная чуть-чуть сердиться.
Ананда погрозил мне, взял из моих рук корзинку и развязал ее. Вынув цветы из бумаги, он сам издал восклицание восторга и удивления.
– Фрезии, фрезии! – закричала Хава. – Сэр Уоми очень хотел развести их у себя в саду! Ему будет очень приятно. Да они в горшках, в земле и во мху! Ну, кто из вас выдумал такого козленка, тот счастливец. Если бы я умела завидовать, непременно позавидовала бы.
– Пожалуйста, не завидуйте, а то вдруг они и вправду почернеют, – сказал я, любуясь какими-то невиданными роскошными цветами. Крупные, белые, как восковые, будто тончайшим резцом вырезанные колокольчики необычайной формы наполнили прихожую ароматом.
Капитан взял один горшок, мне дал другой. Когда я стал отказываться, уверяя, что идея и находка – его, он улыбнулся и шепнул мне:
– Одна фрезия – я; другая – Лиза. Вы шафер. Идите и молчите наконец.
– Ну, уж Лиза – фрезия, – куда ни шло. Но вы, – вы ужасно любимая, но просто физия, – так же шепотом ответил я ему.
– Эти китайчата будут до тех пор разводить свои китайские церемонии и топтаться на месте, пока не опоздают, – сказал Ананда с таким веселым юмором, что мне представилось, будто его тонкое, музыкальное ухо уловило, о чем мы шептались. Я не мог выдержать, залился смехом, которому ответил смех сэра Уоми, отворившего дверь своей комнаты.
Увидав наши фигуры с горшками цветов, имевшие, вероятно, довольно комичный вид, сэр Уоми сказал:
– Да это целая свадьба! – Он ласково ввел нас в комнату, взял у каждого цветок и обоих обнял, благодаря и говоря, что разведет по клумбе фрезии в своем саду, присвоив им название морской и сухопутной.
Очень внимательно осмотрев цветы, сэр Уоми позвал своего человека и вместе с ним упаковал их в нашу корзинку, обильно полив водой и цветы, и прикрывавшую их траву, приказав завернуть корзинку в несколько слоев бумаги и в грубое мокрое полотно. Слуга исполнил приказание и вместе с вынырнувшим откуда-то Верзилой, взявшим чемодан, пошел на пристань.
Много народа было здесь. Были и такие, кого я совсем не знал; кое-кого видел мельком; а из хорошо знакомых присутствовали только турки, Строганов и князь.
Для каждого у сэра Уоми находилось ласковое слово. Мне он сказал:
– Ищи радостно – и все ответит тебе. Цельность чувства и мысли скорее всего приведут тебя к Флорентийцу. О брате не беспокойся. Выработай ровное отношение к нему. Наль – не Анна.
Я приник к его руке, ошеломленный этими словами, служившими ответом на самые затаенные мои мысли.
Все проводили сэра Уоми до коляски, в нее сели И., Ананда и Хава. Я спросил И., не навестить ли нам с капитаном Жанну, на что он ответил одобрением, сказав, что зайдет с Анандой за нами.
Экипаж завернул за угол и скрылся из глаз. Вздох сожаления вырвался у всех, а князь плакал, как ребенок. Я подошел к нему и предложил пойти с нами к Жанне, говоря, что туда приедут И. с Анандой, как только проводят сэра Уоми.
Он согласился, попросил подождать его несколько минут, видимо, обрадовавшись случаю не оставаться сейчас дома. Я понимал его состояние, потому что у самого горла ощутил рыдание и подавил его с большим трудом. Как ум ни говорил мне, что надо сделать над собой усилие и перейти в иное, не унылое настроение, – ощущение мое снова было близким к тому, что я испытывал в комнате брата, сжигая письма.
– Какая страшная вещь – разлука, – услышал я голос капитана, как бы отголосок собственной мысли.
– Да. Надо что-то понять, какой-то еще неведомый нам смысл всего происходящего. Научиться воспринимать все так, как говорит и делает сэр Уоми: «Не тот день считай счастливым, который тебе принес что-то приятное; а тот, когда ты отдал людям свет своего сердца». Но мне до этого еще так далеко, – сказал я со вздохом.
– Для тебя далеко, – задумчиво ответил мне капитан, – а для меня, боюсь, и вовсе недостижимо.
Князь вышел к нам, извиняясь, что заставил ждать, и мы пошли по знойным, как раскаленная печь, улицам, ища тени, что мало, впрочем, помогало.
В магазине мы застали обеденный – или вернее, связанный с жарой, как всюду в Константинополе, – перерыв. Анна сидела внизу у шкафа, в кресле, за работой, а Жанна все еще лежала наверху, хотя уже поднималась ненадолго и пыталась работать.
Анна была бледна, она похудела. Но в глазах ее уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же, во время разговора с сэром Уоми.
На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась и протянула ему левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов.
Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом.