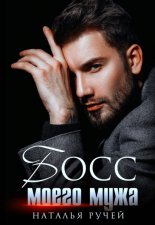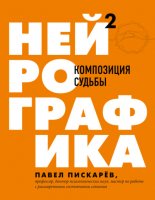Ореховый Будда Акунин Борис

Сказано это было по-японски.
Хамамати Синэяро
Жизнь у всех начинается по-разному – если, конечно, считать тех, кто вообще живет, а не бессмысленно хлопает глазами, дожидаясь смерти. Девяносто девять человек из ста рождаются лишь физически, их дух так и остается непробудившимся. Они ходят, едят, плодят потомство, смеются, плачут, испытывают какие-то чувства, но совершенно ничем не отличаются от животных.
Был когда-то таким и Синэяро. Его второе, настоящее рождение, от которого и следует считать настоящую жизнь, произошло почти четыре дзюниси назад, зимним вечером, на берегу грязной речушки в прибрежном квартале Нагасаки.
Десятилетний уличный воришка по имени Дзимбэй залез в широкий рукав кимоно к толстому, сонному бонзе, потому что опытным глазом угадал там покачивание кошелька. Вдруг бонза неожиданно быстрым движением схватил проныру за ворот. Мальчишка укусил мягкую, но сильную кисть в самое болезненное место, в костяшки пальцев, но монах не закричал, а хихикнул. Взял паренька за тонкую шею и легко оторвал от земли. Повертел так и сяк, словно котенка, разглядывая.
– Ты что за чудо такое? Глаза круглые и нос, как у каппы.
«Каппой», носатым круглоглазым водяным чертом, Дзимбэя обзывали часто. Его отцом был неизвестный южный варвар с островка Дэдзима, матерью – глупая портовая шлюха, сдуру нагулявшая брюхо. Она давным-давно сдохла, туда ей и дорога. Дзимбэй вырос на улице. За «каппу» он всегда дрался и сейчас тоже лягнул толстяка в пах, со всей силы, но бонза опять только засмеялся.
– Злющий, чертенок. Тебя как звать?
– Синэ, яро! (Сдохни, сука!) – просипел полузадушенный Дзимбэй, поняв, что попался крепко и что судьба ему висеть на Поганом Болоте, где распинают пойманных воров.
– Хорошее имя. Что-то в тебе есть, – сказал бонза, оглядываясь вокруг, будто только что спустился с неба на землю. – Это что тут у нас? Квартал Хамамати? Буду звать тебя «Хамамати Синэяро».
Взял дрыгающего ногами сорванца под мышку, будто куль с рисом. Понес.
Так Синэяро встретился с Учителем и пробудился к настоящей жизни. А правильнее сказать, попал из скучного, бессмысленного сна в сон осмысленный и интересный.
Всему, что он знал и умел, юношу обучили в храме Коосин-дзи, принадлежащем к великой школе Мансэй, которая единственная из всех течений буддизма учит человека жить без страхов и самоослеплений. Учит Истине.
Представления других учений о Добре и Зле мутны и ошибочны. Всё очень просто. Добро – быть сильным; Зло – быть слабым. Хорошее – то, что делает тебя сильнее. Плохое – что делает слабее. Глупцы из ложного ответвления Мансэй-ха, извращают суть заветов Первоучителя. Он открыл, что всё на свете – плод твоего воображения. Но если так, то тобою же придуманы и все чужие жизни, а может ли иметь какую-то ценность придуманное?
На этот вопрос школа Коосин отвечает: да, если чужая жизнь помогает тебе на твоем Пути, то есть делает тебя сильнее. А все химеры, отнимающие у тебя силу – любовь, жалость, сострадание, – вредны, и от них надо избавляться.
– Поэтому у меня нет семьи и нет детей, – говорил юному Синэяро Учитель. – Только ученики. Я учу вас быть сильными. Каждый удачный ученик – еще один шаг на моем Пути.
Храм школы находился в Нагасаки и назывался Домом Пустоты, потому что моления в нем возносились Алтарю Пустоты – совершенно пустой нише, которую однажды займет Курумибуцу-сама.
Реликвией владели беззубые извратители великого учения, обманом захватившие Орехового Будду и украсившие им свой храм в Хирадо. Это и хорошо. Пустота порождает голод, а голод придает сил. Сытый никогда не совершит деяний, на которые способен голодный.
Тысячу лет служители школы ждали дня, когда Курумибуцу попадет в свой истинный дом. Пророчества мудрых старцев Коосин-дзи предвещали, что в великий день, когда святыня перейдет из слабых, лживых рук в сильные и правдивые, изменится Великий Баланс мировых сил. Но о том, когда это произойдет – может быть, еще через тысячу лет, – пророчества умалчивали.
Когда Синэяро сравнялось двадцать лет, Учитель отвел его к отцу Настоятелю и сказал: «Он силен и храбр, он прошел два этажа знаний и готов к третьему. Каким Путем ему идти?».
Оторвавшись от свитка со старинными письменами, Преподобный мельком взглянул на юнца.
– Его Путь написан на его уродливом лице.
И снова сгорбился над своим чтением. Отец Настоятель говорил мало и никогда ничего не объяснял: понимающие поймут, а непонятливым незачем.
Несколько дней Учитель размышлял над смыслом этих слов. Потом вызвал к себе ученика и сказал:
– Отец Настоятель мудр. Ты не похож на японца, ты похож на южных варваров. Они богаты и полезны своими знаниями о внешнем мире, для нас закрытом. На островке Дэдзима, где живут варвары, у нас никого нет, и это упущение. Ты будешь жить среди соотечественников твоего отца. Стань среди них своим, но оставайся нашим.
Так определился Путь монаха Хамамати. Он не роптал, потому что жалость к себе – зло, слабость. Стиснул зубы, укрепил дух и отправился жить на крошечный остров, к чужим, невежественным недолюдям, чтобы сделаться таким же, как они. Тяжелая доля.
Юный Синэяро поступил в факторию Ост-Индской компании слугой. Выучил голландский язык, тайно принял христианство (за такое японский закон карал смертью). Островитяне стали звать туземца Маартеном. Он был расторопен, честен, смышлен, исполнителен. Обучился бухгалтерии, стал помощником у фактора Ханса Ван Эйкена, который привязался к молодому человеку, а перед смертью, по завещанию, усыновил его. Так Маартен без фамилии стал Маартеном Ван Эйкеном. Из Голландии приезжали новые люди, старые уезжали. За двадцать лет население островка раз пять или шесть переменилось, и Синэяро стал главным старожилом. Все забыли, что когда-то херр Ван Эйкен был японцем. Он считался ценнейшим и незаменимейшим сотрудником фактории, потому что единственный владел трудным местным языком, и никто уже не помнил, как это получилось.
Но раз в неделю, ночью, Маартен Ван Эйкен тайком перелезал через стену, вплавь добирался до берега и вновь становился монахом Хамамати Синэяро.
До рассвета он оставался среди своих, настоящих своих. Докладывал о событиях в фактории, отдыхал духом, напитывался силой и делал упражнения, необходимые для того, чтобы не растерять навыки боя.
Он думал, что таков будет весь его Путь: быть собой по нескольку часов в неделю, а всё остальное время существовать в странном, неприятном сне, тайным пришельцем среди обитателей другого мира.
Но карма готовила для Синэяро иное, величественное предназначение. Его верность и сила были вознаграждены – и так щедро, что Путь озарился ослепительным сиянием.
Однажды ночью приплывшего с Дэдзимы лазутчика провели прямо к преподобному. Это, конечно, был другой настоятель – тот, молчаливый, давно ушел к Будде. Нынешнему едва перевалило за пятьдесят, над свитками он не сидел, двигался быстро и говорил много.
– Произошло то, чего мы ждали тысячу лет, – сказал преподобный, сияя счастливой улыбкой. – Не знаю, чем именно я, сорок девятый настоятель Коосин-дзи, заслужил такую награду, но именно в мое правление Ореховый Будда может попасть в свой истинный дом. А ты, Хамамати, можешь стать рукой, которая исполнит это великое дело!
Он рассказал, что хирадские слабаки надоели Будде, и он их покинул. Блюститель алтаря Семи Покровов, раб слабости, выкрал реликвию. Это случилось еще месяц назад, но стало известно только сейчас, потому что извратители скрывают пропажу. Однако у Коосин-ха там тоже есть соглядатай, Путь которого еще труднее, чем служба у южных варваров, потому что этот мужественный брат вырывается к своим не каждую неделю, а лишь раз в месяц. Он и сообщил великую новость.
Тайное расследование выявило, что вор отдал Орехового Будду в единственное место, куда нет хода японцам – на остров Дэдзима. Не вездесущая ли карма поместила туда монаха Синэяро еще двадцать лет назад?! Он – единственный, кто может, кто должен найти святыню и доставить ее в Коосин-дзи, во исполнение великих пророчеств!
Хамамати слушал, утирая слезы, и думал: «Какой прекрасный сон, я не хочу от него пробуждаться!»
В последующие месяцы он искал Орехового Будду по всей Дэдзиме. Не спал ни одной ночи. Незаметно и беззвучно обыскивал каждый дюйм, заглянул под каждую доску пола, обполз каждый ярд двора, простучал все стены, прощупал пальцами швы и подкладки всей одежды, какая только была на острове, перерыл все хранилища и склады.
Реликвии нигде не было.
Но однажды Синэяро подслушал тихий разговор между опперхофтом Де Восом и херром Мангусом, главным бухгалтером и контролером Компании. Тут-то и стало ясно, почему раньше срока вернулся на родину вице-директор Ван Ауторн. Курумибуцу отправился в Голландию!
В ту же ночь Синэяро доложил об этом преподобному и получил благословление на дальнюю дорогу.
– Значит, при мне Курумибуцу-сама в храм Коосин-дзи, скорее всего, не вернется, – грустно молвил отец Настоятель. – Я никогда никому не завидовал, а тебе завидую. Твой Путь будет долгим и трудным, он может занять годы, но ты полетишь, как стрела в мишень, и попадешь в нее. Это великое счастье. Лети, Синэяро, и не промахнись.
Стрела сорвалась с тетивы не сразу. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем незаменимого херра Ван Эйкена наконец отпустили в Голландию. Еще полгода корабль Ост-Индской компании плыл на другой конец мира, в несусветно далекую страну, которую Синэяро так сильно ненавидел.
Сойдя на берег в Амстердаме, он в первую же ночь наведался в дом бывшего фицеопперхофта. Прокрался в спальню, где Ван Ауторн мирно почивал рядом с супругой. Женщину Синэяро убил сразу, чтоб не мешала. Потом разбудил Ван Ауторна, обездвижил его точным ударом в парализующую точку и некоторое время помучил, чтобы сделать разговорчивым. Кричать голландец не мог, только кряхтел и обливался слезами.
Прежде чем вернуть ему способность двигаться и говорить, Синэяро сказал:
– Считай, что это предсмертная исповедь. Хочешь умереть легко – ничего не утаивай. Я умею читать правду по глазам. Меня учили.
Ван Ауторн рассказал всё, что знал. Он был слишком труслив, чтобы врать. И Синэяро выполнил свое обещание – прекратил эту более ненужную жизнь одним ударом.
Значит, реликвию украла блудница, которую зовут Марта Крюйткамер.
Значит, здесь уже побывал японец, несомненно кто-то из хранителей Мансэй-дзи. И про Марту он тоже знает.
Имя шлюхи звучало многообещающе. Она – Марта, он – Маартен. Улыбка кармы. Встревожил только неизвестный хранитель. Это препятствие посерьезней всех голландцев вместе взятых. Хранители храма Мансэй-дзи свое дело знают, у них тысяча лет опыта. Но у Синэяро было преимущество. Хранитель и не догадывается, что здесь, в тысячах ри от Японии, по тому же следу движется путник из Школы Твердого Сердца.
Воровку со странным прозвищем Синэяро не нашел, но скоро отыскал ее подружку, тоже шлюху, по имени Фимке. Оказалось, что хранитель у нее уже побывал, с месяц назад, в декабре. Убивать толстуху было незачем, за гульден она всё охотно рассказала и показала полученное письмо, но Хамамати тем не менее сломал ей шею. Пользы от продолжения этой жизни ему теперь никакой не было, а вред произойти мог. Если бы монах школы Мансэй-ха не был слабаком и слюнтяем, он убил бы эту Фимке, и Синэяро никогда не узнал бы, что Курумибуцу отправился в Московию.
Конечно же, хранитель последовал за Буддой. Нанимаясь на царскую службу у русского комиссара, Синэяро сразу это выяснил. Узнал он и на какое имя выписан пропуск: корабельного боцмана Тимма Япанера, а жалованья ему обещано сто рублей в год с кормом.
Приказчика Ост-Индской компании, первого на весь мир купеческого товарищества, комиссар оценил дороже: посулил чин коммерциенрата на четырехстах рублях с дровами, которые в Московии из-за зимних холодов дороги.
Из Маартена Ван Эйкена он превратился в служилого иноземца Мартына Ванейкина и весною был уже в Москве. Пользоваться дровяным жалованьем не собирался, так как думал не застревать в северной стране до следующих холодов…
Хээ, если посчитать, сколько дерева было сожжено в печах с тех пор, наверное, хватило бы выстроить целый русский город.
Хранителя-то Синэяро отыскал быстро, приезжему японцу в московском царстве затеряться трудненько. Тот теперь звался Артемием Будановым и служил не матросом – толмачом. Но голландская жена опального царского денщика Трехглазова бесследно сгинула. Исчез вместе с ней и Курумибуцу. Где их искать – неведомо.
Должно быть, Буданов что-то про это знал. Следя за ним, Синэяро видел, как толмач что-то вынюхивает, повсюду шныряет, но только и у хранителя ничего не получалось.
Другой зацепки, однако, не было – только издали зорко наблюдать за действиями ни о чем не подозревающего соперника.
Выучив местный язык и присмотревшись к устройству русского государства, Синэяро понял, что коммерцией здесь заниматься не нужно, а нужно сделаться одним из преображенских мэцукэ, потому что в этой державе настоящая сила у царских ищеек. С навыками монаха школы Коосин-ха преуспеть на этой службе было легко.
Трудней всего было устроить так, чтобы дотошного розыскальщика Ванейкина не усылали из Москвы. Нельзя было ему оставлять хранителя без присмотра. Оттого-то, числясь у начальства средь первых нюхачей, Мартын Ванейкин больших чинов не выслужил. А и на что они Путнику? Когда посольских толмачей отправили в новую столицу, он и вовсе перевелся в Санкт-Петербургское филерское ведомство с понижением, потому что Преображенский первое время оставался в Москве.
Сколько раз за эти бесконечные годы падал духом – не счесть. Очень хотелось вернуться домой. Ореховый Будда покинул Японию навсегда, это же ясно. Он не достался секте Коосин, но не вернется и к своим лжепоследователям. Настоятелю – наверняка уже новому – это будет утешением.
Но то был голос слабости.
Что, если вернешься в Японию, а через какое-то время, может быть, годы спустя, объявится Буданов и привезет своим найденную реликвию? Не покидает же он Россию – значит, на что-то надеется?
На самом деле упорство Буданова и удерживало притомившегося Путника в чужой холодной стране. Не мог монах Школы Твердого Сердца оказаться слабее!
В конечном итоге сила всегда вознаграждается, а сильный оказывается победителем.
Однажды средь приказного люда – все в Санкт-Петербурге друг друга знали – пронесся слух, что толмач Артемий Буданов пропал невесть куда. Подумали, замерз где-нибудь в сугробе спьяну, такое бывало. Но Синэяро догадался: хранитель взял след.
Стал расспрашивать – узнал, что накануне пропавший толмачил в допросной избе.
Сел с дознавателем Гололобовым, который был там с Будановым, припугнул. Преображенские – они только против овцы молодцы, а фискальных боятся. Всё выложил Гололобов, пересказал всю ихнюю беседу, слово в слово.
И затрясся Синэяро, услышав про огненно-рыжую покойницу и новорожденного младенца с орехом на шее.
Так вот куда отправился хранитель! Искать старца Авенира!
Служителю фискального ведомства искать иголку в сене легче, чем беглому толмачу, сказал себе Синэяро. И не пустился по следу Буданова, а решил опередить его, найти раскольничьего «кормщика» раньше.
Фискалова служба чем лучше преображенской? Те – будто охотничьи псы. Когда надо затравить зайчишку, загнать волка, задрать медведя, хозяин спускает преображенских с поводка: вон добыча, взять! И они несутся к цели. Не то фискалы. Эти задуманы иначе. Они как охотничьи соколы, которых подбрасывают в небо, чтоб летали на вольном крыле где хотят, выискивали поживу сами и, если углядят, сами же решали, когда на нее ринуться. В государевом указе о фискалах им предписано изыскивать всё, «что во вред государственному интересу быть может, каково б оное имени ни было». Как в сказке: поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Но принеси.
И Мартын Ванейкин приносил. Обнаруживал и кривды, и каверзы, и разные казенные кражи, за что от главного фискала Нестерова ему доверие было, а догляда не было. Хоть на несколько месяцев исчезни, начальник будет знать: Ванейкин где-то роет и вернется с добычей.
Поэтому никакого позволения спрашивать он не стал, а собственным хотением разослал всем провинциал-фискалам письмо с запросом: не объявлялся ли где раскольничий «кормщик» именем Авенир, пятнадцать лет назад уводивший стрельчих из Москвы, а лет тому Авениру, коли жив, по преображенским допросным сказкам, пятьдесят иль шестьдесят, ростом высок, сложением тощ, власом бел, гласом шепеляв, а зубов у него во рту только един иль меньше.
Разослав письмо, Синэяро злорадно думал про хранителя: побегай по Руси в одиночку, поищи ветра в поле. Сколь изобретателен и ловок ни будь один человек, а государственный невод всегда ухватистей. Царь Петр тем и велик, что понял эту истину: решил превратить расхристанную, беспорядочную страну в стройный бакуфу, как это сделал сто лет назад в Японии великий Иэясу. Конечно, России еще далеко до японского порядка. Там от самого сияющего верха до самого глухого низа расходятся лучи государственного присмотра, вплоть до каждого пятидворья, за которым бдит свой наблюдатель. Однако ж и русские учатся, стараются.
Так-то оно так, но премудрый фискал Ванейкин не учел одной русской особенности, с которой ничего не мог поделать и сам царь. Столичные приказы понизу схватывались рьяно, да выполнялись бестолково. Всякий местный начальник думал не о том, как лучше справить дело, а как бы не получить по шапке и как бы заслужить награду. Страха и алчности у российских казенных людей много больше, чем ума. И главное правило такое: поскорей доложи наверх об исполнении.
Потому из всех десяти губерний в Санкт-Петербург пришли бодрые донесения, что «кормщик» сыскан, а некоторые особенно усердные доложили, что он уже и взят – даже в тех краях, где раскольников отродясь не водилось. Нет, это был совсем не сёгунат.
Ванейкин стал слать новые письма. На них приходили ответы, опять требовавшие уточнения. А страна широкая, дороги плохие. На них то зимняя стужа, то весенняя распутица. Лишь к маю месяцу вызналось, что старец, соответствующий всем приметам, живет со своей общиной в двух сотнях верст от Архангельска, в селении Сояла.
Туда Синэяро и бросился, взяв с собой двух толковых солдат из Преображенского приказа и запасясь крепкой грамотой, способной вогнать в страх любого провинциального начальника.
Опоздал. И понял это не сразу. Сначала думал: невезение, капризы кармы, испытывающей Путника.
В Сояле узнал от Авенира, что младенец жив, звать Катериной. На шее у девки и поныне ореховый оберег, а сама девка недалеко, в Пинеге, на подворье у ссыльного Василья Голицына.
Так обрадовался, что даже забыл о Первом правиле Второго этажа: «Для монаха, идущего Путем Твердого Сердца, нет ни радости, ни горя, ибо и то и другое – слабость».
И когда, уже убив старого князя ударом кулака в сердце и почти схватив девчонку, умудрился ее упустить, решил, что это наказание за радость.
Ну да ничего, куда денется полевая мышь от зоркого сокола?
Но неудача следовала за неудачей, и причину он понял, лишь услышав про «косоглазого татарина», которого видели с беглянкой.
Тут-то фискалу и открылась главная русская закавыка. В этой нескладной стране ушлый рыбак с удочкой бывает уловистей государственного невода, ибо тот велик, да дыряв.
Курумибуцу ускользнул и в Пинеге, и в Сояле, и в Сийском монастыре.
В Каргополе на реке потопли солдаты, оглушенные свистом хисодзуэ, и чуть не утонул сам Синэяро, сброшенный обезумевшей лошадью и сильно ударившийся о понтон.
После этого ужасного поражения наступило тяжелое время, когда Путнику казалось, что он окончательно сбился с дороги. Даже появилось искушение лишить себя жизни, ибо лучше родиться заново, чем блуждать во мраке.
Но Синэяро не поддался слабости.
Они идут в столицу, сказал он себе. Хранитель хочет сесть на корабль и уплыть в Амстердам, а оттуда – в Японию. Это ясно. Фискала Ванейкина они теперь не боятся – думают, что он утонул. Самая короткая дорога в Санкт-Петербург лежит через Шлиссельбургскую заставу. Там их перехватить легче всего.
И поскакал в Шлиссельбург, и дал караульным начальникам все нужные указания, а сам стал ждать.
Но шли недели, месяцы, а хранитель с девчонкой всё не появлялись. Мир потемнел, земля и небо казались Путнику черными. Но он продолжал торчать в проклятом Шлиссельбурге, уже ни на что не надеясь, а просто не зная, куда и зачем идти.
Каждый вечер, после нового пустого дня, Синэяро брал кинжал, приставлял его к горлу (монахи Коосин-ха не самураи, они не взрезают живота, а возвращают космосу свое дыхание) – и прислушивался к внутреннему голосу: пора или подождать еще?
«Жди, мучайся», отвечал голос, и Путник с сожалением прятал клинок в ножны.
Это было очень тяжелое, долгое испытание, но Синэяро его выдержал.
И однажды небо посветлело, и тьма рассеялась. Оказалось, что ни с какого Пути он не сбился. Терпение и сила духа превозмогли.
Глядя в вытаращенные глаза хранителя (он, должно быть, удивлялся такому поразительному сну), Синэяро продолжил на родном языке, которым уже столько лет не пользовался:
– Как ты понимаешь, Ореховому Будде я зла не сделаю. А чтобы справиться с тобой, это трусливое оружие мне не понадобится. – Он швырнул пистолет на землю. – Никакое оружие не понадобится. Потому что у вас, беззубых, Канон Ненасилия. И хоть ты – хранитель и обучен искусству боя много лучше меня, против Твердого Сердца ты бессилен. Я буду убивать тебя, а ты только замычишь, как вол, которого грызет волк.
Он шагнул вперед и ударил хранителя по щеке – как бьют нашкодившего ребенка. Не сильно, но звонко.
Девчонка закричала, повисла у него на запястье:
– Не бей Учителя!
Синэяро стряхнул ее, как соринку.
Ему сейчас было очень хорошо. Кажется, ради этих мгновений он и прожил всю предыдущую жизнь.
– Я сломаю тебе обе руки и обе ноги. Потом брошу тебя в реку, на мелководье, на глубину в два сяку, и ты не сможешь подняться. Ты захлебнешься там, где не утонул бы и малый ребенок.
Коротким, хрустким ударом он переломил врагу локоть. Рука бессильно свесилась, но лицо хранителя не дрогнуло.
– Вы только и умеете, что безропотно сносить боль, – сказал Синэяро с презрением.
Что-то ударило его по затылку. Обернулся – девчонка с перекошенным яростью лицом снова замахивалась жердиной.
Синэяро взял чертовку ниже подбородка, сдавил двумя пальцами – сомлела.
Он дал ей сползти на землю, и потом бережно, с поклоном, обеими руками, снял с тонкой шеи великую святыню. Почтительно поднес ко лбу, надел на себя.
От невесомой ноши по телу растекалась горячая, трепетная сила.
Дело сделано! Миссия исполнена!
Хамамати Синэяро расхохотался от беспредельного счастья. Но душа просила лакомства. Что ж, заслужила.
На неподвижно застывшего, побежденного врага победитель смотрел с улыбкой предвкушения.
– Знаешь, почему Курумибуцу-сама покинул вас? Думаешь, виноват вор-блюститель? Нет! Будда устал от вашей слюнявой, бессильной доброты. Будда не прощает бессилия. Теперь Он будет с нами. Потому что мы умеем защищать то, что нам дорого. Прежде чем доломать твое тело, я вытру ноги о твой дух. Ты ведь, поди, за время странствий привязался к своей ученице? Наверное, вел ее со ступени на ступень, наставлял, просвещал. Сейчас я проверю, насколько хорошо ты научил ее преодолевать боль. Я сделаю из нее тигра. Знаешь, что такое «сделать тигра»? Это когда с тела лентами срезают кожу и человек весь становится полосатым.
Последние слова он произнес по-русски, чтобы девчонка поняла и завопила от ужаса. Она действительно разинула рот, но крика не было – надавив на точки силы, Синэяро парализовал тело ниже шеи. Ничего, чувствительность при этом остается.
Хранитель шевелил губами, тоже беззвучно. Сломанная рука висела плетью.
– Молись, молись, учитель слабости, – усмехнулся Синэяро. – А мой Учитель обучал меня силе. И защищал. Однажды он увидел, как меня, одиннадцатилетнего, избивают двое портовых мальчишек, которым не понравилось мое лицо. Учитель выбил им по одному глазу. Пусть знают, что меня трогать нельзя, и расскажут об этом всем. Вот какой у меня был Учитель. А ты – жалкая мокрица.
Он нагнулся, вынул из ботфорта свой острый нож.
Одним движением пальца разорвал на девчонке рубаху и содрал. Кожа на тощем теле пошла пупырышками. Девчонка зажмурилась.
Сзади раздался шорох. Ага, он все-таки зашевелился!
Обернувшись, Хамамати Синэяро увидел последнюю картину своей нынешней инкарнации: стремительно приближающуюся подметку стоптанного башмака.
Ступень Последняя
Санкт-Петербург
– Учитель, ты нарушил Канон! – сдавленным голосом просипела Ката, едва ожило задеревеневшее горло. – Это ужасно, да?
– Я нарушил два канона, – молвил Симпей, скорбно глядя на лежащее тело.
Сама-то Ката на покойника старалась не смотреть. Он и при жизни был куда как страшен, а в смерти сделался того жутчее: посреди лица, где раньше торчал острый нос, теперь багровел провал, и в нем что-то булькало, надувалось пузырями. Бр-р-р.
– Первый, Канон Ненасилия, еще ладно, – горевал Учитель. – Тут я применил первую же ступень: всё подвергай сомнению и изменяй то, что сочтешь нужным. Я подверг Канон сомнению и изменил. Отныне он для меня звучит так: «Насилие допустимо в том случае, если кто-то угрожает Ореховому Будде, за которого ты отвечаешь как Хранитель, и если кто-то угрожает твоему ученику, за которого ты отвечаешь как Учитель». Вернувшись в Храм, устрою на эту тему диспут с учеными старцами. Если мое нововведение не встретит поддержки – что ж, покаюсь.
Но далее дедушка стал совсем печален.
– Со вторым каноном, о неумерщвлении живых существ, хуже. Он несомненен и безусловен. Всякий, кто его нарушил, лишается надежды после смерти попасть в Нирвану, даже если в остальном прожил совершенно безупречную жизнь. А я убил этого злого человека, и убил намеренно, ибо знал, что он ни тебя, ни меня в покое не оставит. И теперь мне придется родиться на Земле вновь. Может быть, даже не раз и не два…
И так жалостно он это сказал, что Ката, не выдержав, заплакала.
– Лучше бы ты дал ему меня изрезать на куски, – всхлипнула она. – Сейчас уже был бы в этой, в невране. Да и я, глядишь, за свои муки народилась бы вновь какой-нибудь царевной…
Симпей с нею вместе лить слезы не стал, а щелкнул ее по лбу. Безмерно удивившись, Ката на него вылупилась, и Учитель безмятежно, будто только что не убивался, молвил:
– А и ничего. Куда нам торопиться? Нетерпение – слабость, а слабость – зло. В этом Ванейкин-сан был прав, хоть их лжеучение трактует понятие слабости превратно.
Он вздохнул.
– И коли мы заговорили о слабости, подними-ка жердину, переломи ее пополам и привяжи к моей руке, чтоб она не болталась. Мне самому это сделать трудно.
Ката охнула, засуетилась и потом, прилаживая дедушкину руку, от сострадательности сама вскрикивала, а он ее успокаивал, говорил: пустое.
После велел:
– Взяла Курумибуцу? Теперь давай в три руки спустим в реку покойников. Пусть Нева несет их к морю, как Река Перерождений несет все души в Океан Будды.
Поклонились прощальным темным водам, сели на повозку, поехали по ночной дороге.
– Пока мы добираемся до Санкт-Петербурга, я как раз успею объяснить тебе про последнюю, восьмую ступень, преодолев которую ученик поднимается из нижнего Жилья во второе, откуда обратно возврата уже не будет. Ты очень близка к тому, чтобы расстаться с землей, по которой ползают непосвященные. Готовься взлететь – уже не телом, как на крыльях хитоваси, а духом.
Ката вся подобралась. Приготовилась.
– …Обычному человеку не дает оторваться от земли одна крепкая цепь, лишающая его свободы. Прочнее всего она держит в молодости, потом мало-помалу начинает ослабевать и в конце концов, если живешь долго, ржавеет и рассыпается, но к тому времени бывает уже поздно. Эта цепь – притяжение между двумя человеконачалами: мужским, называемым «Ян» или Солнце, и женским, называемым Инь, или Луна. Как сутки состоят из дня и ночи, так и человечество состоит из мужчин и женщин. Беда в том, что жизненная сила Ки, кроветок души, вся или почти вся расходуется на притяжение между Ян и Инь, а на более важные, главные вещи мало что остается. Ведь что такое любовь между мужчиной и женщиной? Христова церковь осуждает плотскую связь, но страшна не она, страшно соединение двух душ, называемое «любовью». Души, соединенные попарно, подобны пойманным беглецам Лодейщины, которых заставляют работать в «яме», сковав одной цепью. Так не убежишь, на свободу не вырвешься. Восьмая, последняя ступень поможет тебе разрушить эту тюрьму, в которую человек заточает себя добровольно. Более того – я научу тебя превращать эту вредную силу в иную, благую и полезную… Ты сейчас в том возрасте, когда в девочках начинает пробуждаться тяга к Ян и зовет тебя всё требовательнее. Тебе ведь знакомы будоражные ночные сны, смутные дневные мечтания, сладкая тяга в утробе?
Ката, слушавшая во все уши, кивнула.
– Авенир говорил, это бесовское искушение. Когда подступит, надобно хлестать себя плеткой по голой спине, тогда отпускает.
– Глупый совет. В чем главный вред тяги между Инь и Ян? Она вводит в обманное заблуждение, будто женщина и мужчина – разное. Она уменьшает человека, превращая его из Человека в мужчину или в женщину. Но ты, Ката, не женщина. Ты – душа. Ты – весь мир, все мужчины, женщины, животные, горы, моря, небо и солнце. Не уменьшай себя. Влечение к другому телу и другой душе – искушение и испытание, которое должно преодолеть. – Симпей улыбнулся, будто вспомнил что-то смешное. – Был когда-то искушаем этой химерой и я. Помню, взгляну на какую-нибудь деву с высокой прической симада-магэ, в цветном кимоно, и вдруг почувствую такую лютую жажду слияния с нею в одно целое! И она покажется несказанно прекрасной, невозможно желанной. Хочется прижать ее к себе, прислониться к ее коже своей кожей, стать единым телом и никогда не расцепляться.
– И что же делать, коли такое случилось? – волнуясь, спросила ученица.
– Не подавляй этот могучий зов, не изгоняй его, не бей свое тело плеткой, как взбесившегося коня. Наоборот, распали его еще пуще и запрыгни на него. Однако хороший всадник не скачет туда, куда хочет лошадь. Должно быть наоборот. Оседлай жизненную силу и поверни ее в правильном направлении.
– А как?
– Собери ее в один горячий сгусток, вот так. – Учитель сложил ладонь ковшом. – Поднеси ко рту, вдохнув обжигающий аромат жизни. И медленно, не обжигая губ, выпей. Но следи, чтобы волшебный ток из хара, из живота, пошел не вниз, в чресла, а вверх. Сюда.
Он ткнул слушательнице пальцем в лоб.
– Это как сок дерева, поднимающийся от корней по стволу к ветвям и листьям. Как цветок, уводящий всю свою красоту по стеблю в бутон.
Подумав немного, Ката сказала:
– Мне это будет легко. Я некрасивая. Все это говорили – и бабы в Сояле, и князь Василий Васильевич. Меня никто никогда не возжелает.
Дедушка удивился:
– Почему ты так грустно это говоришь? Зачем тебе, чтобы тебя – желали? Разве ты пряник или яблоко? И ты никого желать не должна, только самое себя… Рассказать тебе, как семнадцатилетним послушником я увидел во время храмового праздника знаменитую красавицу по имени Цветок Вишни? Как она, посмотрев на меня, молвила: «Хорошенький монашек, поди-ка сюда, я тебя съем» и что потом из этого вышло?
– Ой, расскажи!
Они ехали ночной дорогой вдоль широкой реки, и Симпей рассказывал ей историю за историей про то, как сила Инь-Ян преобразовывается в силу духа, а Ката внимательно слушала и запоминала. Эта ступень наверно самая важная из всех, думалось ей.
Поспали они перед рассветом, прямо в телеге – не ради себя, а ради уставших лошадей, пустили их покормиться травой. Сами утром не завтракали, было нечем, но Симпей сказал: ничего, зато пообедаем.
Умылись в Неве, тронулись в путь, и скоро впереди завиднелся город – сначала показалось, что он не стоит, а плывет, ибо построен прямо на воде.
– Это не дома, а корабли, – сказал дедушка. – Ради них Петербург и поставлен. – Видишь, какие большие?
Ближе стали видны и дома. Они стояли просторно и странно – в ряд, будто по аршину, и были какие-то неродные. Стены не деревянные, а гладкие, цветные. Крыши мелкоячейные, как на картинке из князевой книги про европейские грады.
– Вон, на острове, фортеция Петра и Павла, – показывал Симпей. – За нею все приказы и присутствия, там же и государев терем. А по другую сторону, за валом, Адмиралтейский дом. Он в Петербурге главный, там строят и оснащают парусные корабли.
Вертя головой во все стороны, Ката спросила:
– А нам куда?
– Сначала в австерию «Веселый Бахус».
– Обедать?
– Нет, исполнить долг честности. Ведь эт не наше, – показал Симпей на бочки и лошадей. – Хозяин покинул этот мир, но у него, должно быть, осталась семья. Хозяин «Веселого Бахуса» честнее всех прочих питерских кабатчиков. Он вернет повозку и деньги за пиво вдове Филяя. Мы скажем, что купец умер дорогой, а боле ничего говорить не будем.
– Само собой, – кивнула Ката. – Кому такое расскажешь? А потом что?
– Потом к Якову. Он тоже мой ученик, но не такой, как ты. Я не собирался делать из него Хранителя. Поэтому Яша освоил лишь первые четыре ступени. Выше человеку, который не стремится к монашескому служению, подниматься не стоит. А первые четыре ступени пригодятся всякому… Я буду рад повидать Яшу. Он меня тоже, – улыбнулся Симпей. – А кроме того он поможет нам попасть на амстердамский корабль.
Пока Учитель был в «Веселом Бахусе», исполняя долг честности, Ката стояла на берегу Невы и во все глаза смотрела на диковинный город. Он был похож на недостроенную галеру, когда остов уже есть и проглядывают будущие очертания, но борта еще не покрашены, мачты не установлены, а земля вокруг в строительном мусоре, и повсюду муравьями копошатся трудники. Та же Лодейщина, только нарядная.
Удивительны были мощенные досками тротуары, уличные лампады на высоких столбах, а более всего прохожие: почти все в немецком платье, быстро-суетливые. Многие и говорили промеж собой не по-нашему.
Из созерцательности Кату вывел Симпей. Тронул за рукав, сказал:
– Чем Санкт-Петербург столь чужестранен, знаешь?
– Всем, – ответила она. – Будто диковинный сон.
– Молодец, ответила правильно. Царь Петр придумал себе мир, который ему нравится, и заставил в нем поселиться своих подданных. Целую страну! Не удивительно ли, что столько людей согласны жить в не ими придуманном мире, в чужом сне?
Попробуй не согласись, подумала Ката, но дедушке про это говорить не стала, потому что он разразился бы новым поучением, ей же сейчас хотелось не слушать, а смотреть во все глаза.
Домик, где жил Симпеев ученик, младший толмач именем Яков Иноземцев, тоже собою был не русский, а петербургский. Маленький, чистенький, беленький, с красной черепичной крышей, на переплетных окнах занавески, а удивительней всего Кате показался цветок в горшке. Человек, живущий в таком чуднм доме, наверно и сам чудной.
– Зачем на подоконнице цветок? – спросила она.
– Так делают в его родном городе, в Швеции, чтобы из дома было приятней смотреть на улицу, а с улицы на дом. Яша раньше был швед.
– А стал русским?
Симпей пожал плечами:
– Он стал собой. Как стала собою ты.
Хозяина дома не было, на двери висел замок, но дедушка пошарил здоровой рукой под ступенькой, вынул ключ.
– Яша об это время в приказе. Но коли не поменял привычек, обедать придет домой… Так и есть – видишь, стол накрыт.
Они вошли в горницу, такую опрятную и обихоженную, что впору хоть великому блюстителю чистоты старцу Авениру. Но нет, старец тут жить не стал бы. Ни одной иконы, даже никонианской, Ката нигде не увидела. Зато на стене земная география, а на потолке нарисована небесная астрономия.
Вокруг было много и другого интересного. Ката постояла у полки с книгами – почти все иностранные. Полюбовалась гравюрным листом «Остров Утопия» (это из сочинения англинского мудреца Фомы Мора, князь Василий Васильевич его чтил). Потрогала пальцем маятник на часах.
Единственной неряхой в комнате была большая растрепанная соломенная кукла, зачем-то стоящая в углу на крепкой подставке.
– Чего это?
– А? – коротко обернулся от стола дедушка. Он поднял белую салфету и рассматривал, что хозяин оставил себе к обеду. – Это для битья. Я учил Яшу кулачному и ножному бою. Он ведь не монах, ему Канон ненасилия не указ, а в жизни пригодится… Смотри: у него тут хлеб, соленая рыба, огурцы, сливы. Через час вернется Яков – поедим. Ты подожди здесь, а я пока схожу кое-что куплю да разузнаю про амстердамский корабль.
– На что купишь-то? У нас денег нет.
– У Яши есть. Он бережливый. Помоги-ка…
Дедушка подцепил доску на полу, приподнял, дал Кате подержать, а сам нагнулся и вынул из тайника кошель.
Ушел. Она же осталась одна и продолжила осматривать жилище бывшего шведа Яши.
Старый князь Василий Васильевич говаривал: «Каков чертог, таков и обитатель, ибо стены – вторая кожа человека». И правда, голицынский терем был точной парсуной хозяина: книжный, старинный, чопорный, светлый.
Иноземцев, если судить по горнице, должен быть прям и ясен душой, чист телом и духом, однако ж непрост – с потаенными уголками. И совсем одинок, пришло в голову Кате. Наверное, сидит здесь, в своем маленьком опрятном доме и сам с собою разговаривает, потому что больше не с кем. Учитель-то от него ушел, отправился на поиски Будды.
Она вдруг представила, что дед Симпей из ее жизни исчезнет, и стало страшно. Потому что тогда на всем белом свете по-настоящему разговаривать будет не с кем. Тоже начнешь беседовать сама с собою…
На стенной полке лежала длинная узкая шкатулка. Ката открыла, увидела дуду блестящего желтого дерева, с дырками. Поднесла к губам, дунула.
Звук оказался неожиданно глубоким и сильным, от него сжалось сердце. Оказалось, что у дома есть и голос.
Закрыв глаза, Ката попробовала дуть еще – то сильнее, то слабее, прикрывая дырочки пальцами, как это делал сояльский пастух со свирелью.
Дудка заговорила, пытаясь что-то сказать. Что-то важное.