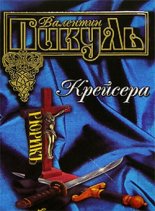Гвоздь в башке Чадович Николай
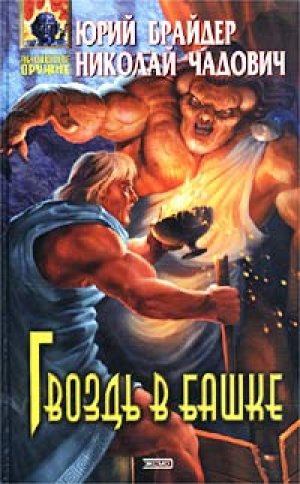
Как ни странно, но единственной моей союзницей была его поистине необузданная ярость. Прояви он хоть немного хладнокровия, и со мной было бы покончено в считанные минуты.
Однако Астерий бросался в атаку безоглядно, напролом. Окажись сейчас на моем месте опытный матадор, и тогда врагу рода человеческого пришлось бы несладко.
Был даже момент, когда, удачно увернувшись, я огрел Астерия треножником по голове. Гул пошел такой, словно удар пришелся по большому медному гонгу. Но, к сожалению, этим все и ограничилось. Столь крепкую башку, наверное, можно было пробить только секирой.
Все внутреннее убранство моих покоев пришло в полное разорение, все столы и лавки были разбиты, вся посуда превратилась в черепки. Обломки дубовой мебели и осколки мраморных статуй летали от стены к стене, словно мячики.
Грохот стоял такой, что все многочисленные обитатели дворца, включая стражу, прислугу, царя Миноса, царских наложниц, царицу Пасифаю, ее любовников, моих юных спутников-афинян, коварную Ариадну и комнатных собачек, должны были неминуемо проснуться.
Последней рухнула на пол объемистая чаша, предназначенная для омовения рук (каюсь, иногда я использовал ее вместо ночного горшка). Полированный мозаичный пол, на котором были изображены сцены рождения и воспитания Зевса, сразу превратился в подобие ледяного катка. Еще слава богу, что мы поскользнулись на нем одновременно.
Вот только, к великому сожалению, поехали мы не в разные стороны, а навстречу друг другу. В самый последний момент я попытался вскочить, но Астерий налетел на меня, как сорвавшийся с горного склона стопудовый валун.
– Ну вот и конец тебе, двуличный гость! – проревел он дурным голосом.
– До новой встречи! – успел ответить я.
Спустя еще мгновение на мое лицо обрушился каблук тяжелого солдатского котурна, подбитого бронзовыми гвоздями.
Что-то здесь не так, подумал я, умирая. Не одолел Тесей критского выродка, а все наоборот… Или легенды врут, или история вовсе не застывший монолит, как мы считали раньше, а изменчивый и прихотливый поток…
Не знаю, какой срок пребывания на белом свете отмерен мне, но тот трагический момент, ставший поворотной точкой в моей судьбе, я запомню до гробовой доски.
Часть I
Олег Наметкин, российский инвалид
Знающие люди утверждают, что жизнь наша состоит из нескольких отдельных периодов, часто весьма несхожих между собой.
Например, юный Левушка Толстой, душка-военный, волокита и повеса, разительно отличается от старца Льва Николаевича, самозваного пророка, сермяжного философа и зануды.
И дело тут вовсе не в возрасте. Дескать, молодой на гульбу, а старый на думу. Один наш сосед, в прошлом заслуженный рационализатор и депутат горсовета, после выхода на пенсию успел уже дважды сменить свою личину – сначала примкнул к наиболее радикальному крылу движения «зеленых», а потом устроил на квартире притон, обслуживавшийся исключительно несовершеннолетними проститутками.
К нашему счастью, эти периоды перетекают друг в друга плавно и постепенно, и то, что по прошествии времени кажется парадоксом, на самом деле есть плод подспудной душевной эволюции или, наоборот, деградации.
Теперь о личном. Так уж случилось, что мне не суждено было пройти всеми бесконечными пролетами жизненной лестницы, по которой сначала бежишь вприпрыжку, потом солидно шествуешь, а в самом конце еле бредешь, поминутно оглядываясь назад.
Едва преодолев начальные ступени и не добравшись даже до первой площадки, которая, надо полагать, ассоциируется с браком и экономической независимостью, я сверзился на самое дно лестничного пролета (а может, даже и в подвал).
Моя судьба изменилась резко, бесповоротно и, что печальнее всего, – в самую худшую сторону. Позже мне часто приходила на ум мысль о том, что в сложившейся ситуации смерть была бы гораздо более предпочтительным вариантом.
К тому времени моя молодая и, скажем прямо, беззаботная жизнь успела дать первую трещину (хотя в сравнении с грядущими испытаниями это была вовсе и не трещинка, а так – еле заметный скол).
Полтора года честно отмучившись на химическом факультете университета, я перестал посещать занятия. Нет, меня пока еще не исключили, но гора «хвостов», незачтенных лабораторных работ и отвергнутых курсовых проектов выросла до такого размера, что я мог считать себя заживо погребенным под ней.
Да и не мое это было призвание, честно говоря. Если в неорганической химии я еще кое-что петрил, то органическая представлялась мне темным лесом, потусторонней кабалистикой, письменностью аборигенов острова Пасхи.
Признаться во всем матери (отец мой, номенклатурный работник, благополучно скончался в самом начале перестройки) у меня недоставало душевных сил. Для нее высшее образование было не только непременным атрибутом приличного человека, как, например, брюки, но и неким сакральным знаком, возвышавшим дипломированного человека над серой толпой.
Каждый телефонный разговор с подругами она заканчивала перечислением моих успехов на поприще науки, успехов чаще всего мнимых. Дескать, мой Олежка и в учебе преуспел, и в студенческом совете заседает, и с деканом на короткой ноге, и в аспирантуру идет полным ходом, словно атомный ледокол «Сибирь» к Северному полюсу.
Оттягивая неминуемую развязку, я каждое утро, как и прежде, покидал родное жилище и часов до трех-четырех слонялся по улицам, посещая дневные киносеансы, или просто катался на метро.
Кстати говоря, это был самый дешевый способ убить время. В вагоне и подремать можно было, и книжку почитать, и завести ни к чему не обязывающее знакомство с милой девушкой. Скоро я изучил все маршруты метрополитена настолько досконально, что по характерному стуку колес мог заранее определить, к какой станции мы приближаемся.
Всякие печальные мысли я старательно гнал прочь. А задуматься было над чем. Хуже всего, что у меня не имелось абсолютно никаких планов на будущее (хотя наиболее реальным следствием моей лени и малодушия был призрак армейской службы, маячивший где-то на рубеже апреля-мая).
Нет, кое-какие прожекты я, безусловно, строил, и программа их была весьма широкой – от суицида до вступления во французский иностранный легион. Однако, это был лишь способ краткого самоуспокоения, хрупкая раковина, в которую пыталась спрятаться моя измученная душа.
Конечно, к наукам гуманитарным, таким, например, как история или литература, я испытывал чувства совсем иные, чем к распроклятой химии. Но проблема состояла в том, что я вообще не хотел учиться – даже сам этот процесс вызывал у меня отвращение. Так уж с детства повелось, что в голову мне западало лишь то, к чему лежала душа. Все остальное прошивало мой мозг насквозь, словно элементарная частица нейтрино.
Иногда, как бы в оправдание себе, я начинал мысленно перечислять великих людей, добившихся такого статуса и без помощи высшего образования. Компания получалась впечатляющая: Джек Лондон, Бунин, Грин, Шолохов, Дали, Брэдбери, Мао Цзэдун, Бродский.
И это только в нашем веке! Что уж говорить о таких героях дней минувших, как светлейший князь Меньшиков, не удосужившийся даже грамотой овладеть, или механики-самоучки Черепановы, на честном слове и русском «авось» сварганившие едва ли не первый в мире паровоз.
Надо добавить, что от безделья я пристрастился к курению, и это обстоятельство сыграло немаловажную роль во всех последующих событиях.
В тот памятный день, навсегда разделивший мою жизнь на два периода, которые условно можно назвать розовым и черным, я посетил книжный рынок, где на последние деньги приобрел давно приглянувшуюся мне «Апологию Сократа» в академическом издании, от корки до корки проштудировал бульварную газетенку, особое внимание обращая на объявления типа: «Требуются одинокие молодые мужчины для выполнения опасной, высокооплачиваемой работы», помог приезжей старушке перейти улицу, в качестве свидетеля подписал пару милицейских протоколов и имел удовольствие созерцать потасовку попрошаек, не поделивших сферы влияния.
В половине второго я спустился в метро, прокатился с ветерком по нескольким наименее загруженным маршрутам, но потом допустил оплошность, перейдя на Кольцевую линию. Была пятница, самое начало уикенда, погода стояла прекрасная, и народ так и пер к пригородным вокзалам.
В вагоне, набитом до такой степени, что, подняв руку вверх, ее потом уже нельзя было опустить, мне оттоптали ноги, несколько раз обложили матом, причем больше всех зверствовали юные леди в дорогущих шубах, которым по всем понятиям на «Мерседесах» надо было кататься, а не на метро, и даже пытались обчистить карманы.
С трудом выбравшись на свободу, я проверил наличие пуговиц на пальто (о карманах можно было не беспокоиться – там давно ветер гулял) и решил отправиться прямиком домой, дабы там честно покаяться во всех своих прегрешениях.
Скандала, конечно, не избежать, но это дело привычное. Ну поревет мамаша часок-другой, ну подуется недельку, ну лишит на весь сезон карманных денег – что из того? Не смертельно. Зато у меня камень свалится с плеч.
Уже завтра можно будет начать жизнь с чистого листа. Без всяких там лекций, сессий, зачетов, курсовых и лабораторных. Сколько заманчивых перспектив открываются для молодого одинокого мужчины! Как подумаешь, голова кругом идет. Тут тебе и брачный аферизм, и транспортировка наркотиков, и игорный бизнес, и выгуливание чужих собак, и мойка стекол в высотных зданиях, и, в конце концов, республика Чечня, куда человеку в моем положении и против собственной воли загреметь очень даже просто.
Перейдя на соседнюю платформу, я стал дожидаться поезда. От души сразу отлегло, как это бывает всегда, когда полная неопределенность уступает место какому-либо конкретному решению. Правильно подмечено, что кошмарный конец лучше, чем кошмар без конца. Эх, сейчас бы еще задымить – и жизнь заиграет всеми красками.
Дабы убедиться в наличии курева, я вытащил купленную накануне пачку «Космоса» (на такое добро даже карманники не покусились) и встряхнул ее. Судя по звуку, сигареты имелись, хотя и в ограниченном количестве – штуки три-четыре, не больше. На вечер хватит. От души отлегло еще больше.
Из черной дыры туннеля, гоня перед собой пахнущий озоном ветер, вылетел поезд, вагоны которого были сплошь расписаны легкомысленной рекламой. Ну зачем, скажите, в подземном царстве рекламировать прокладки с крылышками? Куда на них здесь улетишь?
Продолжая держать пачку сигарет в руке, я шагнул поближе к краю перрона. В этот момент ко мне подскочил оборванец с носом-морковкой (не в том смысле, что длинным, а в том смысле, что красным) и с бородой Карабаса-Барабаса. Из других его особых примет в глаза бросались пестрые дамские шаровары, такие просторные, что вполне заменяли комбинезон.
– Удружи, красавец, папироску, – попросил он, с собачьей преданностью глядя мне в глаза. – Не дай пропасть ветерану Ватерлоо.
Это было что-то новое. С жертвами Кровавого воскресенья и с участниками штурма Зимнего дворца (кстати, теперь на папертях стали появляться и его бывшие защитники) мне приходилось встречаться, но здесь уже был явный перебор.
– И за кого вы там сражались? – сдерживая улыбку, поинтересовался я. – За французов или за англичан?
– Я только сам за себя могу сражаться, – охотно пояснил оборванец. – А Ватерлоо – это такой фаянсовый завод, где ватерклозеты делают. Так его в народе прозвали. Горячий цех, вредное производство. Проявляя ежедневную трудовую доблесть, довел себя до состояния инвалидности.
Козе понятно, что до состояния инвалидности его довело неумеренное употребление горячительных напитков, но мы-то, слава богу, живем в России, а не в какой-нибудь Швеции или там Саудовской Аравии. Что тут зазорного? Каждый сам вправе выбирать жизненный путь. Так, кстати говоря, и в нынешней Конституции записано.
– Папирос нет. Сигареты подойдут? – с царской щедростью я протянул ему мятую синюю пачку.
– Какие проблемы! – обрадовался оборванец. – Это с «Мальборо» на «Беломор» трудно переходить. А после «Беломора» что угодно можно курить. Хоть гаванские сигары, хоть анашу, хоть опилки, хоть твой «Космос».
Грязными негнущимися пальцами он залез в пачку, но действовал при этом так неловко (хотя и энергично), что та, вывалившись из моей руки, упала на перрон. Сигареты, сразу почуявшие волю, сиганули врассыпную. Их оказалось всего три штуки.
Мы одновременно нагнулись, но оборванец опередил меня, с обезьяньей ловкостью овладев сразу двумя сигаретами. Мне пришлось довольствоваться одной-единственной. Ничего не поделаешь, такова печальная участь многих меценатов. Сначала даешь деньги на социальную революцию, а потом пьяные социалисты в матросских бушлатах отбирают у тебя последнюю жилетку.
Что касается поезда, то он, естественно, ждать меня не стал и, зашипев по-змеиному, укатил вдаль.
На опустевшем перроне остались только двое, я – да оборванец, оба с сигаретами в руках. Белобрысый милиционер с нездоровым румянцем во все лицо погрозил нам издали пальцем. Оборванец от греха подальше спрятался за колонну, а я демонстративно заложил сигарету за ухо.
Очень скоро перрон стал заполняться новыми пассажирами. Спустя пару минут я должен был укатить в светлые дали (правда, попутно пройдя через упреки, головомойку и остракизм), но тут моей особой вновь заинтересовался дотошный милиционер.
– Это ваши вещи? – хмуро спросил он, указывая пальцем куда-то мне за спину.
Волей-неволей пришлось обернуться. На каменной лавке, созданной, наверное, еще под идейным руководством наркома Кагановича, а потому монументальной и впечатляющей, как ковчег завета, одиноко стоял новенький черный кейс из тех, что подешевле. Могу поклясться, что еще пять минут назад его здесь не было.
– Нет, – я покачал головой и на всякий случай отступил подальше.
Милиционер, озираясь по сторонам, воззвал к толпе:
– Граждане, чьи вещи?
Граждане, с приходом демократии отвыкшие уважать любую власть, а тем более такую белобрысую и краснорожую, признаваться не спешили, а только косились через плечо да фыркали.
Живое участие проявил лишь бородатый ветеран клозетного производства.
– А ничьи! – ухмыляясь до ушей, он, как бы взвешивая, приподнял кейс за ручку. – Ого, тяжеленький! Не иначе как золотыми слитками набит.
– Не трогай! – взвыл милиционер, почему-то ухватившись за козырек своего дурацкого кепи.
Надо сказать, что руки у оборванца были как крюки (в худшем смысле этого выражения). То ли он их на своем знаменитом заводе разбил, то ли отморозил, ночуя под открытым небом, но история с сигаретами повторилась один к одному – бесхозный кейс брякнулся на перрон.
А затем…
В этом месте своего рассказа я обычно прерываюсь. Хотя сказать есть о чем. Но эти речи могут впечатлить лишь тех, кто не знал иных страданий, кроме зубной боли да зуда в мочеиспускательном канале. Лично я придерживаюсь сейчас того мнения, что вопль, исторгнутый из самых недр человеческого существа (и неважно, чем он порожден – болью, страхом или удовольствием), гораздо выразительнее любых слов, пусть и самых прочувствованных.
Ну как, скажите, описать словами солнцезрачную вспышку, случившуюся в десяти шагах от тебя? Или звук, от которого мгновенно лопнула барабанная перепонка левого уха?
Короче говоря, не прошло и доли секунды, как я, ослепший и оглохший, кувырком летел вдоль перрона, то и дело сталкиваясь со своими товарищами по несчастью. Еще спасибо, что ударная волна не сбросила меня под колеса прибывающего поезда.
Впрочем, так, наверное, было бы и лучше.
Тут по всем канонам жанра полагается сделать многозначительную паузу…
В бессознательном состоянии я оставался совсем недолго, чему впоследствии весьма удивлялись врачи-реаниматоры.
Зрение и слух вернулись, хотя и не в полной мере. Видел я как сквозь воду, а слышал как сквозь вату. Вот только пошевелиться не мог.
Помню едкий дым, застилавший все вокруг. Помню многоголосый и неумолчный женский крик. Помню, как мимо меня протащили злополучного оборванца, нос которого теперь походил не на морковку, а на чернослив. Помню, как вслед за оборванцем пронесли его же ногу, вернее, башмак с торчащим наружу кровавым обломком кости.
«А меня? Когда же будут спасать меня?» – хотел вымолвить я, но вместо этого изо рта вырвалось какое-то бессвязное мычание.
Сильно болело все, что находится у человека с левой стороны, от макушки до пяток, но в особенности скула. Окружающий мир, с давних времен закосневший в тяжких оковах трех пространственных координат, на сей раз вел себя весьма вольно – то сжимался, то расширялся, то перекашивался.
Надо сказать, что никакого страха смерти я тогда не испытывал. Просто было обидно, что на меня никто не обращает внимания. (Позже мне сказали, что я выглядел как стопроцентный мертвец, а этих эвакуировали в последнюю очередь.)
Похоже, что меня сильно задело взрывом, но соображать-то я соображал. Увидев, как милиционер, совершенно утративший свой прежний румянец, бережно несет на руках очень юную и очень привлекательную девушку, я даже подумал с долей иронии, что следующий такой случай ему вряд ли представится.
Дым между тем рассеялся. Пожару разгореться не дали. Хотя что, спрашивается, может гореть там, где все каменное или железное? Разве что остатки проклятого кейса или чье-нибудь утерянное при взрыве пальто.
На перроне, напоминавшем мрачное батальное полотно из серии «После битвы», появились люди в униформе – серой, белой, оранжевой. Однако ко мне по-прежнему никто не подходил.
Если бы не боль, продолжавшая грызть тело, можно было предположить, что я окончательно превратился в труп, а за всем происходящим наблюдает со стороны моя воспарившая душа.
Тут, кстати, выяснилось, что правая рука действует. Я не преминул этим воспользоваться и, смутно догадываясь, что сейчас узнаю о себе много нового, стал ощупывать те части тела, до которых мог дотянуться.
Кишки наружу, слава богу, не торчали, зияющих ран нигде не обнаружилось, хоть чего-чего, а крови хватало. Впрочем, вскоре выяснилось, что эта кровь обильно подтекает под меня со стороны, от лежащей ничком женщины в синей железнодорожной шинели. Помню, я даже вздохнул с облегчением. Ох уж этот зоологический эгоизм, столь непристойный для воспитанного человека!
Немного передохнув, я приступил к изучению головы – по-видимому, наиболее пострадавшей части моего тела. (Вот уж действительно злой рок! И так все говорили, что я на голову слаб, а тут еще такая беда приключилась.)
Справа все было в порядке, зато стоило мне только коснуться левой щеки, как боль буквально взорвалась, извергнув из глаз фейерверк искр.
Мне бы полежать спокойно да поберечь силы, тем более что двое спасателей уже взвалили даму-железнодорожницу на носилки, а двое других с точно такими же носилками спешили ко мне, но попутало дурацкое любопытство.
Кончиками пальцев я опять коснулся лица и с ужасом убедился, что в скуле торчит солидный железный гвоздь из тех, которые в просторечье называются «половыми». Откуда он здесь взялся, нельзя было даже и предположить.
Не помню точно, но, наверное, я попытался выдернуть гвоздь, поскольку боль резанула так беспощадно, что сознание вновь погасло.
И на сей раз надолго.
…Много позже я узнал, что в кейсе, чей хозяин так и не был установлен, кроме самодельного взрывного устройства, находилось также несколько килограммов гвоздей, каждый из которых был разрублен на две части.
Основной ущерб моему здоровью нанес не обрубок со шляпкой, вошедший в гайморову пазуху, а другой, без оной, пробивший черепную коробку и застрявший глубоко в мозгу.
В принципе такие раны считаются смертельными, но история медицины знает и более заковыристые случаи. Некоторые счастливчики оставались живы даже после полной потери лобной или височной доли мозга, разве что характер у них портился, а в прошлом веке один ковбой, разъезжая по ярмаркам, демонстрировал сквозное пулевое ранение в череп, за осмотр которого брал с каждого желающего по доллару.
Мне в этом смысле повезло гораздо меньше. Все тело, за исключением правой руки и шеи, оказалось парализованным. Кроме того, я на пятьдесят процентов утратил зрение и слух, перестал ощущать запахи и заполучил несколько весьма обширных провалов в памяти.
Возможно, причиной моего плачевного состояния было присутствие в мозгу этого самого окаянного гвоздя, который мало того, что постепенно коррозировал, но и мешал нормальной циркуляции цереброспинальной жидкости (вот каких мудреных словечек я здесь со временем нахватался!).
Однако никто из нейрохирургов, занимавшихся мной, так и не решился извлечь гвоздь наружу. Дескать, предполагаемая операция сопряжена со смертельным риском, что противоречило медицинской этике.
Лицемеры! Потрошить живых собак и лягушек – так это запросто. А лишний раз поковыряться в черепе существа, на девять десятых уже мертвого, – святотатство.
Правильно говорил мой непутевый братец, в пику всем другим занятиям на свете избравший торговлю мотылем: не якшайся с милицией, пожарными и медиками. Милиция посадит, пожарные сожгут, медики залечат.
Впрочем, все эти эмоционально окрашенные умозаключения относятся к гораздо более позднему периоду, когда я уже малость оклемался и даже научился стучать одним пальцем по клавишам компьютера.
Нам же следует вернуться к событиям, непосредственно следующим за взрывом в метрополитене.
В сознание я пришел только спустя месяц, но еще долго не мог сообразить, кто я такой, где нахожусь и что вообще произошло. За последующие полгода мне сделали столько операций, что под это дело, наверное, пришлось истребить целое стадо баранов, из кишок которых, как известно, изготовляются хирургические нитки – кетгут. Про донорскую кровь, перевязочные материалы, антисептики и обезболивающие средства я уже не говорю. Счет тут, наверное, идет на бочки, рулоны и ящики.
Надо сказать, что мои проблемы не ограничивались одним только черепом. Я был нашпигован гвоздями так густо, что, по выражению рентгенолога, напоминал самого главного урода из фильма ужасов «Восставший из ада».
К счастью, ни один из гвоздей не задел сердце.
Естественно, что все это время меня держали на наркотиках. В еде, питье и утке я не нуждался. Все необходимое для жизнедеятельности организма поступало извне по пластмассовым трубочкам, оплетавшим мое тело наподобие щупальцев спрута, и примерно тем же манером уходило прочь.
Скажите, кто я после этого – человек или растение?
Старший и младший медперсонал общался со мной по тому же принципу, по которому прежде референты общались с Генсеком, а прежде прежнего – бояре с царем. То есть если о чем и докладывали, то новости плохие обязательно переиначивали в нейтральные, а нейтральные – в распрекрасные.
Из ласковых речей этих облаченных в белые халаты мясников и клизм выходило, что спустя год я уже смогу играть в футбол, плясать на собственной свадьбе гопака (лечащий врач у меня был хохол) и активно размножаться. О-хо-хо! Нет ничего проще, чем обмануть любящую женщину и больного человека.
Глаза на реальное положение вещей мне открыл не кто иной, как родной братец (по крайней мере, я тогда считал его таковым, хотя мы были схожи между собой, как боровик и бледная поганка, а кто из нас кто – решайте сами).
Если не считать следователя прокуратуры, это был первый посетитель, допущенный сюда после того, как мое положение более или менее стабилизировалось и инъекции морфина стали постепенно заменяться анальгином. (Мамаша моя от пережитых волнений сама захворала и уехала поправлять нервы в Испанию.)
Братец был уже слегка подшофе, хотя заметить это мог только наметанный глаз. Кроме того, он прихватил с собой вместительную плоскую фляжку, к которой время от времени прикладывался якобы для поддержания душевного равновесия.
При том, что братец пил почти постоянно, к категории горьких пьяниц он отнюдь не относился. Просто алкоголь был для него примерно то же самое, что для Сократа – его знаменитый внутренний демон: советчик, указчик, где надо толкач, где надо – тормоз и даже, если хотите, внутренний стержень.
В трезвом состоянии братец напоминал тупую и безвольную амебу. Выпив, становился активен, предприимчив, изворотлив, красноречив.
Без бутылки он не мог принять ни одного мало-мальски серьезного решения. По пьянке он женился, по пьянке развелся, по пьянке создал свой мотылевый бизнес и, следуя традиции, разориться должен был тоже по пьянке.
Когда братец в очередной раз отхлебнул из фляжки, я поинтересовался:
– Что там?
– Текила, – ответил он.
– Богато живешь. В цене, значит, мотыль.
– Мотыль-то в цене, – кисло улыбнулся он. – Да от конкурентов спасу нет. На ходу подметки рвут. Не поверишь, совсем обнищал. Если что и нажил за последнее время, так это только три вещи: триппер, трахому и тремор, – он продемонстрировал свои дрожащие пальцы.
– Ну с триппером и тремором понятно. А трахома откуда? Я где-то читал, что в нашей стране она ликвидирована еще в тридцатые годы.
– Ага, вместе с больными… Впрочем, я не так давно в Малайзию летал. К тамошнему мотылю присматривался. Вполне возможно, что в тех краях и заразился. Сейчас одна муть в глазах стоит… Не жизнь, а просто каторга.
– Хочешь, чтобы я тебя пожалел, такого разнесчастного?
– Вот это не надо! – решительно отказался братец, но, немного подумав, добавил: – Хотя в каком-то смысле можно пожалеть и меня.
Смысл этой довольно загадочной фразы дошел до меня гораздо позднее.
Разговор у нас с самого начала как-то не заладился.
И ладно, если бы я себя неправильно повел, какой спрос с человека, у которого гвоздь в мозгу засел, так нет же – братец всю малину испортил.
Вместо того чтобы ободрить меня, поддержать добрым словом, отвлечь от тяжких дум, внушить надежду, пусть и призрачную, он вдруг стал резать голую правду-матку, столь же неприемлемую в больничной палате, как, скажем, ложь – в церковной исповедальне.
(Кстати говоря, все подробности о состоянии моего здоровья братец выведал у одного местного врача, с которым был шапочно знаком опять же на почве того же самого мотыля.)
С его слов выходило, что перспективы на улучшение у меня нет никакой. Да, со временем я научусь питаться с ложечки и смогу самостоятельно испражняться в памперсы (есть уже, оказывается, такие – специально для взрослых), но появятся проблемы с вентиляцией легких, пролежнями и, конечно же, с психикой.
Отпущенные мне пять или шесть лет превратятся в непрерывную пытку, в сравнении с которой муки всех Танталов, Сизифов, Прометеев и Данаид покажутся легкой щекоткой.
Более того, я стану обузой для семьи, поскольку в самое ближайшее время клиника постарается от меня избавиться. Все заботы падут на мать, еще не утратившую шанса устроить личную жизнь, а расходы, естественно, на него, братца. Это при том, что сейчас даже обыкновенные антибиотики стоят бешеных денег. Тут целого центнера мотыля в месяц не хватит!
Какая-то логика в его словах, безусловно, была. Со всех сторон выходило, что я мерзкий эгоист и неблагодарный корыстолюбец, сознательно загоняющий в гроб мать и разоряющий брата. Подспудно даже проскальзывала мысль, что взрыв в метро я подстроил специально, дабы впоследствии безбедно существовать на правах инвалида.
– Выходит, что мне лучше было бы сразу подохнуть? – напрямик спросил я.
– Не надо передергивать, – сразу спохватился братец. – Я так не говорил. Но против правды не попрешь. А я, сам знаешь, всегда стоял за правду.
– Разве? – я не преминул уязвить его. – И в тот раз, когда продал на рынке отцовские ордена, а вину хотел свалить на меня? И когда торговал подкрашенной смесью вареного риса и рыбьего жира, выдавая ее за красную икру?
– Ты еще про детский садик вспомни! – обиделся он и немедленно приложился к фляжке.
Тут я проявил слабость – разревелся. И даже не от осознания своей обреченности, сколько от обиды.
Во всем этом огромном и разнообразно устроенном мире, где гуманистические ценности приобретали все больший вес, где был расшифрован геном человека, где полным ходом шло объединение Европы, где людей давно перестали жечь на кострах за убеждения, где почти искоренили каннибализм, где стабилизировались цены на энергоносители и услуги падших женщин и где только одних китайцев насчитывалось полтора миллиарда, я вдруг оказался таким одиноким, словно ударная волна проклятой бомбы забросила меня куда-нибудь на Марс.
Брат, превратно истолковавший мои слезы, шепотом предложил:
– Хочешь, я тебе текилы в капельницу плесну? Сразу на душе полегчает.
– Ты бы лучше, гад, какого-нибудь яда туда плеснул! – ответил я сквозь слезы. – Все бы проблемы сразу и разрешились.
– Ага! – хитровато улыбнулся он. – Не хватало еще, чтобы меня потом в твоей смерти обвинили.
– Вот чего ты боишься! Не моей смерти, а собственных неприятностей.
Упрек, конечно, вышел малоубедительный, но отповедь я получил по полной программе. Братец, постоянно черпавший из фляжки все новые и новые силы, стал горячо доказывать, что неприятностей он как раз и не боится, поскольку нельзя бояться того, что уже и так висит на шее, а вот мне следует вести себя скромнее и не взваливать собственные беды на всех подряд, а в особенности на близких.
Тут спешно появилась медсестра, наблюдавшая за нашей милой беседой сквозь стеклянную дверь палаты, и чуть ли не взашей принялась выталкивать братца вон.
Когда этот подонок был уже за порогом, я неизвестно почему крикнул ему вслед:
– А каков хоть мотыль в Малайзии?
Высший сорт! Не мотыль, а удав! На такую наживку даже сома можно ловить! Кто его у нас сумеет развести, сразу разбогатеет! – слова эти безо всякого сомнения шли у братца от самого сердца, в котором нашлось достаточно места для жирных, противных личинок, а вот для меня – нет.
Мысль о самоубийстве, в течение всего срока пребывания в клинике никогда окончательно не покидавшая меня, во время перепалки с братцем созрела окончательно. Более того, я решил не откладывать дело в долгий ящик.
Действовал я скорее под влиянием аффекта, чем по заранее разработанному плану – оборвал все трубочки, до которых смог дотянуться правой рукой, опрокинул капельницу, а потом стал обдирать с головы бинты.
Однако я был плохого мнения о бдительности дежурного персонала (или просто выбрал неудачное время). Не прошло и минуты, как медсестра (не та, что выгоняла братца, а другая, помоложе) оказалась тут как тут, а спустя четверть часа возле моей койки собрался целый консилиум, первую скрипку в котором играли не нейрохирурги, формальные хозяева этого отделения, а пришлые психиатры, владения которых располагались в соседнем корпусе.
– Вы делаете большую ошибку, молодой человек! – заявил один из них, пухлый, словно надутая насосом резиновая игрушка. – Вспомните высказывания классика русской литературы Куприна о ценности и неповторимости человеческой жизни…
Мне бы каяться или, в крайнем случае, молчать, так нет же, не удержался, сцепился в споре с ученым человеком:
– Это насчет того, что жизнь надо любить, даже оказавшись под колесами железнодорожного состава? – уточнил я, а когда психиатр машинально кивнул, добавил: – Почему бы Куприну и не восславлять жизнь, если он большую ее часть из кабаков не вылазил. Но лично мне ближе высказывание другого русского классика: «Не хочу я быть настоящим, и пускай ко мне смерть придет».
– Кто же такую глупость мог сморозить? – удивился он. – Не иначе какой-нибудь декадент.
– Нет, акмеист Осип Эмильевич Мандельштам. И эти строки он написал на стене лагерного барака, подыхая от голода и цинги.
– Парафреновый синдром, – толстяк обменялся взглядом со своим коллегой, стоявшим у меня в головах.
– Нет, скорее синдром Корсаковского, – возразил тот. – Но, во всяком случае, клиент нашего профиля.
Они отозвали в сторону моего лечащего врача Михаила Давыдовича и долго что-то втолковывали ему, в то время как медсестры восстанавливали порушенную систему пластмассовых трубочек, меняли капельницу и прибинтовывали мою правую руку к койке.
– Доигрался ты, Олег, – сказал Михаил Давыдович после того, как психиатры покинули палату. – Будешь теперь на особом контроле. А твой поступок я расцениваю как черную неблагодарность. Особенно учитывая количество сил и средств, затраченных на лечение.
– После лечения человек выздоравливает, – дух противоречия продолжал тянуть меня за язык, что, наверное, и было одним из признаков загадочного «парафренового синдрома». – А мне это не грозит. Зачем же зря тратить лекарства и отнимать время у занятых людей?
– Не дури. Курс лечения не закончен. В нашем деле бывают самые неожиданные случаи ремиссии. Тем более что организм у тебя такой молодой… Шанс на благополучный исход всегда имеется. – Не знаю, кого хотел успокоить Михаил Давыдович – меня или себя самого.
Меня щедро накачали успокоительным и наконец-то оставили в покое. Уже проваливаясь в пучину тяжкого обморочного сна, я поклялся, что при первой же возможности возобновлю попытки раз и навсегда покончить с этой постылой жизнью.
Как она ко мне, так и я к ней.
С какой мыслью я уснул, с такой и проснулся. Это хорошо. Значит, у меня начала вырабатываться психологическая установка. Что это такое – расскажу позже.
За это время в палате мало что изменилось, только на прикроватном столике появился какой-то мудреный прибор типа осциллографа, провода от которого уходили под марлевую чалму, намотанную на мою бедную головушку.
По белому потолку ползла одинокая муха, а это означало, что в мире, который я собрался покинуть, наступила весна.
Оно и к лучшему. Меньше будет мороки с могилой. А то помню, когда хоронили отца, промерзшую почти на метр землю пришлось разрушать буровой, предназначенной для установки электрических опор. Обошлось это нам в четыре бутылки водки. Бурильщик прямо так и сказал: «Четыре дырки – четыре бутылки. Зимняя такса. А нет, так будете ломами целые сутки махать».
Судя по тишине в коридоре и расположению теней на стене, стояло раннее утро. Счеты с жизнью надо было покончить еще до прихода медсестры, иначе ее болтовня и живая мимика могли отвлечь меня от задуманного.
Возможности мои, надо признаться, были весьма ограничены. После того как мою нашкодившую руку лишили подвижности, я – увы – мог положиться только на разум и на волю (тем более, разум ущербный, а волю, подточенную бесконечными инъекциями анальгетиков и барбитуратов). Говорят, что есть люди, способные по собственному желанию регулировать частоту сокращения сердца и даже останавливать его. Я к числу таких талантов, к сожалению, не принадлежу. Не подвластны мне и другие внутренние органы (стыдно сказать – с некоторых пор даже мочевой пузырь). Выход один – прекратив дыхание, умереть от кислородного голодания. Будем надеяться, что это мне по силам.
Освежив в голове психологическую установку: «Умереть, умереть, умереть…», я сделал глубокий выдох и весь напрягся, дабы не позволить воздуху самопроизвольно проникнуть в легкие. Сонная муха продолжала свой затяжной рейд по потолку, и, наверное, это было последнее, что мне предстояло увидеть в земной жизни.
Так прошла минута, другая, третья.
Я держался из последних сил, и вскоре в глазах стало темнеть, а в ушах раздался похоронный звон. Однако умереть я не смог. Стоило сознанию слегка померкнуть, как освободившиеся от его диктата легкие стали на путь прямого саботажа, то есть задышали на полную катушку.
Мое тело, превратившееся в бесполезные руины, тем не менее не хотело умирать окончательно. Доводы разума не находили отклика у тупой плоти, доставшейся нам в наследство от трилобитов и динозавров.
Целый день с небольшими перерывами я продолжал это самоистязание, однако добился только того, что у меня носом хлынула кровь.
Это обстоятельство на некоторое время зародило новую надежду, хотя, если честно, мне не доводилось слышать о людях, скончавшихся от носового кровотечения. Но тут, как назло, появилась вездесущая медсестра. Она быстро уменьшила поступление физраствора из капельницы и вставила мне в ноздри ватные тампоны, пропитанные перекисью водорода.
Ближе к вечеру в палату заглянул пухлолицый и полнотелый психиатр, накануне пытавшийся наставить меня на путь истинный посредством цитат из Куприна (которого я, кстати сказать, терпеть не могу).
Разговор у нас получился весьма содержательный, хотя я все время чувствовал себя, как иностранный агент, которого испытывают на детекторе лжи.
В заключение он, как бы между прочим, заметил, что творчество Осипа Эмильевича Мандельштама, поэта безусловно замечательного, противопоказано для юных впечатлительных душ, не успевших очерстветь в житейских передрягах. Ведь буквальное понимание фразы «Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу», может привести к непредсказуемым последствиям.
Я спорить не стал. Глупо вступать в полемику, стоя на самом краю вечности. Это то же самое, что станционному зеваке переругиваться с пассажирами мчащегося мимо скорого поезда.
А психиатр-то оказался очень не прост. Уверен, что еще вчера про Осипа Эмильевича, этого «семафора со сломанной рукой», он и слыхом не слыхивал. Зато сегодня, надо же, – цитирует.
День пошел насмарку. Вся надежда теперь была на ночь. Но сначала следовало добиться, чтобы психологическая установка, уже завладевшая сознанием, распространилась также и на периферическую нервную систему, включая вегетативный отдел.
Что это такое, поясню на примере, взятом из средневековой истории. Пример, кстати, вполне достоверный. В те времена морские разбойники свирепствовали даже на Балтике. Само собой, что это не нравилось ни купцам, ни рыбакам, ни прибрежным жителям. И вот главарь одной такой пиратской шайки угодил в руки властей. Да не один, а вместе со всеми подручными. С приговором долго тянуть не стали – лишить всех головы, и баста!
По тогдашним законам каждый осужденный на смерть имел право высказать последнее желание, в пределах разумного, конечно. Воспользовались этим правом и наши разбойники. Кто-то потребовал кружку рома, кто-то трубочку, кто-то свидание с родней. Желания простые и вполне приемлемые.
Зато главарь озадачил судей. Во-первых, он хотел, чтобы ему отрубили голову в первую очередь. Во-вторых, просил помиловать тех своих соратников, мимо которых сможет пройти в обезглавленном виде.
Подумав немного, судьи согласились. Все были уверены, что у главаря ничего не выйдет. Ведь человек, в конце концов, не петух, который и без головы способен бегать.
Палач был специалистом своего дела и снес осужденному голову с первого удара. Тем не менее тот встал на ноги и, обливаясь кровью, двинулся вдоль шеренги своих соратников.
Он успел миновать семерых и, безо всякого сомнения, пошел бы дальше, но коварный палач, которому за каждую голову платили поштучно, швырнул ему под ноги свой топор.
Всех осужденных потом, естественно, казнили, честное слово властей и в те времена ничего не значило, но дело не в этом. Главарь разбойников поставил перед собой такую четкую и сильную психологическую установку, что тело повиновалось, ей даже при полном отсутствии головного мозга.
Если нечто подобное удастся повторить и мне, смерть станет желанием столь же осуществимым, как, например, отход ко сну или утоление жажды.
Но пока это не произошло, я должен был беспрестанно внушать себе: «Умереть, умереть, умереть… Уйти, уйти, уйти…»
И когда мне уже стало казаться, что тленное тело согласно отпустить на волю бессмертную душу, внезапно напавший сон спутал все мои планы.
Впрочем, ничего удивительного тут не было – в этот деть я намаялся как никогда. Так что даже снотворное не потребовалось…
Олег Наметкин, неудавшийся самоубийца
Что такое сон (так и хочется, вопреки законам орфографии, написать это слово с большой буквы), вновь возвращающий человека в благословенные былые времена, когда он был молод, здоров, свободен, бесшабашен и любвеобилен, лучше всего известно заключенным, отбывающим длительные срока, да прикованным к койке калекам.
Для них сон – это часть жизни, столь же неотъемлемая, как явь, это единственный способ показать кукиш злосчастной судьбе, это счастье и мука. Набегавшись по цветущим лугам за девками, приласкав своих детей и наказав обидчиков, они просыпаются потом на нарах в душной камере или на хирургической койке в душной палате и, осознав, что все недавно пережитое – лишь иллюзия, лишь мираж, в кровь кусают губы.
В сети этого сладкого обмана, столь же древнего, как и человеческий род, доводилось попадаться и мне, особенно в последнее время.
Сон, посетивший меня на сей раз, был необычайно детален, странен (странен именно в силу своего реализма) и тематически, так сказать, резко отличался от всего того, что бог Морфей посылал мне прежде.
Начался он ощущением… как бы это лучше выразиться!.. нет, не падения, а быстрого и плавного скольжения, словно бы я, вернувшись в детство, катаюсь на санках с ледяной горы.
О последующих своих впечатлениях мне говорить как-то даже неудобно… Но куда денешься? До ранения я был вполне нормальным парнем, не обделявшим противоположный пол своим вниманием, но в клинике многие прежние страсти покинули меня. В том числе и страсть к продолжению рода, опоэтизированная людьми сверх всякой меры. Ничего не поделаешь – тело мое ниже пояса было практически мертво. Сейчас же, скатившись по невидимой, существующей только в моем сознании горке, я очутился в страстных (простите за банальность, но другого выражения не подберешь) женских объятиях. Нас окружал жаркий, душистый мрак (и это при том, что я давным-давно не ощущал никаких запахов, даже резкую вонь хлорки).
Ничего не могу сказать за женщину, но, судя по всему, акт любви – испепеляющий, как разряд молнии, и почти такой же краткий, – для меня уже закончился.