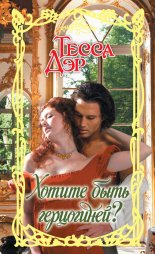Лето Господне Шмелев Иван

© Михайлов О. Н., предисловие, 1997
© Михайлов О. Н., комментарии, 2004
© Бритвин В. Г., иллюстрации, 2004
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2004
Об этой книге и ее авторе
Еще недавно, когда не существовало телевидения и «усталые игрушки» ложились спать самостоятельно, родители читали детям на ночь книжки – сказки, стихи, рассказы. Потом, с появлением радио, часть такой заботы взяли на себя актеры, в лицах рассказывавшие о «Малахитовой шкатулке» и Хозяйке Медной горы Бажова, о Коньке-горбунке Ершова или о чудесных приключениях Ашик-Кериба, сочиненных Лермонтовым.
В книгах «для маленьких» добро обязательно торжествовало над злом, плохое побивалось хорошим, бедный добряк наказывал жадного хапугу или даже самого царя, которого изображали глупым и злым.
Подрастая, мы с вами, однако, стали узнавать, что в жизни не все так просто, как в сказках и легендах. Несправедливость – частый гость на земле: богатый обижает бедного, сильный – слабого, и не только потом остаются безнаказанными, но и смеются над обманутыми. И немало таких, кто считает это естественным. Как же так? Отчего люди не боятся и не стыдятся обижать и обманывать друг друга? И почему так много несправедливости на земле, когда гибнет, поруганная, красота, когда умирают любимые люди, когда доброта и любовь часто не встречают понимания?
Оттого, что мир несовершенен.
Как поступать людям в таком мире, как вести себя, что делать, как относиться друг к другу, как сделаться – не за чужой счет – немножко более счастливым? Об этом думали писатели, создавая свои книги, в разные времена и в разных странах. И лучшие из этих писателей приходили к одному и тому же выводу, что существуют высшие силы – как в нас самих, так и вне нас, – которые только и способны помочь нам жить достойно, преодолевать невзгоды и испытания, творить добро ближнему, радоваться хорошему и отвергать дурное. Они писали книги, в которых «учительная сила» выступала ненавязчиво, незаметно, с глубокой верой в правоту того, что составляло для них смысл жизни. И произведений таких, право же, не так много.
«Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева – одна из таких удивительных книг.
Это книга о семилетнем мальчике, его радостях и горестях, написанная далеко от Москвы, в которой он жил. Жестокие события революции 1917 года и Гражданской войны забросили автора, Ивана Сергеевича Шмелева, как и сотни тысяч его соотечественников, в эмиграцию, за рубеж. С 1922 по 1950 год, год своей кончины, писатель провел во Франции и там создал лучшие свои произведения – «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне».
Шмелев и раньше писал специально «для детей», «для юношества». В его рассказах было немало добра, света, юмора. Но, глядя на свою родную Россию «издалека», сквозь слезы пережитого (можно сказать, на его глазах в Крыму в 1920 году в числе многих тысяч белых офицеров был расстрелян его единственный сын), он стал искать опоры на чужбине в таких ценностях, которые – как он все более убеждался – были вечными.
Эти ценности он обрел в своем детстве.
Чтение родной литературы с дошкольных лет убедило, кажется, нас, что о детстве – поэтично, красочно, солнечно, одухотворенно – можно рассказывать лишь тогда, когда прошло оно в деревне или в усадьбе, на русском приволье, среди его волшебных превращений.
Аксаковские «Детские годы Багрова-внука», и «Детство» Льва Толстого, и «Жизнь Арсеньева» Бунина, и «Детство Никиты» Алексея Толстого – все они убеждают в этом. Горожанин, москвич, коренной обитатель Замоскворечья – Кадашевской слободы, Шмелев опровергает эту традицию.
Нет, не нарывами на теле Земли возникали и устроялись наши города и мать их – Москва. Конечно, немало уродливого и прямо бесчеловечного было в ее недрах. И эти контрасты старой Москвы, увиденные глазами старого официанта, глубоко и проникновенно отразились в шмелевской повести 1911 года «Человек из ресторана». Но ведь было и иное, впитанное Шмелевым-ребенком. Посреди огромного города, «супротив Кремля», в окружении мастеровых и работников вроде умудренного филенщика Горкина, купцов и духовных лиц ребенок увидел жизнь, исполненную истинной поэзии, глубокой религиозности, патриотической одушевленности, доброты и несказанной душевной щедрости.
Здесь, без сомнения, истоки шмелевского творчества, здесь первооснова его художественных впечатлений.
Представьте себе карту старой Москвы.
Особое своеобразие придает городу Москва-река. Она подходит с запада и в самой Москве делает два извива, переменяя в трех местах нагорную сторону на низины. С поворотом течения с Воробьевых гор к северу высокий берег правой стороны, понижаясь у Крымского брода (ныне Крымского моста), постепенно переходит на левую сторону, открывая на правой, против Кремля, широкую луговую низину Замоскворечья.
Здесь, в Кадашевской слободе (когда-то населенной кадашами, то есть бочарами), 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1873 года родился Иван Сергеевич Шмелев.
Москвич, выходец из торгово-промышленной среды, он великолепно знал этот город и любил его – нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние впечатления детства навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и Вербную неделю, и «стояние» в церкви, и путешествие по старой Москве: «Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают о лед ломами. Скидавают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет… Весь Кремль золотисто-розовый, над снежной Москвой-рекой… Что во мне бьется так, наплывает в глаза туманом? Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, – солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах – милое мое Замоскворечье» («Лето Господне»).
Москва жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая и по сей день напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей и площадок, проездов, набережных, тупиков, сокрывших под асфальтом большие и малые поля, полянки, всполья, пески, грязи и глинища, мхи, дебри, или дерби, кулижки, то есть болотные места, и сами болота, кочки, лужники, вражки – овраги, ендовы – рвы, могилицы, а также боры и великое множество садов и прудов. И ближе всего Шмелеву оставалась Москва в том треугольнике, который образуется изгибом Москвы-реки с водоотводным каналом и с юга ограничен Крымским валом и Валовой улицей, – Замоскворечье, где проживало купечество, мещанство и множество фабричного и заводского люда. Самые поэтичные книги – «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933–1948) – о Москве, о Замоскворечье.
Племянница писателя Ю. А. Кутырина рассказывала, что Шмелев был среднего роста, тонкий, худощавый, с большими серыми глазами, владеющими всем лицом, склонными к ласковой усмешке, но чаще серьезными и грустными. Его лицо было изборождено глубокими складками-впадинами – от созерцания и сострадания. Лицо прошлых веков, пожалуй. Лицо старовера, страдальца.
Впрочем, так оно и было: дед Шмелева, государственный крестьянин из села Гуслицы Богородского уезда Московской губернии, – был старовер. Кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру: вступал еще при царевне Софье в «прях», то есть в спор о вере.
Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 году и, как полагается кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов. О крутом и справедливом характере деда, Ивана Сергеевича, Шмелев вспоминал:
«На постройке коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал «из упрямства» – отказался дать взятку. Он старался «для чести» и говорил, что за стройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залоговую стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался «царский паркет» из купленного с торгов и снесенного на хлам старого коломенского дворца.
– Цари ходили! – говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. – В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет!
После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом да эти три тысячи – было все, что осталось от полувековой работы деда и отца. Были долги».
Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева занимает отец, Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные поэтические строки. Это, очевидно, было чертой фамильной: он и сам будет матерью единственному сыну Сергею. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах изредка и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану. Так, жена писателя Бунина, Вера Николаевна, отмечает в дневнике: «Шмелев рассказывал, как его пороли, веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце – бесконечно».
Вот отчего в шмелевской автобиографии и в позднейших «вспоминательных» книгах так много об отце.
«Отец не кончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал портомойни на реке, купальни, лодки, бани (Шмелевым принадлежали известные до революции Крымские бани), ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества – для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики…
Я остался после него лет семи».
Семья отличалась патриархальностью, приверженностью старому укладу и истовой религиозностью («Дома я не видел книг, кроме Евангелия», – вспоминал Шмелев). Патриархальны, религиозны, как и хозяева, и преданны им были слуги. Ими помыкали и их же звали к хозяйскому столу в дни торжеств «на ботвинью с белорыбицей». Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и святых людях, сопровождали его в поездке в Троице-Сергиеву лавру – знаменитую обитель, основанную преподобным Сергием Радонежским («Богомолье»); они закладывали нравственные устои его характера. Шмелев посвятит одному из них, старому филенщику Горкину, лирические страницы воспоминаний детских лет.
Иной дух царил, однако, в замоскворецком дворе Шмелевых, куда со всех концов России стекались рабочие-строители. «Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их «на дворе».
Мы встретим эту красочную разноликую толпу, представляющую собой, кажется, всю Россию, на страницах многих его книг, но прежде всего в «итоговых» произведениях, в том числе и в «Лете Господнем».
«В нашем доме, – рассказывал Шмелев, – появлялись люди всякого калибра и всякого общественного положения. Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружали и раскрашивали щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганом. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелеты – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти «мастаки и архимеды», как называл их отец. Эти «архимеды и мастаки» пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова.
Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молоточки и учили, как «притрафляться» на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. «И эх и темы-най лес… да эх и темы-на-й…» Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие щи, крепко сдобренные перчиком.
Много повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли сделать такие, как и я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали захватывающие сказки…
Во дворе было много ремесленников – бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неподражаемых чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни – самой важной и мудрой. Здесь получились тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами».
Из закромов памяти пришли Шмелеву впечатления детства, составившие «Лето Господне», совершенно удивительную книгу по поэтичности, духовному свету, драгоценным россыпям слов.
Конечно, мир «Лета Господня» – мир Горкина, бараночника Феди и богомольной Домны Панферовны, старого кучера Антипушки и приказчика Василь Василича, «облезлого барина» Энтальцева и солдата Махорова «на деревянной ноге», колбасника Коровкина, рыбника Горностаева, птичника Солодовкина и «живоглота» – богатея крестного Кашина, – этот мир одновременно и не существовал и был, преображенный в слове. И эпос шмелевский, поэтическая мощь от этого только усиливаются.
Автор нескольких исследований, посвященных Шмелеву, философ И. А. Ильин писал о «Лете Господнем»:
«Шмелев никогда не заимствует канву для своей фабулы у внешнего порядка событий. Он не нуждается в этом. Фабула его произведений развертывается самостоятельно из самого предметного содержания. Но в книге «Лето Господне. Праздники» он строит свою фабулу как бы на внешней эмпирической последовательности времен, а в сущности идет вослед за календарным годом русского Православия.
Годовое вращение, этот столь привычный для нас и столь значительный в нашей жизни ритм жизни, имеет в России свою внутреннюю, сразу климатически бытовую и религиозно-обрядовую связь. И вот в русской литературе впервые изображается этот сложный организм, в котором движение материального солнца и движение духовного религиозного солнца срастаются и сплетаются в единый жизненный ход. Два солнца ходят по русскому небу: солнце планетное, дававшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу осень и строго-грозную, но прекрасную и благодатную белую зиму, – и другое солнце, духовно-православное, дававшее нам весною – праздник светлого, очистительного Христова Воскресения, летом и осенью – праздники жизненного и природного благословения, зимою, в стужу, – обетованное Рождество и духовно-бодрящее Крещение. И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки Года Господня своим трудом и своей молитвой. Вот откуда это заглавие «Лето Господне», обозначающее не столько художественный предмет, сколько заимствованный у двух Божиих Солнц строй и ритм образной смены».
«Лето Господне» – книга для семейного чтения. Ее лучше всего читать в добрых старых традициях – вечерами, вслух, на пользу не только детям, но и самим родителям, главу за главой. Это пища для ума и сердца и ребенку, и подростку, и юноше, и взрослому человеку. Ибо никогда не поздно подумать над тем, над чем понуждает думать Иван Сергеевич Шмелев: над предназначением маленького человека, вступающего в этот мир.
Олег Михайлов
I. Праздники
Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю.
Автор
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. Пушкин
Великий пост
Чистый понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник-филенщик Горкин сказал вчера, что Масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап… кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал: «Душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.
– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был Прощеный день. И Василь Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках: «Всех прощаю!» Почему же кричит отец?
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, Масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.
– Вставай, милок, не нежься… – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, Масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел пост – отгрызу у волка хвост. На Постный рынок с тобой поедем, васильевские певчие петь будут – «Душе моя, душе моя», – заслушаешься.
Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое – Чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Знаю, что он святой. Такие – угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».
– А почему папаша сердитый… на Василь Василича так?
– А, грехи… – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли… по закону-то! Читай: «Господи Владыко живота моего». Вот и будет весело.
И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли «постную», голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», – и я напеваю за ним, чудесное:
- И свято-е… Воскресе-ние Твое
- Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста.
Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет. Где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет: «Увы мне, окаянная я!» Так и в ефимонах теперь читается.
– Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого дня дождаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: по-мни… по-мни!.. – поокивает он так славно.
В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест – по-мни… по-мни… Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется – постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина – «Красавица на пиру» – закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится – такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то – «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатками, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно. Великий пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… Мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, – весь двор завалят. Поедем на Постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был… Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:
– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.
Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же… как же Он допустил?..
Чувствуется мне в этом великая тайна – Бог.
В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, сгоряча, – и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, – злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».
– Пьяная морда! – кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. – И посейчас пьян?! в такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями… прости, Господи! Публику чуть не убили на катанье?! А где был болван приказчик? Мешок с выручкой потерял… на триста целковых! Спасибо старик-извозчик, Бога еще помнит, привез… в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..
– Ни в одном глазе, будь п-кой-ны-с… в баню ходил-парился… Чистый понедельник-с… все в бане, с пяти часов, как полагается… – докладывает, нагибаясь, Василь Василич и все отталкивает кого-то сзади. – Посчитайте… все сполна-с… хозяйское добро у меня… в огне не тонет, в воде не горит-с… чисто-начисто…
– Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? а? От квартального с Пресни записка мне… Чем это пахнет? Докладывай, как было.
– За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда… ошибся… ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились, – ка-тай! Маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат – жеще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал… ну, выпивши маленько…
– А ты трезвый?
– Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был… А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники… с блинами на горы приезжали и с кульками… Очень я им пондравился…
– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври…
– Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка… А они меня поперек держут, распорядиться не дозволяют. Лети-им с гор… не дай Бог… вижу, пропадать нам… Кричу – Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать… да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место… с кулак нажгло-с… А там, дураки, без моего глазу… другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел… ну, тоже маленько для проводов Масленой не вовсе тверезый… В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало… А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валяный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило… лежали мы на льду, на самом на ходу… Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу… и ему солянки велел подать… и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно… все веселения, чтобы для тишины.
– Антошка с Глухим как, лежат?
– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч, фершал, смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался было я, без памяти оба вчерась лежали, от… сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да… голову мне поранило о дилижан, память пропала… один мешочек мелочи и забыл-с… да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!
– Ступай… – упавшим голосом говорит отец. – Для такого дня расстроил… Говей тут с вами!.. Постой… Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять… двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.
Василь Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!
Я долго стою и не решаюсь – войти? Скриплю дверью. Отец, в сером халате, скучный, – я вижу его нахмуренные брови, – считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и – звонко – серебро.
– Тебе чего? – спрашивает он строго. – Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники… Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!
Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.
В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты – «от угара». Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:
– «…и вси… свя-тии… ангелы с Ним».
Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов… – и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:
– Ох, кваску бы… огурчика бы…
А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:
– «Идите от Меня… в огонь вечный… уготованный диаволу и аггелам его!..»
А часики, в тишине, – чи-чи-чи…
Я тихо сижу и слушаю.
После унылого обеда, в общем молчании, – отец все еще расстроен, – я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает… А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает – ни слова.
– А за что изругали! – уныло говорит он мне, смотря на крыши. – Расчет, говорят, бери… за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки… с мальчишек… Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот… расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит…
У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили, и Василь Василича.
– Василь Василич! – слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. – Ты как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..
– Какие есть – все ваши, а чудесов тут нет, – говорит в сторону и строго Василь Василич. – Мне ваши деньги… у меня еще крест на шее!
– А ты не серчай, чучело… Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.
– А так, что вчера ломились на горы, Масленая… и задорные, не желают ждать… швыряли деньгами в кассыю, а билета не хотят… не воры мы, говорят! Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные… ну, пятерку пропили, может… только и всего. А я… я вашего добра… Вот у меня, вот вашего всего!.. – уже кричит Василь Василич и враз вывертывает карманы куртки.
Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:
– Нечего проклажаться! Эй, робята… забирай лопаты, снег убирать… лед подвалят – некуда складывать!
Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.
– Постишься, Вася? – посмеиваясь, говорит Горкин. – Ну-ка, покажи себя, лопаточкой-то… блинки-то повытрясем.
Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой. Начинают печально благовестить – по-мни… по-мни… – к ефимонам.
– Пойдем-ка в церкву, васильевские у нас сегодня поют, – говорит мне Горкин.
Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:
– Василь Василич… зайди-ка на минутку, братец.
Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно – дрожит у него голос:
– Так и поступай, с папашеньки пример бери… не обижай никогда людей. А особливо когда о душе надо… пещи. Василь Василичу четвертной билет выдал для говенья… мне тоже четвертной, ни за что… десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людями. Наши робята хо-рошие, они це-нют…
Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест… Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок… – я и теперь его слышу в сердце.
Ефимоны
Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает – от грехов, должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой – старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.
– Горкин, – спрашиваю его, – а почему стояния?
– Стоять надо, – говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. – Потому как на Страшном суду стоишь. И бойся! Потому – их-фимоны.
«Их-фимоны»… А у нас называют – «ефимоны», а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит «филин» и «лимоны». Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же «филимоны» Марьюшка говорит?
– Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны… Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние – покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние… Стой и шопчи: «Боже, очисти мя, грешного!» Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их-фимоны!..
Таинственные слова, священные. Что-то в них… Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех» – это я выучил в молитвах. И еще – «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви и с нами Бог. И еще – радостные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «цело-мудрие» – будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.
Их-фимоны, стояние… как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там – прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещенье в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, – много-много. И все мы туда преставимся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны, и благовест печальный – помни… по-мни…
И кругом уже все – такое. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва халвой, – совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.
– Горкин, а вороны преставятся на Страшном суде?
Он говорит – это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.
– Пожалуй что и вся тварь воскреснет… – задумчиво говорит Горкин. – А за что же судить! Она – тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.
Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг – воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.
– Хозяин выгнал за безобразие! – говорит Горкину половой. – Дни строгие, а он с Масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом…
– За шары подавай …! – кричит парень ужасными словами.
– Извощики спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.
Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.
– Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары… – кричат половые вслед.
– Пойдем уж… грехи с этим народом! – вздыхает Горкин, таща меня. – А хорошо, стро-го стало… блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на перву неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от!
И мне нравится, что блюдет.
Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы, – пошла работа! Стелется вязкий дух – теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.
– Постой-ка, – приостанавливается Горкин на площади, – никак, уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему…
Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах – неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.
В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне – постукивают в них кости.
– Жирнову, что ли? – спрашивает у народа Горкин.
– Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!
Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он – как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь… Вкладывают шумящую перинку, – через реденький коленкор сквозится сено, – жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:
– Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, Царство ему Небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.
В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки… и стук пустоты в ушах. А благовест призывает – по-мни… по-мни…
– В Писании-то как верно – «человек, яко трава»… – говорит сокрушенно Горкин. – Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь Василич из уважения сам скатывал, а вот… Рабочие его рассказывали, двои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался… да кулебячки, да кваску кувшинчик… Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста. Левон его и парил, у нас, в дворянских… А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он го-тов. Теперь уж там…
Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.
– Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, – ласково просит Горкин. – «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.
– Ладно, поворчу… – хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. – В больницу велят ложиться, душит… Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то на «Господи Сил, помилуй нас». А на «Душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напомни старосте… – хрипит Ломшаков, заглатывая подкову с маком. – С прошлого года вашу кулебячку помню.
– Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.
– А за виски?.. Ангелами воспрянут.
В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева – трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот – «О, Господи…». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает, —
- По-мо-щник и По-кро-ви-тель,
- Бысть мне во спасе-ние…
- Сей мо-ой Бо-ог…
И начались ефимоны, стояние.
Я слушаю страшные слова: «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя… душа-блудница… во тьме остави мя, окаянного!..»
- Помилуй мя, Бо-же… поми-луй мя!..
Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй… что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки… «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, – побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, – и падаю на колени в страхе.
- Душе мо-я… ду-ше-е мо-я-ааа,
- Восстани, что спи-иши,
- Ко-нец при-бли-жа…аа-ется…
Господи, приближается… Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь – и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь Василич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли!» – молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои – в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками… На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай… «Господи Сил»…» И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой:
- Го-споди Си…ил,
- Поми-луй на-а…а…ас!
На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает, воздыхающим голосом:
- Господи и Владыко живота моего…
Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я – ровно двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного…» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.
…Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятия теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» – думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. – Непременно воскреснут! А это… только на время страшно…»
Дремлет моя душа, устала…
– Крестись, и пойдем… – пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. – Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.
Уже совсем темно, но фонари еще не горят, – так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом – к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом: только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза: там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то?.. Да нет, не надо…
– Глянь-ко, опять мотается! – весело говорит Горкин. – Он самый, у бассейны-то!..
У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.
– Никак все с шарами не развяжется!.. – смеются люди.
– Это я-та не развяжусь?! – встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. – Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..
Треснуло – и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.
– Вот и развязался! Завтра грыбами заторгую… а теперь чай к Митреву пойдем пить… шабаш!..
– Вот и очистился… ай да парень! – смеется Горкин. – Все грехи на небо полетели.
И я думаю, что парень – молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, – первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче…
– Нет, не галки это, – говорит, прислушиваясь, Горкин, – грачи летят. По гомону их знаю… самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь пошла!..
У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.
– Эй, Мураша… давай-ко ты нам с ним горячих вязочку… с пылу с жару, на грош пару!
Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.
– С Великим постом, кушайте, сударь, на здоровьице… самое наше постное угощенье – бараночки-с.
Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.
Мартовская капель
…Кап… кап-кап… кап… кап-кап-кап…
Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко – это весеннее, обещающее – кап-кап… Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю; это веселая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель.
Под сосенкой – кап-кап…
Под елочкой – кап-кап…
Прилетели грачи – теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками – пескариков, налимов, – принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмется дружно – поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут… будем на плотиках кататься.
В тревожно-радостном полусне слышу я это все торопящееся – кап-кап… Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.
…Кап-кап… кап-кап-кап… кап-кап…
Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.
Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль: взялась! Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал, – в доме большая стирка, великопостная, – окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет… – тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый Город, на грибной рынок, где – все говорят – как праздник.
Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба ангелы, – я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!
На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырики-глазочки видны, и пятнышки… и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно – шары! Это мои шары гуляют, вьются за форточкой, другой уже день гуляют: я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, – ну совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички, – я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как ангелы.
А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои… Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождались, – это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах, – самые веселые обои. И пушечка моя как золотая… и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки. Весна, весна!..
И шум за окном, особенный.
Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот… Не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василь Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:
– Эй, смотри у меня, робята… к обеду чтобы!..
Слышен и голос Горкина, как комарик:
– Снежком-то, снежком… поддолбливай!
Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили.
Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зелено-голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, – весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце – зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки… Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:
– Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..
Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль.
– Порожняки, отъезжай… чер-ти!.. – кричит Василь Василич, попрыгивая по глыбам. – Стой… который?.. Сорок се-мой, давай!..
Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла. Ишь как спешит капель – барабанит, как ливень дробный. А Василь Василич совсем по-летнему – в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют-швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекла, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу – рекою пахнет, живой рекою!..
В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь Василичем и вдруг – толкает. Василь Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами – летит и пушится снег, залепляет Василь Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку… но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все, от капель, качаются… – и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:
– Ну, будет баловаться… Поживей-поживей, ребята… к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет!