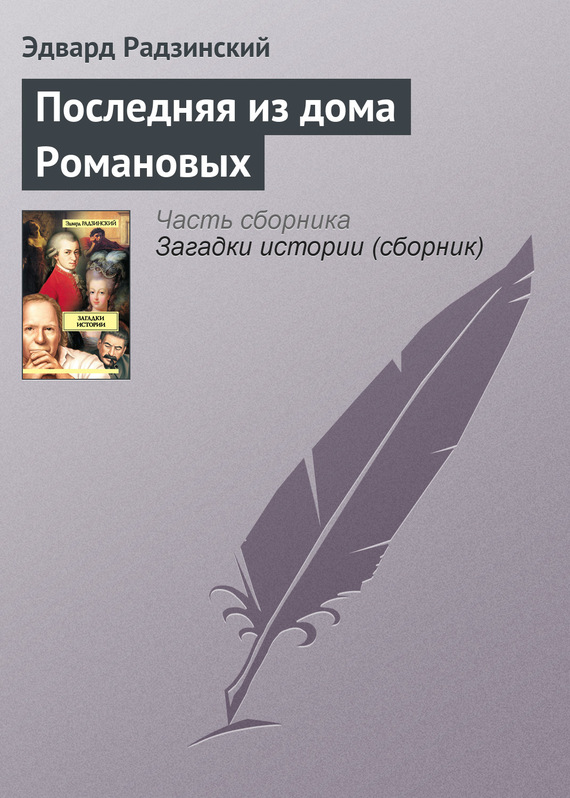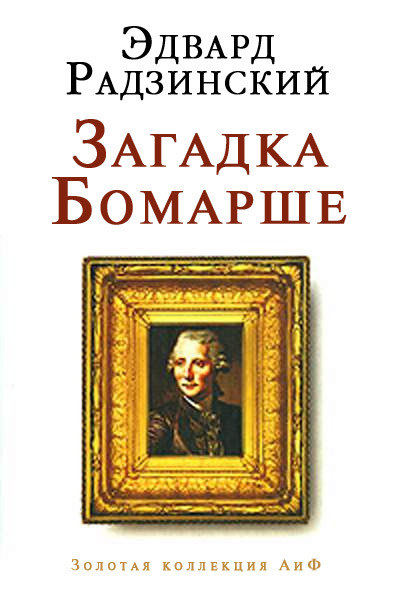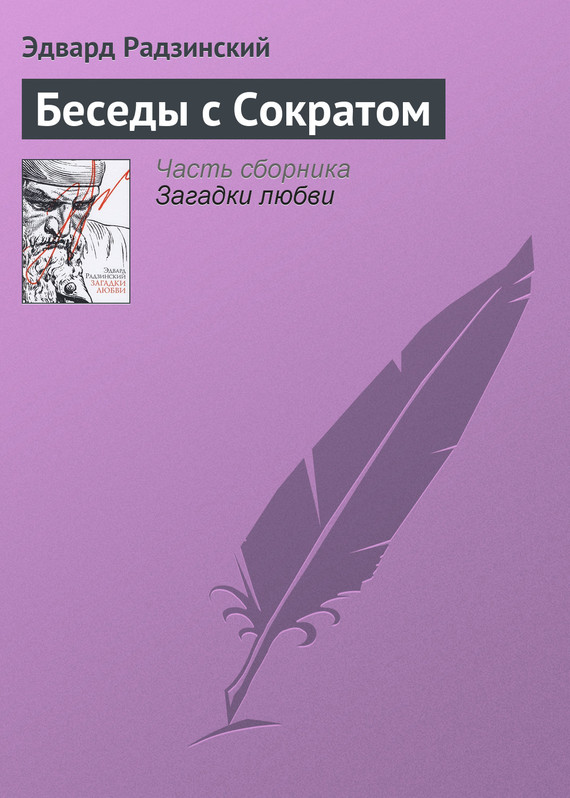На задворках Великой империи. Книга первая: Плевелы Пикуль Валентин
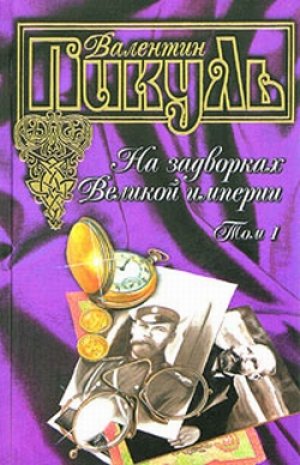
Мышецкий стыдливо назвал имя своего сына. Петя в робости топтался возле дверей.
– Оставь нас! – прикрикнула сестра, и Попов покорно затворил за собой двери.
Додо встала, стремительно прошлась по комнате. Широкие одежды ее, как ремни, со свистом стегали вокруг нее воздух.
– Мы ведем свой род от Рюрика, – вспылила она, – не затем, чтобы закончить его Адольфом-Бурхардом! Мой мельник этого не поймет, он оставит моим детям только муку и жернова. Но – ты! Ты обязан продлить род…
Мышецкий, не вставая с кресла, ласково привлек к себе сестру за руку:
– Что с тобою, Додо? Почему ты так говоришь о своем муже? Ведь Петя хороший человек, и он тебя очень любит.
– Ты ничего не знаешь! – отмахнулась сестра и сразу заговорила о другом: – Поедешь, наверно, через Новгород?.. Ради бога, посети наше гнездо, где мы были так счастливы в детстве… Вокруг все рушится, все трещит! Как спасать – не знаю! Кровь, всюду кровь…
Додо говорила яростно, залпами, и Мышецкий уловил в ее дыхании слабый запах вина.
– Ладно, – миролюбиво закончил он, вставая. – Я поднимусь к Пете. Неудобно…
Попов явно поджидал его, стоя среди своих сокровищ – огромной коллекции гравюр и офортов, упрятанных в роскошные фолианты зеленого сафьяна. На рабочем столе его возвышались груды каталогов от Бёрнера, Драгулина и фирмы Бисмейера, которые совсем вытеснили на край и задавили нехитрую бухгалтерию его мукомольной фабрики.
Желая сделать приятное шурину, Сергей Яковлевич сразу же разрешил:
– Ну, Петя, начинай хвастать!
И бедный Петя сорвался с места, лез к потолку, тащил пудовый фолиант, кончиками пальцев бережно ласкал линии офорта, ликовал от восторга:
– Тридцать пятый лист к сюите Рейнеке… Знаете – кого это? Самого великого Эвердингена. И, знаете, как достал? В хламе с аукциона! Продавался вместе с египетским саркофагом из-под мумии. Всего за две сотенных… Без саркофага не продают! Что делать? Я взял… Теперь у меня не хватает только восемнадцатого листа…
– А где же саркофаг?
– Куда его! Отдал на свинарник. Из него теперь свиньи помои лакают… Нет-нет-нет, – настаивал Петя, – возьмите линзу: какая непревзойденная четкость линий! А нажим, нажим… Ну?
Мышецкий линзу взял, отметил железную точность резца, но мысли его сейчас были далеки от искусства.
– Милый Петя! – И он вскинул линзу к глазам, посмотрев на увлеченного шурина. – Я кое-что уже слышал в Питере, но, честно говоря, не верю… Додо человек остро чувствующий, несомненно – личность незаурядная, но как бы там ни было… Я не верю! – повторил Сергей Яковлевич, ибо ничего более не мог сказать в оправдание сестры.
Попов тихонько заскулил, пряча свое большое лицо в широко растопыренных пальцах. Мышецкий смотрел на его подрагивающие, по-бабьи рыхлые плечи и мучительно переживал за этого человека.
– Вы ничего не знаете, – сказал Попов, снова всхлипывая. – Но мне так тяжело… Так тяжело! Боже, какой я несчастный.
Князь пересел поближе к шурину, встряхнул его:
– Дорогой Петя, я не знаю, как это делается, но… Сойдитесь с первой же горничной – вам станет легче.
– Нет, – отозвался Попов, – я не могу… Я слишком люблю вашу сестру.
Он вдруг встал, раскинул руки, обвел стены в сафьяновых фолиантах, лицо его просветлело.
– Все равно, – сказал он торжественно. – Я самый счастливый человек на свете… Вот они, мои сокровища! Великие мужи мира сего! Я недостоин созерцать вас. Но вы… Вы укрепляете дух мой!..
Их позвали вниз – к чаю. В гостиную, широко позевывая, вышел откуда-то из потемок статный красавец, которого Сергей Яковлевич знал еще по Петербургу. Это был граф Подгоричани, служивший в кавалергардах. Судя по всему, он чувствовал себя на даче Поповых как в родном полку. Тонкие, в обтяжку рейтузы кавалериста бесстыдно подчеркивали ту часть его тела, которую прогрессивное человечество находит нужным укрывать от докучного любопытства.
Сергей Яковлевич со значением посмотрел на сестру, и она поняла его взгляд, полный укоризны.
– Друг нашего дома, – сказала Додо и тихо добавила: – И… Петин друг!
Бедный Петя совсем сгорбился за столом, машинально дул на горячую ложечку. Подгоричани, на правах знакомца, сунул Мышецкому руку, на которой не хватало двух пальцев, откушенных лошадью (или потерянных в рубке, как заявлял он).
– Рад видеть вас, князь. Давненько в наших палестинах?
И, не дождавшись ответа, раскрыл буфетные дверцы. Послышалось тяжелое бульканье ликера. Подгоричани крякнул и снова появился перед столом, оглядев притихшее семейство ясными, наглыми глазами.
– А вы, граф, все еще в полку? – спросил Мышецкий с вызовом, быстро бледнея.
– Конечно!
– Хм, странно…
– Чего же странного?
– Странно, что вас еще не выгнали…
Чувствуя назревающий скандал, сестра перехватила поднос из рук горничной:
– Идите, милая. Остальное я сделаю сама…
Додо была растеряна, и Мышецкому стало жаль ее. Сергей Яковлевич решил пренебречь всем, дружески повернулся к своему шурину:
– Я хотел бы поговорить с вами, Петя.
– Отчего же… Может, выйдем в бильярдную?
– Говорите здесь, – громко сказал Подгоричани. – Я не буду прислушиваться…
– Дело в том, – начал Мышецкий неуверенно, – что мне нужны деньги. И на этот раз – немалая сумма…
– Кстати, – вмешался Подгоричани, – мне тоже нужны деньги.
Мышецкий оттолкнул от себя чашку, и рыжие потоки чая заплеснули скатерть. Он сорвал с груди салфетку и, скомкав, швырнул ее через весь стол в лицо графу Подгоричани.
– Авдотья! – потребовал он. – Усмири его…
Додо поднялась из-за стола.
– Анатоль, – сказала она, – вы же благородный человек!
Петя осмелел:
– Анатолий Николаевич, как вам не стыдно? А еще дворянин! Неужели вам не зазорно проживать на мой счет? Эх, вы…
Подгоричани встал, направился к дверям.
– Я же отдам!.. – заявил он с порога.
Мышецкий долго сидел над опрокинутой чашечкой, мучительно страдая.
– Вот так и живем, – снова заплакал Петя.
– Я не виновата, – ответила Додо.
– Быть по сему, – вздохнул Мышецкий, поднимаясь. – Ладно, покажите, где приготовлена постель для меня…
День сегодня был слишком богат событиями, и он сильно устал. Князь добрался до отведенных ему покоев, быстро уснул.
Ночью к усадьбе подошли волки и, сев на тощие подмороженные зады, дружно обвыли обитателей этого дома.
5
Денег у шурина он все-таки занял и утром вернулся в город, чтобы встретить Алису.
На вокзале Мышецкий наскоро перекусил в буфете (завтракать у Поповых он отказался, ссылаясь на диету) и поспешил на перрон. Ждать пришлось недолго: сверкающий локомотив, устало вздыхая после дороги, плавно подкатил запыленные вагоны.
Сергей Яковлевич был настроен несколько торжественно, на любовный лад. Встреча с Алисой рисовалась ему чем-то волнующим и праздничным. Князь был молод, здоров и тосковал по недавно обретенному супружескому счастью.
Двери заветного вагона распахнулись, Мышецкий в нетерпении подался вперед, снял цилиндр, приосанился, взмахнул тростью. «Ну, сейчас, сейчас!..»
И вдруг – о ужас! – перед ним запрыгали котелки и тросточки близнецов фон Гувениусов, в глазах князя запестрело от мелькания их панталонов в мелкую клетку. Божий свет померк, и сразу все сделалось пустым и безразличным.
Алиса издали тянула к нему руку с зонтиком.
– Serge, Serge! – звала она.
Сергей Яковлевич уже растерял приготовленные слова.
– Наконец-то, – вот и все, что он смог сказать.
Еще вчера он распорядился подогнать к вокзалу карету – свою, старенькую, но вместительную. Фон Гувениусы уже качались на мягких подушках, захлебываясь от восторга.
Мышецкий тут же выставил их обратно:
– А ну – брысь, судари! Здесь сядет кормилица…
Они прыгали вокруг него, как восторженные лягушки:
– А куда же нам? А как мы?
– Куда вам? – переспросил Мышецкий надменно.
В нем вдруг заговорил столбовой дворянин, идущий от князей черниговских, – униженная гордость встала на дыбы:
– Для вас, молодые люди, уже приготовлены запятки!
Он захлопнул дверцы перед их носом. Алиса не ощутила его холодности при встрече, и это было неприятно Сергею Яковлевичу тоже. Он отомстил ей тем, что только в карете соизволил взглянуть впервые на младенца.
– Как часто вы даете ему грудь? – спросил он кормилицу.
Та в ответ только потрясла головою, и Мышецкий с упреком повернулся к жене:
– Разве же кормилица не знает по-русски?
– Нет, Serge. Зато у нее чистый берлинский выговор.
– Завтра же отправим обратно, – распорядился он. – Кормилица будет русская, имя сына – тоже русское, Афанасий!
Жена попробовала что-то возразить, но он сухо закончил:
– Дорогая, с меня достаточно и твоих кузенов…
Они уже сворачивали на Первую роту Измайловского полка, и Сергей Яковлевич оглянулся назад: близнецы фон Гувениусы, обняв друг друга, придерживая рыжие котелки, тряслись следом за каретой в наемных дрожках.
– Зачем ты привезла их сюда? – спросил он жену строго.
– Молодые люди жаждут делать карьеру, – был ответ.
– Боже, но кому они нужны здесь? – в отчаянии произнес Сергей Яковлевич.
– Правда, – заметила Алиса, – они могли бы поехать и в Берлин, но…
– Так почему же не поехали?
– Но ведь Петербург ближе, – рассудила жена.
Мышецкий зло рассмеялся.
– Ах, только потому! Я и не знал, что они такие патриоты. Но, посуди сама, куда же я их дену? Петербург ломится от своих чиновников – образованных, знающих языки и дело!
Алиса забрала из рук мужа цилиндр и положила в него свои перчатки.
– Я понимаю, – ответила она спокойно, – в Петербурге им будет трудно устроиться на службу. Но ты должен забрать их с собою.
Мышецкий не отказал себе в удовольствии съязвить:
– Да, милая, но Берлин-то гораздо ближе, чем Уренская губерния!
Наконец-то жена поняла и обиделась:
– Ты всегда был недоволен моей родней, но твоей родни я что-то еще не видела.
Сергей Яковлевич вспомнил свою сестру, жалкого Петю, рейтузы графа Подгоричани и надолго замолчал.
А Петербург – в предчувствии весны – был так хорош сегодня! Солнце золотило купола церквей, сияние дня наложило на здания легкие пастельные тона, как на старинных акварелях. Близилась Пасха, и город тонул весь в пушистых вербных сережках. Над гамом площадей и улиц вдруг ударило пушечным громом, и жена пугливо вздрогнула.
Мышецкий взял ее прохладную ладонь в свою…
– Полдень, – объяснил он, – ты не пугайся… Двести лет подряд Россия отмечает свой трудовой день! Привыкни к этому.
И ему вдруг стало жаль жену, залетевшую в чуждый ей мир, где только его объятия знакомы для нее. И Сергей Яковлевич привлек Алису к себе, заботливо поправил цветы на шляпе и погладил ее длинные пальцы, безвольно лежавшие на коленях.
– Все будет хорошо, – сказал он. – Без працы не бенды кололацы!
Алиса не поняла его, но засмеялась. Карета остановилась, и Мышецкий приветливо распахнул дверцы:
– Вот и наш дом. И ты – хозяйка…
Жена подняла глаза кверху: под карнизом крыши обсыпался трухлявой штукатуркой княжеский герб.
– Почему ты не поправишь его? – спросила Алиса.
– Жалко денег на эти… глупости, – ответил муж.
С грохотом подкатили на своей таратайке и близнецы фон Гувениусы, снова зарябили штанами и жилетками.
Мышецкий предупредил их:
– Молодые люди, у меня к вам просьба – не таскайте мелочь из моих карманов. У меня этого не делают даже лакеи. И оставьте в покое горничную – для таких, как вы, существуют публичные дома…
Через несколько дней, поздно вечером, вагон уренского вице-губернатора, прицепленный к поезду, миновал окраины Петербурга и медленно окунулся в черноту ночи: началось путешествие – мимо городов и сел, по чащобам лесов и степей, в глухие просторы заснеженной Российской империи.
Глава вторая
1
В дорожной свите, помимо повара, нанятого до Казани, появилось новое лицо – кормилица Сусанна Бакшеева (или же попросту Сана), чистоплотная бабенка с могучей грудью, очень независимая в обращении с господами, взятая из конторы по найму кормилиц с очень хорошими рекомендациями.
Однажды, сидя напротив нее и глядя, как сует она темный сосок в бледно-розовый рот младенца, Мышецкий с трудом отвел взгляд на посторонние предметы.
– А где же твой муж, Сана?
– А шут его знает, – ответила женщина. – Наверное, где-нибудь да шляется, непутевый…
– Не боишься, что завезем тебя далеко?
– Ах, не всё ли равно! Куда ни приедешь – везде Россия…
Мышецкий потом долго ругал себя за то, что имел неосторожность спросить по наивности:
– Твой-то ребенок, Сана, с кем остался?
И женщина вдруг отвернулась к окну:
– Не спрашивайте. А то разревусь и молоко испорчу…
Сергей Яковлевич вышел в коридор, вдоль которого висели развешанные для просушки сырые пеленки. Министерский вагон, прослоенный свинцом на случай катастрофы, тяжело мотало на поворотах. Внутри его было душно, но Алиса не разрешала устраивать сквозняков, остерегаясь ночной сырости.
В неизменном шарфике на шее, сухо покашливая в кулак, вышел и Кобзев, перед которым Мышецкий счел нужным извиниться за пеленки, развешанные в проходе.
– Что вы, Сергей Яковлевич, – ответил старик. – Наоборот, мне даже приятно. Напоминает о семейном счастье, каким я никогда не пользовался…
Мышецкий приник к оконным стеклам, загородясь от света ладонями. Долго вглядывался во тьму, расцвеченную пробегающими пятнами из-под паровоза, истошно кричавшего впереди.
– Кажется, – сказал он, – проскочили Лугу… Когда-то я проводил здесь перепись населения, а для мужиков, не обладавших фантазией, придумывал фамилии: Бельведерский, Подсудимов, Шибкопляс и Папаримский…
– Развлекались?
– Был молод, – вздохнул Мышецкий с сожалением.
– Вы не стары и сейчас.
– Тридцать лет, – улыбнулся чиновник. – Возраст для поэта уже критический.
– Но только не для вице-губернатора, – заключил Иван Степанович Кобзев.
Немного помолчали, привыкая один к другому.
– В Луге, – не сразу продолжил Кобзев, – почвы удивительны. Они отдают из недр своих здоровое излучение, благодаря чему человек в этих краях живет долее обычного. Кстати, здесь родина многих декабристов…
– Да… А знаете, – с удовольствием напомнил Мышецкий, – ведь Муравьевы мои дальние родственники! Утром мы как раз будем в моих краях. Сестра просила меня поклониться могилам. Посмотреть – как там все…
Кобзев сильно закашлялся, и Сергей Яковлевич торопливо загасил папиросу:
– Извините, более я не буду курить в вашем присутствии.
– Ничего, – отозвался Иван Степанович и смущенно стиснул в кулаке платок.
Мышецкий все же заметил на нем кровь.
– Что же вы раньше ничего не сказали? – испугался он.
– Вы не беспокойтесь, – ответил Кобзев. – В купе, где ваши жена и мальчик, я заходить не буду. Мне бы только доехать. Только бы доехать!..
За ночь Сергей Яковлевич успел немного вздремнуть, но чутко слышал, как отцепляли вагон от состава. Его разбудил путеец, не поленившийся прийти со станции.
– Ваше сиятельство, – сказал он, посветив фонарем, – имею распоряжение, согласно вашей просьбе, задержать вагон на границе Валдайского и Крестецкого уездов.
– Благодарю, я сейчас выйду. Скажите – есть ли поблизости мужики с лошадьми?
– Здесь неподалеку перевоз – найдете, князь…
В вагоне стояла непривычная тишина. Мышецкий заглянул в купе Алисы – жена крепко спала, кружевной чепчик ее сбился на одно ухо. Приоткрыл двери «детской» – Сана могуче раскинулась на плюшевом диване, из-под локтя женщины выглядывало личико младенца.
«Какие они все славные люди», – с умилением думал Мышецкий, выходя из вагона.
Утро было жестко-холодное, лужи хрустели под ногами. Сергей Яковлевич пожалел, что оставил шубу в вагоне, надев только крылатку. Ехать было недалеко, но мужики заломили с него немало по случаю… овса (как водится, опять подорожавшего).
– Ладно, поехали. До Заручевья и обратно…
И в тряской телеге, пока еще не совсем рассвело, он больше дремал, прислушиваясь к раннему пению петухов. Но вот туман расступился, кобыленка внесла телегу на угорье, дробно простучал под колесами настил моста, повеяло в воздухе чем-то утешно-сладким, родным, полузабытым…
Заручевье встретило его пустотой и навозной прелью. Был еще ранний час, и князя, конечно, никто не ждал. Да и забыли – кому он нужен теперь? Дряхлый священник на паперти церкви долго тыкал ключом в замок – сослепу промахивался.
– День добрый, батюшка, – сказал князь, подходя к нему. – Как на кладбище – целы ли могилы?
– Ну сударь! Человек цел не будет, а могилам что станется? Об этом не печальтесь…
Сергей Яковлевич оглядел тоскливую, словно выбитую гладом и мором, панораму бывшего родимого имения.
– А ведь тут была раньше аллея столетних вязов и кленов, – машинально вспомнил он. – Где же она, батюшка?
– Вырубили, сударь. Мужики вырубили.
– Зачем же?
– Поначалу так просто, чтобы продать. Но миром не поделили и миром пропили. В брюхе ведь не видать – кому больше, кому меньше досталось… Нету, сударь, аллейки!
– Жаль, – вздохнул Мышецкий.
К ногам его упали тяжелые засовы с дверей, распахнулась перед ним мрачная утроба бедной сельской церквушки.
– Зайдете, сударь? – спросил священник.
– Нет, – раздумывал Мышецкий, – мне тяжело молиться на этом месте. Я помолюсь про себя…
Прибежал откуда-то староста, спросонья принявший его за исправника. Вдвоем они добрели до разрушенной усадьбы. Двери были забиты досками, и Мышецкий с хрустом отодрал их напрочь. Ногой выбил двери, сказал старосте:
– Не входи. Я один…
С трепетом, на цыпочках, словно боясь разбудить кого-то, он вошел внутрь дома, и дом сразу отозвался на приход хозяина скрипами и плакучим воем ветра под сводами.
Где-то взвизгнула умирающая дверь. Сергей Яковлевич снял шляпу, как над покойником, едва приучил глаза к полумраку. Дневной свет дробился через щели заколоченных окон, жирная пыль таяла под пальцами.
– Ваше сиятельство, – заголосил староста снаружи, – не ходите дале: пол может провалиться!..
– Убирайся прочь, – ответил Мышецкий. – Подо мною он не провалится…
Сергей Яковлевич вошел в высокое зало, хлопнул в ладоши, и ему вдруг послышался аромат бабушкиных духов, почудились шелесты платья Лизы Бакуниной, слабые перестуки ее бальных башмачков. Здесь, в этом доме, рождались и умирали его прадеды и деды, здесь же родился он сам, здесь он встретил свою первую любовь.
Он глотнул в себя затхлую сырость и спросил со слезами:
– Лиза, Лизанька! Почему вы меня разлюбили?
Из мрачной пустоты глядели на него с потолка облупленные пухлозадые купидончики, тускло отсвечивала позолота плафонов, расписанных неизвестным крепостным мастером. Мышецкий смахнул рукавом пыль с камина и посмотрел на себя в зеркальную поверхность каминного мрамора – заглянул глубоко-глубоко, как в другое столетие.
Это было не его лицо – лучше не смотреть: страшно…
– Заходи сюда! – крикнул он старосте. – Посветишь мне.
Староста чиркал спички, освещая стены. Пожухлые от времени, в черноте древних красок, в пыльной коросте и трещинах, ожили перед ним портреты сородичей: вот пиит Г. Р. Державин, вот композитор Львов, вот декабристы Муравьевы, книголюбы Полторацкие, инженеры Мордвиновы…
Все они прошли по земле, как тени, и совсем случайно волосатой зверюгой глянул из угла неистовый анархист Бакунин.
– И ты здесь? – подмигнул ему Сергей Яковлевич, и ему даже стало немножко весело…
Когда он выходил из дома, на крыльце уже собрались сбежавшиеся из деревни ребятишки. Князь заметил, что многие из детей были босы и зябко переступали пятками по талому снегу, и он спросил их:
– Почему вы не обуты? Где же валенцы?
– А мамка отняла…
– Так вам же холодно?
– Не, барин. Сейчас горазд теплее…
– Забивай снова! – велел Мышецкий старосте и, не оглядываясь, пошел прочь от этого места.
Шагал, прыгая через лужи, и думал о России: «Босая, нищая, наполненная преданиями, с могилами в березовых рощах, красуется она какой-то особой увядающей прелестью старины. Но что останется от нас… от меня? Неужели тоже лягу вот здесь на погосте и – всё?..»
Сергей Яковлевич неожиданно вспомнил слова сестры: «Все рушится, все трещит… Как спасать – не знаю!»
«Я тоже не знаю, – признался себе Мышецкий. – Да и что нам спасать с тобою, сестра?..»
Мужик-возница терпеливо поджидал его возле телеги. Сергей Яковлевич еще раз глянул в сторону кладбища. Над крестами древних могил уплывали куда-то белые облака.
И только теперь он истово начал креститься.
– Спите с миром, – сказал он. – Вы ни в чем не повинны, а я буду служить честно. Мне же за все и расплачиваться. За все, за все!..
Когда он вернулся, в вагоне еще спали. Мышецкий велел начальнику станции прицеплять вагон к первому же поезду.
«С глаз долой – из сердца прочь».
Но ему еще долго виделись печальные перелески, что разбегаются по увалам, пестро чернеющая зябь за рекою да плывущие в небо дымки далеких деревень.
2
За крикливой, машущей халатами Казанью понеслись под насыпью первые вешние воды. Черноземной сытью парило над подталыми пашнями. Мышецкий исподтишка наблюдал за все возрастающим удивлением Алисы: жена не привыкла к грандиозным просторам, ее глаза открывались все шире и шире.
– Боже мой, – твердила она, – когда же кончится Россия?
Впрочем, Сергей Яковлевич и сам не переставал удивляться: Россия представала в этом пути каким-то удивительно сложным, но плохо спаянным организмом, и мысли князя Мышецкого невольно возвращались назад – в тесную комнатку «Монплезира», где неумный полковник в красной рубашке, лениво почесываясь, скучно толковал ему об икре и дворниках.
«Конечно же, – раздумывал Мышецкий в одиночестве, – где ему справиться одному? Тут нужна армия образованных, смелых и честных людей, свято верующих в величие своего государства!..»
Дыхание войны ощущалось в провинции сильнее, нежели в Петербурге. Пути были забиты эшелонами. Россия рыдала на вокзалах, плясала и буйствовала. В гармошечных визгах тонули причитания осиротевших баб.
В одном уездном городишке вагон министерства внутренних дел был задержан из-за волнений запасных, не желавших ехать далее – умирать на маньчжурских равнинах. Впервые в жизни Сергей Яковлевич увидел открыто выброшенный лозунг: «Долой самодержавие!».