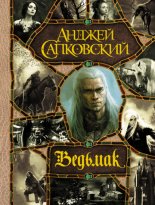Незримая жизнь Адди Ларю Шваб Виктория
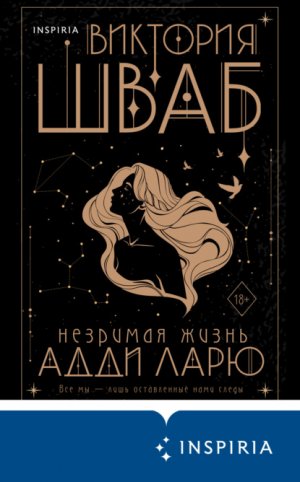
– Анри! – кричит мать малыша, выходя на берег с корзиной грязного белья.
Заметив сидящую в траве Аделин, Изабель протягивает руку – не подруге, а сыну.
– Иди сюда, – велит она, голубыми глазами пристально рассматривая незнакомку и обращаясь к ней: – Кто ты?
Аделин кажется, что она стоит на краю крутого склона и земля уходит у нее из-под ног. Теряет равновесие и снова падает в жуткую пропасть.
– Ты заблудилась?
Dj vu. Dj su. Dj vcu.
Она это уже видела. Уже знала. Уже прожила.
Они это уже проходили, поэтому теперь Аделин знает, куда ступать и что сказать. Знает, какие слова отзовутся добром. Если спросить правильно – Изабель отведет ее к себе в дом, набросит на плечи одеяло, предложит чашку бульона. Какое-то время это будет действовать, пока не закончится.
– Нет, – качает головой Аделин, – просто иду мимо.
А вот этого говорить нельзя, и лицо Изабель мрачнеет.
– Женщине не следует путешествовать в одиночку. Особенно в таком виде.
– Знаю, – кивает Аделин. – Меня ограбили.
– Кто? – бледнеет Изабель.
– Незнакомец в лесу, – отвечает Аделин. В сущности, она не врет.
– Тебе больно?
«Да, – думает Аделин. – Ужасно больно». Но заставляет себя сказать:
– Переживу.
Выбора-то все равно нет.
Подруга опускает таз со стиркой на траву.
– Подожди здесь, – просит она, снова становясь доброй и щедрой Изабель. – Я скоро вернусь.
Она берет кроху-сына на руки и поворачивает к дому. Стоит ей скрыться из вида, Аделин хватает платье, у которого все еще не просох подол, и натягивает его.
Разумеется, Изабель опять все забудет. На полпути к дому она опомнится, замедлит шаг и станет гадать, почему пошла обратно без стирки. Решит, что на нее нашло помрачение – где же набраться сил с тремя детьми, один из которых к тому же все время орущий младенец, и вернется к реке. На сей раз на берегу не будет незнакомки, платья, сохнущего под солнцем, только палка, брошенная в траве, да гладь ила.
* * *
Аделин сотни раз рисовала дом, где живет ее семья. Изображала угол наклона крыши, рельеф поверхности двери, тень, которую роняет мастерская отца, и ветви старого тиса, что застыл, словно часовой, на краю двора. За ним она сейчас и прячется, глядя, как у сарая щиплет траву Максим, развешивает на просушку белье мать, обстругивает деревяшку отец.
Оставаться нельзя. Вероятно, можно было бы… попробовать отыскать способ перескакивать из дома в дом, как камушек, запущенный по воде. Но Аделин не хочет. Ведь, думая об этом, она чувствует себя не рекой или камнем, а рукой, что устала метать.
Она вспоминает Эстель, закрывающую дверь… Изабель – добрую, а через мгновенье до смерти напуганную…
Позже, много позже Аделин научится играть в эту игру и поймет, сколько раз можно переступать с ветки на ветку, прежде чем упадешь. Но пока боль слишком свежа, слишком остра, происходящее сложно осознать, как и невыносимо видеть усталый взгляд отца и упрек в глазах Эстель.
Аделин Ларю не в силах оставаться чужой для тех, кого знала всю жизнь. Слишком больно смотреть, как они ее забывают.
Мать торопливо уходит в дом, и Аделин покидает свое убежище за деревом и направляется во двор. Не ко входу в дом, а к мастерской отца.
В единственном окне со ставнями не горит лампа, весь свет – лишь тонкая полоска солнца, что пробивается через открытую дверь, но и этого достаточно.
Аделин наизусть знает, как здесь все устроено. Сладковатый воздух пахнет землей и смолой. Пол покрыт стружками и пылью, все поверхности уставлены статуэтками отца.
Деревянная лошадка, вырезанная с натуры – с Максим, конечно, только не больше кошки. Набор мисок – их украшением служат лишь кольца дерева, из которого они сделаны. Стайка птичек, каждая размером с ладонь. Одни только взмахнули крыльями, другие их сложили, третьи расправили в полете.
Аделин умеет рисовать мир углем и карандашом, а вот отец всегда творил с помощью ножа. Вырезал из ничего фигурки, придавая им форму, вдыхая жизнь.
Зачем она пришла сюда? Аделин не знает. Возможно, попрощаться с отцом, самым любимым человеком на всем свете. Она хочет его запомнить. Помнить не грусть забвения в глазах, не хмурое лицо, с каким он вел ее в церковь, а вещи, которые отец любил.
Как учил ее держать угольный стержень, с помощью нажима руки менять форму и придавать рисунку глубину и объем. Его песни и сказки. Те пять летних дней путешествия на рынок, когда Аделин стала достаточно взрослой для поездок, но еще маленькой, чтобы не вызвать скандал. Его заботливый дар – деревянное кольцо, которое отец сделал для единственной дочери в день ее рождения. То самое, что она подарила мраку.
Даже сейчас рука Аделин тянется к шее – коснуться кожаного шнура, и что-то внутри сжимается, когда она понимает: кольцо исчезло навсегда.
По столу разбросаны обрывки пергамента, испещренные рисунками и чертежами, отметками готовых и будущих изделий. У края притулился карандаш. Аделин тянется к нему, хоть где-то в глубине души и раздается боязливое эхо.
Она подносит стержень к бумаге и начинает:
«Дорогой папа…»
Но карандашные линии быстро тускнеют. Стоило Аделин дописать эти два слова, как те исчезают. Она в сердцах бьет рукой по столу, опрокидывает небольшой горшочек с олифой, и драгоценное масло проливается на записи отца и деревянную столешницу. Аделин в ужасе пытается собрать бумаги, пачкает руки и задевает одну из крошечных птичек.
Только паниковать ни к чему.
Масло уже просачивается внутрь бумаги и тонет, словно камень, брошенный в реку, пока не растворяется окончательно. Так странно пытаться это осознать, понять, что исчезло, а что нет…
Олифа растаяла, но и обратно в горшке не появилась, тот все еще пустой лежит на боку, содержимое пропало. Пятен на пергаменте тоже нет, он нетронут, как и стол под ним. Лишь руки Аделин испачканы, масло покрывает завитки на подушечках пальцев, линии ладоней.
Все еще недоуменно таращась на свои руки, она шагает назад, и раздается ужасающий треск дерева, раздавленного каблуком.
Это маленькая деревянная птичка, чье крылышко сломалось об земляной пол.
Аделин расстроенно кривится – из всей стайки эта была ее любимицей. Она застыла с расправленными крыльями в момент первого взмаха. Аделин приседает подобрать птичку с пола, но когда выпрямляется, осколки уже исчезают, а игрушка на ее ладони снова цела. От удивления Аделин едва не отшвыривает ее, не понимая, почему это кажется таким невозможным. Ее превратили в незнакомку. Она сама видела, как исчезла из памяти всех, кого знала и любила, скрылась, точно солнце за облаком, как растворялась каждая отметка, которую Аделин пыталась оставить.
Но с птицей все иначе.
Наверное, потому, что ее можно держать в руках. Или потому, что на какой-то миг это кажется благословением – исправлять повреждения, устранять ошибки, – а не просто еще одним свидетельством стирания ее личности. Неспособность оставить след.
Но пока Аделин не думает об этом. Позже она месяцами будет разгадывать тайну проклятия, запоминая его грани, изучая неприступную форму в поисках трещин.
А сейчас просто сжимает в ладонях целую птичку и радуется, что та невредима. Аделин хочет вернуть фигурку в стаю, но что-то ее останавливает. Возможно, нелепость момента. Наверное, она уже скучает по этой жизни, хоть и не собиралась по ней скучать, но все же прячет фигурку в карман, потом заставляет себя выйти за порог и спешит прочь от отчего дома. Шагает вдоль дороги мимо кривого тиса, за поворот и дальше, к окраине деревушки. И лишь оказавшись там, бросает взгляд назад. Позволяет себе поседний раз посмотреть на озаренные солнцем деревья у опушки, их густую тень, что простирается вперед, а потом поворачивается спиной к лесу, к деревушке под названием Вийон и к жизни, которая больше ей не принадлежит, и пускается в путь.
XIV
30 июля 1714
Вийон-сюр-Сарт, Франция
Вийон исчезает, словно телега за поворотом. Деревья и холмы поглощают его крыши. Когда Аделин набирается смелости еще раз оглянуться, деревеньки уже нет.
Со вздохом она продолжает путь. Аделин морщится – ботинки Жоржа ей не подходят. Они велики чуть ли не вдвое. На бельевой веревке Аделин нашла чулки и запихала в носки ботинок, чтобы подогнать размер. Однако через четыре часа ходьбы она уже чувствует, что ноги стерты и кожаные стельки стали липкими от крови. Проверять страшно, поэтому она просто продолжает путь.
Аделин решила отправиться в обнесенный стеной Ле Ман. Это самое дальнее расстояние, на которое ей доводилось путешествовать, однако никогда прежде она не совершала такой путь в одиночку.
Аделин знает, что мир куда больше, чем города, раскинувшиеся вдоль Сарта, но сейчас неспособна думать ни о чем, кроме дороги, убегающей вдаль. Каждый сделанный ею шаг – шаг от Вийона, от жизни, которая ей уже не принадлежит.
«Ты хотела свободы», – шепчет голос у Аделин в голове.
Однако то не ее голос. Этот более глубокий и плавный, подбитый с изнанки атласом и древесным дымом.
Она обходит стороной деревни, фермы по краю полей. Иногда Аделин кажется, что она осталась одна в целом мире. Словно художник набросал пейзаж, а затем на что-то отвлекся.
Заслышав шум телеги, Аделин прячется в тени ближайшей рощи, пока опасность не минует. Далеко от дороги или реки она уходить боится, но однажды сквозь ветки деревьев замечает румяные плоды, и живот у нее начинает ныть от голода.
Фруктовый сад.
Благословенная тень и прохлада… Сорвав с низкой ветки персик, Аделин жадно впивается зубами в сладкий фрукт. Нутро сводит судорогой. Превозмогая боль, Аделин съедает в придачу грушу и пригоршню слив, черпает ладонью воду из колодца на краю сада и лишь потом с неохотой покидает временное убежище и возвращается в летнюю жару.
Подступают сумерки, удлиняются тени. Аделин наконец опускается на берег реки и снимает ботинки, желая осмотреть раны на ногах.
Однако их нет.
На чулках не видно крови. Пятки не стерты. Пройденные мили, усталость от долгой ходьбы по грунтовой дороге не оставили следов, хотя каждый шаг отзывался болью. Плечи не обгорели на солнце, несмотря на то, что Аделин чувствовала его жар. Живот просит чего-то более сытного, чем ворованные фрукты, но свет уже идет на убыль, на холмы ложится тьма, фонари не горят, и домов не видно.
Аделин настолько устала, что ей хочется свернуться клубочком прямо здесь, на берегу реки, и уснуть, но мошки, которые кружат над водой, так и впиваются ей в кожу. Поэтому она уходит в поле и ныряет в высокую траву, как поступала множество раз в детстве, когда хотела оказаться подальше от дома. Трава скрывала дом, мастерскую, крыши Вийона, и оставалось лишь чистое небо над головой, а уж оно-то могло быть где угодно.
Глядя в мраморные сумерки, Аделин тоскует по дому. Не по Роже или будущему, которого для себя не желала, а по твердой хватке Эстель на своей руке, когда старуха учила ее подвязывать малину, по спокойному рокоту отцовского голоса, пока тот работал в мастерской, по запаху смолы и древесной пыли. Кусочки жизни, с которыми Аделин не хотела расставаться. Она запускает руку в карман, ища деревянную птичку. Раньше Аделин запрещала себе трогать игрушку, почти уверившись, что ее там больше нет. Что кража, как и все поступки Аделин, была отменена. Но деревянная фигурка, гладкая и теплая, все еще на месте. Аделин достает ее из кармана, поднимает к небу и удивленно рассматривает.
Сломать статуэтку у нее не вышло. Зато вышло украсть.
Среди огромного списка запретов – невозможность написать или произнести собственное имя, оставить след, – это первое, что у нее получилось. Воровство. Пройдет много времени, и Аделин выяснит, как далеко простираются пределы ее проклятия, а еще позже научится понимать чувство юмора мрака. За бокалом вина он посмотрит на нее и заметит между делом, что успешная кража – безликий акт. Не оставляющий следов.
Но пока она просто радуется, что обзавелась талисманом.
«Меня зовут Аделин Ларю, – твердит она себе, сжимая деревянную птичку. – Я родилась в Вийоне, в тысяча шестьсот девяносто первом году, в семье Жана и Марты, в каменном доме позади старого тиса».
Аделин рассказывает историю своей жизни маленькой статуэтке, словно боится забыть себя так же легко, как другие. Она пока не подозревает, что отныне ее разум – безупречная клетка, а память – идеальная ловушка. Аделин никогда ничего не забудет, как бы ни хотела.
Ночь приближается, и пурпур заката сменяется чернотой. Аделин смотрит во тьму, и ей кажется, тьма смотрит на нее в ответ – тот бог или демон с безжалостным взглядом и насмешливой улыбкой. Черты исказились – таким она его никогда не рисовала.
Аделин вытягивает шею рассмотреть получше, и ей грезится, что звезды складываются в линии лица, скулы и лоб. Иллюзия очень четкая; Аделин чудится, что ночное покрывало вот-вот пойдет рябью, словно тени в лесу Вийона, и пространство между звездами треснет, явив изумрудные глаза.
Аделин прикусывает язык, чтобы не позвать его, вдруг отзовется кто-то другой. В конце концов, она уже не в Вийоне. Неизвестно, какие боги околачиваются здесь.
Позже она утратит силу воли. Впереди много ночей, когда отчаяние лишит ее страха, и Аделин будет кричать, ругаться, пытаясь заставить его встретиться с ней лицом к лицу. Все это произойдет позже.
Сейчас она слишком устала, проголодалась и не желает тратить остатки сил на богов, которые не удосужатся ответить. Аделин сворачивается клубочком, зажмуривает глаза и ждет, когда придет сон. И вспоминает факелы в поле за лесом и голоса, что выкрикивали ее имя.
Аделин, Аделин, Аделин…
Слова ударяются о ее тело, барабанят по коже дождем.
Чуть позже Аделин, вздрогнув, просыпается. Весь мир точно залит черными чернилами, ливень – внезапный и очень сильный – насквозь промочил ей платье.
Аделин вскакивает и, подобрав юбки, мчится через поле к ближайшей роще. Дома она любила слушать, как дождь стучит по окнам. Лежала без сна и представляла, как умывается мир. Но здесь нет ни кровати, ни крыши над головой. От ливня Аделин замерзла. Она изо всех сил отжимает подол и забивается в корни дерева, дрожа под пологом листвы.
«Я – Аделин Ларю, – твердит она себе. – Отец научил меня мечтать, мать – быть хорошей женой, а Эстель – разговаривать с богами».
Аделин вспоминает, как старуха стояла под дождем, раскинув руки, словно пыталась поймать бурю. Эстель, которая любой компании предпочитала одиночество. Скорее всего, оставшись одна во всем мире, она бы только обрадовалась.
Аделин силится представить, что сказала бы старуха, увидь она ее сейчас. Однако каждый раз, пытаясь вызывать в памяти колючий взгляд и хранящий тайны рот, видит лишь то, как Эстель смотрела на нее в последнюю встречу. Как нахмурилось ее лицо, а потом прояснилось, и целая жизнь была стерта, точно слеза.
Нет уж, лучше об Эстель не думать.
Аделин обнимает колени и старается заснуть еще раз, а когда снова пробуждается, сквозь ветки дерева льется солнечный свет. Неподалеку на поросшей мхом земле сидит зяблик и клюет подол ее платья.
Спугнув птицу, Аделин сует руку в карман, проверяя, на месте ли статуэтка, а потом поднимается на ноги, покачиваясь от голода – за полтора дня она съела лишь пригоршню фруктов.
«Меня зовут Аделин Ларю», – повторяет она, возвращаясь к дороге. Слова стали для нее своего рода заклинанием, они помогают скоротать время, и Аделин твердит их вновь и вновь.
Дорога поворачивает, и Аделин застывает как вкопанная, быстро-быстро моргая, словно солнце светит ей в глаза. Весь мир залит ярко-желтым, на зелень полей точно набросили покрывало цвета яичного желтка. Аделин оборачивается, но позади царствуют такие же зеленые и коричневые краски, как прежде, – обычные оттенки лета. Поле, что раскинулось перед ней, засажено горчичным зерном, хотя пока она этого еще не знает. Для Аделин вид просто неотразим. Она любуется на него и на миг забывает о голоде, ноющих ногах, внезапной потере, дивясь ошеломляющей яркости и всепоглощающему цвету.
Аделин пробирается полем, и бутоны гладят ее по рукам. Она не боится растоптать посадки – за ее спиной те сразу же выпрямляются, скрывая следы. Доходит до края поля и тропинки, которая ныряет в спокойную зелень, что кажется Аделин тусклой, и ищет взглядом новый источник чудес.
Вскоре после этого она подходит к деревне покрупнее и уже хочет обойти ее стороной, но тут в воздухе разливается запах, от которого у Аделин начинает болеть живот. Масло и дрожжи, сладкий и душистый аромат хлеба.
Платье Аделин словно свалилось с веревки – все мятое и грязное, волосы всклокочены, но она слишком голодна, ей плевать. Влекомая запахом, Аделин устремляется между домами вверх по узкой улочке к деревенской площади.
Аромат выпечки густеет, а вместе с ним становятся слышны голоса. Аделин заворачивает за угол. Вокруг господской печи[6] на каменных скамейках сидят несколько женщин. Они смеются и болтают, словно птицы на веточке, пока в зеве печки поднимаются буханки. Вид крестьянок – до боли обыденный – раздражает. Аделин на миг медлит в тени переулка, прислушиваясь к щебету, но потом голод толкает ее вперед.
Ей нет нужды рыться в карманах – она и без того знает, что монет не найдет. Хлеб можно на что-нибудь выменять, но, увы, все имущество Аделин составляет деревянная птица. Она нащупывает в складках юбки гладкое дерево и понимает, что не в силах разжать пальцы. Выпросить бы… Перед глазами Аделин встает презрительно скривившееся лицо матери.
Остается лишь украсть. Разумеется, так нельзя, однако Аделин слишком голодна, чтобы раздумывать, насколько велик сей грех. Ничего не важно, кроме голода.
Вряд ли печь кто-то охраняет, однако Аделин – как бы быстро она ни стиралась из памяти людей – все еще существо из плоти и крови, а не привидение. Нельзя просто подойти и взять хлеб, тут же поднимется шум. Разумеется, очень быстро о ней забудут, но до тех пор ей угрожает опасность. Может, схватить хлеб и умчаться прочь… Но сколько придется бежать и как быстро?
И вдруг раздается мягкий всхрап, едва различимый среди болтовни женщин. Обойдя каменную хижину, за углом, на той стороне переулка, Аделин замечает свой шанс на спасение. В тени у забора рядом с мешком яблок и грудой щепок на растопку лениво пережевывает жвачку мул. Всего один резкий шлепок, и мул вздрагивает – больше от неожиданности, чем от боли, – а потом рвется вперед, разбрасывая яблоки и щепки. Воцаряется небольшой, но шумный переполох, мул с мешком зерна, притороченным к седлу, бросается прочь. Крестьянкам уже не до смеха, они вскакивают с тревожными криками.
Аделин тенью скользит к печке, выхватывая из открытого зева ближайшую буханку. Обжигает пальцы, чуть не уронив хлеб, но голод сильнее боли, а та, как уже известно Аделин, недолговечна.
К тому времени, как мул водворен на место, яблоки и щепки собраны, а женщины вернулись к печи, Аделин с буханкой уже далеко.
На окраине деревни, в тени конюшни, Аделин впивается зубами в непропеченный хлеб. Тесто липкое и сладкое, глотается с трудом, но ей все равно. Зато это сытно и заглушает голод. Разум понемногу проясняется. Напряженные плечи расслабляются, и впервые с тех пор, как Аделин покинула Вийон, она чувствует себя почти человеком. Оттолкнувшись от стены конюшни, она снова пускается в путь, следуя за солнцем и рекой к Ле Ману.
«Меня зовут Аделин», – снова начинает она, но вдруг осекается. Аделин никогда не любила свое имя, а теперь и вовсе лишилась способности его произносить. Как ни назови себя – это останется только у нее в голове. Аделин – та женщина, которая осталась в Вийоне накануне нежеланной свадьбы. А вот Адди – подарок Эстель. Короткое, яркое! Подходящее имя для девушки, которая ездила на рынок и старалась заглянуть за горизонт, рисовала и мечтала о больших свершениях, грандиозных мирах, жизни, полной приключений.
Итак, она начинает заново:
Меня зовут Адди Ларю…
XV
11 марта 2014
Нью-Йорк
Без Джеймса здесь слишком тихо. Адди он никогда не казался шумным – очаровательным, да, веселым, но не шумным. Теперь-то ясно, насколько Джеймс заполнял собой пространство.
В ту ночь он поставил пластинку и подпевал, поджаривая на большой печи с шестью конфорками сыр, которые они позже ели стоя, потому что квартира была новой и стульев Джеймс еще не купил. Кухонных стульев по-прежнему нет, как и владельца квартиры – он пропадает где-то на съемочной площадке.
Для одного человека дом слишком большой и тихий. Высота и двойное остекление блокируют звуки города, и Манхэттен за окном кажется серой неподвижной картиной.
Адди включает пластинку за пластинкой, но музыка лишь эхом разносится по дому. Пытается посмотреть телевизор, но заунывное бормотание новостей звучит словно помехи, как и металлический хор голосов на радио. Всего этого недостаточно, чтобы ощутить себя настоящей.
Снаружи – застывшее серое небо, здания скрыты пеленой дождя. В такие дни хорошо посидеть у камина с чашкой чая и увлекательной книгой, но в квартире Джеймса кроме газовой плиты разжечь нечего. Адди ищет в кухонном шкафу любимый сорт чая, но находит лишь пустую коробку у задней стенки; все книги в этом доме – исторические монографии, а не художественное чтиво. И Адди не хочется торчать здесь весь день наедине с собой.
Она опять натягивает собственную одежду, расправляет одеяло на кровати, хоть знает наверняка, что уборщицы придут раньше хозяина. Бросив последний взгляд в окно на безотрадную картину, крадет с полки шкафа шарф – мягкий кашемир в клетку, у которого еще даже не оборваны бирки, – а потом со звонким щелчком захлопывает за собой дверь.
Адди бредет по улице, поначалу не зная, куда. Порой она чувствует себя львом, который мерит шагами клетку. Но ее ноги живут своей жизнью, и вскоре они несут Адди дальше в центр.
«Меня зовут Адди Ларю», – думает она на ходу.
Триста лет прошло, а Адди все еще в глубине души боится забыть. Бывали и такие времена, когда ей хотелось, чтобы память ее подвела. В ту пору Адди отдала бы все, лишь бы поддаться безумию и раствориться в нем. Забыться – более милосердный путь.
Как Питер Пэн в книге Джеймса Барри. В самом конце он сидит на камне, и воспоминания о Венди Дарлинг стираются из его памяти. Забывать – грустно. Но тому, кого забыли, очень одиноко. Он помнит то, что забыли остальные.
«Я помню», – шепчет мрак.
Почти ласково – словно никакого проклятия на нее не насылал.
Плохая погода, а может, сентиментальное настроение, ведет Адди вверх по восточной окраине Центрального парка, к Восемьдесят второй, в гранитные залы музея Метрополитен.
Музеи Адди всегда любила. Пространства, где история перемешана, искусство выстроено по ранжиру, а экспонаты покоятся на пьедесталах или висят на стенах над маленькими белыми пояснительными табличками. Адди иногда чувствует себя музеем, у которого лишь один посетитель – она сама.
Адди пересекает большой зал, минует каменные арки и колоннаду, путь ее лежит через сотни раз виденные экспонаты греко-римской эпохи и Океании, через зал европейской скульптуры и искусства с его величественными мраморными статуями.
Еще одна галерея, и Адди находит то, что искала. На прежнем месте, где и всегда, – в стеклянной витрине, растянувшейся вдоль стены. По обеим сторонам от нужного экспоната – фигуры из железа или серебра. Сама композиция невелика, длиной всего с руку от локтя до кончиков пальцев. На деревянном постаменте примостились пять мраморных птичек. Все они готовятся взлететь. Взгляд Адди притягивает последняя: изгиб ее клюва, угол наклона крыльев, пушистые перышки когда-то были запечатлены в дереве, а теперь живут в камне.
Скульптура называется «Revenir». Вернуться.
Впервые обнаружив эту работу, Адди дивилась на нее, как на маленькое чудо, установленное на белом оструганном блоке. Она никогда не встречала Арло Мире, автора, и все же он каким-то образом воплотил частичку ее истории, ее прошлое. Нашел и превратил в нечто запоминающееся, прекрасное произведение искусства.
Адди хочется коснуться маленькой фигурки, погладить, как прежде, крылышки… Пусть это не та, что потерялась, ее вырезали не сильные руки отца, а незнакомец, однако птичка существует, она настоящая и в каком-то смысле принадлежит Адди.
Секрет сохранен. Свидетельство сделано. Первый след, что она оставила в мире задолго до того, как узнала правду: идеи куда сильнее воспоминаний, они всегда стремятся прорасти и ищут способ пустить корни.
XVI
31 июля 1714
Ле Ман, Франция
В полях дремлющим исполином раскинулся вдоль Сарта город Ле Ман. Минуло больше десяти лет с тех пор, как Адди позволили отправиться с отцом на ярмарку.
Она проходит в городские ворота, и сердце пускается вскачь. На сей раз Адди без отца, лошади и повозки, но в сумерках город кажется таким же шумным и оживленным, как ей и запомнилось.
Она не пытается смешаться с народом. Если время от времени кто и бросает взгляд в сторону молодой женщины в перепачканном белом платье, то помалкивает. Одиночке легче в толпе.
Вот только куда ей податься? На мгновение Адди замедляет шаг, чтобы поразмыслить, но вдруг совсем рядом раздается грохот копыт, и ее едва не сбивает телега.
– Прочь с дороги! – кричит возница.
Адди бросается назад, толкнув женщину, которая несет корзину с грушами. Несколько плодов падают на мостовую.
– Смотри, куда прешь, – сердито брюзжит торговка.
Адди хочет помочь ей поднять упавшие груши, но та хрипло вскрикивает и топает ногами, стараясь отдавить девушке пальцы. Отшатнувшись, Адди прячет руки в карманы, сжимает в кулаке деревянную птичку, продолжая путь по извилистым улочкам к центру Ле Мана. Улиц много, но все похожи одна на другую.
Адди думала, в городе будет лучше, но, очутившись здесь, лишь еще больше растерялась. Слишком много она о нем нафантазировала. В прошлый раз Ле Ман показался ей чудом, грандиозным и живым. Ей помнился залитый солнцем шумный рынок, громкие голоса, эхом отражающиеся от каменных стен… Неприглядную сторону города заслоняли широкие плечи отца.
Теперь ей повсюду чудится опасность: словно туман, она стерла жизнерадостное очарование, оставив лишь острые грани, что выступают сквозь дымку. Один город сменился другим.
Как палимпсест[7].
Пока это слово ей незнакомо, но пятьдесят лет спустя Адди услышит его в парижском салоне. Мысль о том, что прошлое вымарано, переписано настоящим, напомнит ей об этом дне в Ле Мане.
Город одновременно знаком ей и незнаком. Глупо было рассчитывать, что он останется прежним, когда изменилось все остальное. Когда изменилась сама Адди, превратилась из девушки в женщину, а затем в призрак, в тень.
Адди тяжело сглатывает и выпрямляется, твердо решив держать себя в руках.
Но где же гостиница, в которой они с отцом останавливались на ночь? Впрочем, если и удастся ее отыскать, делать Адди там нечего. Заплатить за ночлег нечем, и даже будь у нее деньги, никто не сдал бы комнату женщине, которая путешествует в одиночку. Ле Ман не настолько большой город, чтобы подобное происшествие ускользнуло от внимания лендлорда.
Адди крепче сжимает деревянную фигурку в кармане юбки и шагает дальше. Прямо за ратушей раскинулся рынок, но он уже закрывается – опустели прилавки, разъезжаются повозки. Лишь обрывки салата да заплесневелый картофель валяются под ногами. Только Адди задумалась, не подобрать ли отбросы, как их расхватывают другие руки – поменьше и пошустрее.
На краю площади примостился трактир. С лошади, серой в яблоках кобылы, спешивается заезжий гость. Поводья он бросает конюху, а сам устремляется на шум и гам, что доносится из открытых дверей. Конюх же ведет кобылу через дорогу, к приземистому сараю и скрывается в его нутре. Но внимание Адди приковывают не сарай и лошадь, а вьюки, перекинутые через ее спину. Пара туго набитых тяжелых мешков.
Перебежав через площадь, Адди ныряет в конюшню вслед за кобылой и парнем, стараясь ступать как можно тише. Сквозь балки крепкой крыши слабо струятся солнечные лучи, создавая мягкий контраст – несколько бликов в многослойных тенях. Адди была бы не прочь запечатлеть на бумаге эту картину.
В денниках топчутся с десяток лошадей. Мурлыча под нос какой-то мотив, всклокоченный конюх снимает с кобылы сбрую, водружает седло на деревянную перегородку, а затем начинает чистить шерсть лошади.
Пригнувшись пониже, Адди крадется к задним стойлам, где на перегородках висят мешки, седельные сумки и попоны. Она жадно обшаривает карманы под клапанами и пряжками. Кошельков нет, однако Адди натыкается на тяжелое пальто для верховой езды, бурдюк с вином и костяной нож длиной с ее ладонь. Пальто она набрасывает на плечи, нож сует в один глубокий карман, вино – в другой и тихо, как мышка, ползет к выходу.
Пустого ведра Адди не замечает, пока не натыкается на него. Раздается звон, и ведро с глухим стуком падает на сено. Адди замирает, надеясь, что за перестуком копыт конюх ничего не расслышит, но тот перестает напевать. Она скрючивается, прячась в тени перегородки. Проходит пять секунд, десять, и наконец пение возобновляется.
Выпрямившись, Адди крадется к последнему стойлу, где жует зерно крупная упряжная лошадь. На перегородке висит седельная сумка, к которой и тянется Адди.
– Что это ты делаешь? – Голос раздается слишком близко, прямо позади нее.
Конюх больше не поет, не причесывает шерсть серой в яблоках кобылы, а стоит в проходе с хлыстом в руке.
– Простите, – едва дыша извиняется Адди, – я ищу отцовскую лошадь. Он просил принести кое-что из сумки.
Конюх, не моргая, разглядывает незваную гостью. Его лицо наполовину скрывают темные растрепанные волосы.
– Которая же ваша?
Нужно было внимательнее изучать не только поклажу, но и коней. Колебаться нельзя – обман выйдет наружу, поэтому Адди решительно поворачивается к рабочей кобыле.
– Вот эта!
Ложь могла бы легко сойти за правду, выбери Адди другую лошадь. Конюх мрачно улыбается в бороду.
– Неужели? – удивляется он, постукивая хлыстом по ладони. – Понимаешь, в чем дело, эта – моя.
Внезапно Адди до тошноты хочется рассмеяться.
– Позвольте выбрать еще раз? – просит она, медленно пятясь к выходу.
Где-то поблизости ржет конь, а другой бьет в пол копытом. Адди бросается в сторону. Конюх прекращает поигрывать хлыстом, разворачивается и кидается к ней. Двигается он ловко, по-видимому благодаря профессии, но Адди легче и ей есть что терять. Конюх лишь задевает воротник краденого пальто, но схватить не успевает. Он спотыкается, и Адди почти удается сбежать, но вдруг звонко брякает колокольчик, и раздается звук тяжелых шагов.
Адди уже почти у самого выхода, но улизнуть ей не дает второй мужчина, чья широкая тень заслоняет дверной проем.
– Никак кобыла вырвалась? – кричит он и наконец замечает девушку в ворованном пальто и в ботинках не по размеру с прилипшим к ним сеном.
Отшатнувшись от него, Адди попадает прямо в объятия конюха. Тяжелые словно кандалы руки ложатся ей плечи, она старается вывернуться, но он сжимает ее крепко, до синяков.
– Я тут воровку сцапал, – ухмыляется конюх, царапая ее щеку грубой щетиной.
– Отпустите меня, – умоляет Адди.
Но он только крепче прижимает ее к себе.
– Девчонка-то не с рынка, – усмехается второй, вытаскивая из-за пояса нож. – Знаешь, что делают с ворами?
– Я просто ошиблась! Пожалуйста, отпустите…
– Плати – отпущу! – Он грозит ей ножом.
– У меня нет денег.
– Не беда, – незнакомец придвигается ближе, – воровки платят телом.
Она пытается вырваться, но руки крепко сжаты чужими руками, лезвие пересчитывает шнуровку на платье, словно перебирает струны. Адди снова изворачивается, но не для того, чтобы освободиться, а чтобы дотянуться к карману ворованного пальто за ножом. Пальцы дважды мажут по костяной рукоятке, прежде чем удается за нее ухватиться.
Отведя клинок, Адди бьет им в ногу конюха, лезвие вонзается в плоть. Тот вопит и швыряет ее, словно ужалившую осу, прямо на нож второго мужчины.
Плечо пронзает боль. Клинок скользит по ключице, оставляя обжигающий след. Адди готова лишиться чувств, но ноги сами несут ее к выходу. Очутившись на площади, она бросается за бочку, прячась от преследователей. Спотыкаясь и проклиная ее, они выходят из сарая. Лица у них перекошены яростью и даже хуже того – каким-то первобытным голодом. Но буквально на ходу они замедляют шаг. Их решительность ослабевает, цель ускользает, и мысль, что нужно кого-то догнать, кажется странной. Мужчины озираются, а потом с недоумением смотрят друг на друга. Раненый выпрямился, на его брюках нет ни разрыва, ни крови. След, что Адди оставила на нем, исчез.
Они пихают друг друга, обмениваются шуточками, разворачиваются и уходят обратно в сарай. От облегчения Адди тяжело падает вперед, утыкаясь головой в бочку. Грудь ломит от боли, ключицу жжет – Адди прижимает ладонь к ране, и пальцы окрашиваются красным.
Дальше продолжать сидеть, скрючившись за бочкой, нельзя. Адди заставляет себя подняться. Она стоит, покачиваясь и борясь с дурнотой, но вскоре слабость проходит, а ноги все еще ее держат. Адди делает шаг, другой, прижав одну руку к плечу, второй крепко сжимая нож под полой краденого пальто.
Покинуть Ле Ман она решается не сразу. Адди пересекает двор, стараясь быстрее убраться прочь от конюшни, и вскоре уже спешит извилистыми улочками мимо грязных гостиниц и таверн, гула голосов и хриплого смеха, с каждым шагом оставляя город позади.
Боль в плече из жгучего жара превращается в тупую пульсацию, а затем и вовсе исчезает. Адди трогает рану, но той больше нет. Как и крови на платье, как и слов, что она пыталась нацарапать на прощание отцу, как линий, начертанных на илистом берегу Сарта.
Осталась лишь корка засохшей крови на ключице и красновато-бурое пятно на ладони. На мгновение Адди невольно удивляется этой странной магии. Свидетельству того, что в каком-то смысле мрак сдержал слово. Правда, извратил все, и ее желание стало неправильным, каким-то мерзким. Однако он даровал ей Жизнь.
Адди негромко стонет. В этом безумном звуке – облегчение и в каком-то смысле ужас. Она страшится голода, который недавно для себя открыла. Рези в ногах, хотя те не изранены и не покрыты синяками. Боли в плече, хотя царапина затянулась. Мрак, возможно, и освободил ее от смерти – но отнюдь не от страданий.
Пройдут годы, прежде чем она в полной мере познает значение этого слова, но пока Адди просто радуется, что жива.
В сгущающихся сумерках она подходит к окраине города, и облегчение тает. Так далеко Аделин ни разу не заходила.
Очертания Ле Мана остались позади, высокие каменные стены сменились деревушками, разбросанными вдоль дороги, как рощицы, за ними чистое поле, а что дальше – Адди не знает.
В детстве она часто карабкалась по холмам, что окружали Вийон, подбиралась к самому краю, где склон обрывался вниз, и замирала с колотящимся сердцем, подавшись вперед. Малейший толчок – и остальное твой вес сделает сам.
И хоть сейчас она не стоит над пропастью, все же чувствует, что теряет равновесие.
Но вдруг во тьме раздается голос Эстель.
«Как дойти до края света?» – спросила она однажды. Адди не ответила, и тогда старуха ухмыльнулась морщинистым ртом и сказала: – «По шажочку».
На край света Адди не собирается, но куда-то идти нужно. И в этот самый миг Адди понимает, куда пойдет.
Она отправится в Париж.
Адди и знает-то всего два города – Ле Ман и Париж. Это название множество раз произносили губы ее незнакомца, отец упоминал этот город в каждой сказке. Столица королей и богов, золота, величия и обещаний.
«Вот как начинается история», – сказал бы отец, увидь он ее сейчас.
Она делает первый шаг, и земля летит навстречу, но на сей раз Адди удается удержаться на ногах.
XVII
12 марта 2014
Нью-Йорк
День просто замечательный.
Солнце взошло, и воздух прогрелся. В таком большом городе, как Нью-Йорк, столько прекрасного – еда, искусство, множество культурных развлечений. Но больше всего Адди нравится его масштаб. Маленькие города и деревушки легко исходить вдоль и поперек. За неделю запросто обойдешь весь Вийон, изучишь каждую тропинку, запомнишь в лицо всех жителей. Но в Париже, Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке нет необходимости продвигаться маленькими шагами и откусывать по чуть-чуть, чтобы сохранить новизну. Их можно пожирать жадно, от души, глотать каждый день и ночь, и пища никогда не закончится. Броди здесь годами – всегда останется новый переулок, новая лесенка, новая дверь.