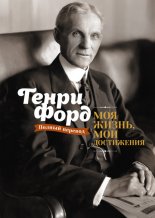Улица Яффо Шпек Даниэль
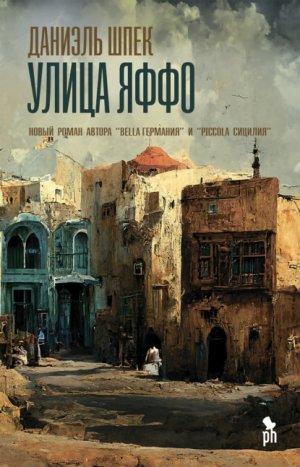
© 2021 Daniel Speck
© Анна Чередниченко, перевод, 2022
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2022
Мы редко знаем, что такое счастье, но обычно понимаем, что было счастьем, когда оно прошло.
Франсуаза Саган
Пролог
Позже, в моменты сомнений, в памяти Жоэль всегда будут возникать эти утренние часы. Бесконечное море вокруг и ощущение полной безопасности в его объятиях. Чистое, сияющее счастье. Когда она пытается вспомнить пап, то всегда видит его молодым человеком – стоит у релинга, в утреннем свете, с маленькой дочкой на руках. Поплотнее натягивает коричневую фетровую шляпу, чтоб ее не сдуло ветром, его шершавые небритые щеки прижимаются к ее лицу, он показывает на облако, похожее на скачущую лошадь. Или на кита. Или на дракона. Она любила его так, как любят только дети – безоговорочно. Между ними не было ни тени фальши, только любовь и доверие. Когда пап был рядом, она забывала про потные тела на нижней палубе, про вонь и жуткие звуки, что ночами преследовали ее весь путь по Средиземному морю, забывала свои беспокойные сны и тот ужас, который все старались забыть. Пап всегда пел одну песню, совсем тихо, чтобы никто не услышал, ведь пел он на немецком. Жоэль еще помнит припев: «Родина моя, твои звезды сверкают мне и на чужбине». Ей нравилось звучание слов, хотя она не понимала ничего. А покачивание в его руках было для нее неотделимо от дыхания моря. И она до сих пор помнит, как эта таинственность, вплетавшаяся в гигантские облачные башни над водой, одновременно и тревожила, и погружала в покой.
Если в те ранние годы пап и передал ей что-то в наследство, так это свою уверенность. Когда он был рядом, жизнь была легкой и надежной для Жоэль. Несмотря на окружающий хаос, мир казался таким удивительно упорядоченным. Сейчас, когда то чувство защищенности утрачено, Жоэль спрашивает себя, была ли у пап действительно эта внутренняя сила или же он старался быть сильным ради своего ребенка, хотя сам ощущал себя столь же потерянным, как и прочие бедняги на том корабле. Секрет счастья, сказал он однажды, в благодарности. Неважно, чем ты обладаешь, много у тебя имущества или мало. Главное – чувствуешь ли ты благодарность за это. Жизнь – это дар, Жоэль, это милость. Она висит на тоненькой ниточке. Даже не думай, будто ты имеешь на нее какое-то безусловное право.
И действительно, лишь благодарность превращала обветшалый пароход в дом, узкую койку сделала кроватью, а страну, куда они держали курс, – родиной. Никакая даль их не страшила, и надежда была их единственным достоянием. Каждый пел и мечтал на своем языке, а море несло их. Почему они верили в лучшее? Никто не знал. Ими владела беспричинная радость выживших. Никто из них никогда не видел ту страну, что была им обещана – в лагерях для перемещенных лиц в разрушенной Европе, в нелегальных конторах и темных переулках, где они обменивали банкноты на слухи. И все же она казалась им не чужбиной, а надежной пристанью, которая встретит их с распростертыми объятиями. Они обманывали себя, как любые беглецы, но то был сладкий обман.
– Куда мы плывем, пап?
– Всегда навстречу восходящему солнцу. Пока море не закончится.
Так просто. Если в этом мире и был человек, на которого она могла положиться, – это был пап. Он научил ее не только ходить и ездить на велосипеде, но и быть свободной в мыслях и иметь мужество для жизни, которую не определяет никто, кроме нее самой. Пап был немногословен, но знал, куда идет. У него было качество, которого многим сегодня не хватает, – совесть. Внутренний компас. Когда он называл что-то правильным, это было правильным, а если он считал что-то лживым, так то и было. Позже, когда Жоэль заблудилась в мире и не знала, как выбраться, ей так хотелось спросить его совета. Однако пап обманул ее в самом важном жизненном вопросе: кто я?
– Морис! – заорал сзади матрос. – Прочь от релинга! Всем пассажирам вниз!
В то же мгновение они заметили дым из трубы британского эсминца. Капитан, который не носил формы, вышвыривал с мостика за борт рыболовные карты, бортжурнал, рацию. У них не было оружия, но ненавистных британцев они встретят градом из консервных банок. Они не позволят отправить себя назад, все мосты позади сожжены. Уже совсем рядом, за горизонтом – их Земля Обетованная.
Глава
1
Средиземноморье говорит множеством голосов.
Фернан Бродель
Мориц накрыл стол на двоих. Между чистых тарелок стоит полупустая бутылка вина; кто-то пил из одного бокала, второй чист. Нетронутые мисочка с оливками и тарелка с засохшими ломтиками багета, по которым ползают муравьи. Выстрел раздался снаружи, из гаража. Но вначале он закрыл ставни. Словно застрелился из-за того, что так и не дождался гостя. Время в доме остановилось, кажется, лет тридцать тому назад: старый городской телефон, проигрыватель для пластинок, никакого компьютера. Его кошка беспокойно трется о мои ноги – о ней никто не позаботился. И первое, что я делаю, попав в дом деда, – ищу кошачий корм. Открываю окно, солнечный свет льется в полутьму, кричат дети, тарахтят мотороллеры, шелестят пальмы. В саду – терракотовые горшки, длинные качели с навесом, которые еще называют голливудскими, и цветущая живая изгородь, отделяющая участок от соседнего. Немного похоже на тайное убежище, но рядом море, а сверху раскинулось безоблачное небо. Все это он видел ежедневно. Я задаюсь вопросом, скучал ли он по родине. И чем занимался все эти годы в Палермо. И сколько людей можно любить в течение одной своей жизни.
Сзади поскрипывает старый паркет. Жоэль с потерянным видом идет по комнате, а когда она поворачивается, передо мной уже не та элегантная дама, какой она была при нашем знакомстве. Это беспомощная, дрожащая девочка.
В ее глазах – вопрос: почему?
Еще вчера утром мир был в порядке. Нет, конечно, он никогда не бывает в полном порядке, где-то что-то постоянно ломается, но кому это интересно. Я смогла подобрать черепки своего разбитого брака, рассортировала и подписала их. Пусть и не все пока совпадает, но я же умею довольствоваться фрагментами. Я обрела твердую почву под ногами и начала расправлять крылья, порой с удивлением замечая, что вот уже несколько дней не вспоминаю о разводе. Берлин наполнялся легкостью, освобождался от зимы.
Я точно помню, когда зазвонил мобильный, – в 9 часов 33 минуты, потому что в этот момент поезд метро остановился в туннеле, почти у самой Фридрихштрассе, и я посмотрела на экран. 0039 – код Италии. Звонивший представился адвокатом Каталано из Палермо. Нотариусом моего дедушки, Морица Райнке. Спросил, как меня зовут. Нина Циммерманн, да, все верно. Могу ли приехать завтра в Палермо. Нет, ответила я, это невозможно. Поезд, дернувшись, опять поехал, и я продвинулась к выходу. Уже хотела закончить разговор, как адвокат сказал, мол, ему крайне жаль, что приходится передавать мне столь печальную весть, но мой дедушка позавчера умер. Поток выходящих пассажиров выплюнул меня на перрон. Собеседник говорил совершенно спокойно – назвал мой адрес, дату и место моего рождения. Эти данные указаны в завещании, которое у него хранится. Согласно итальянскому законодательству я должна лично приехать в Палермо, чтобы вступить в права наследства. А быть может, я и на похороны… Люди протискивались мимо меня, толкали в спину, а я ничего не чувствовала. Как прощаться с человеком, которого никогда не видела?
На улице я судорожно глотнула свежего воздуха и набрала парижский номер тети Жоэль. По ее голосу я сразу поняла, что она уже все знает. Нотариус звонил и ей. А потом она произнесла фразу, которая выбила у меня почву из-под ног:
– Он сказал, что это самоубийство.
У нее был надломленный и безутешный голос. А я чувствовала себя оглушенной, смятенной, но глвное – обманутой. Человек, которого мы вместе искали, умер, прежде чем мы смогли найти его. Мой дед, ее отец, навечно исчезнувший.
– Нина, я не могу поверить. Я же его знаю. Он никогда бы этого не сделал.
Факты. В таких ситуациях надо держаться фактов.
– Где это случилось?
– В Палермо. У него там дом, по словам нотариуса.
– А как он тебя нашел, Жоэль?
– В завещании были мои адрес и телефон… Ты можешь себе представить, все эти годы он знал, где я живу, и никогда…
У меня закружилась голова.
– Ты приедешь, Нина? Пожалуйста. Я не выдержу одна.
Я позвонила своему начальнику в отделе древностей, собрала чемодан и вылетела на следующее утро первым же рейсом. Берлин – Рим – Палермо. Вступить в права наследства дедушки. Что это значит? До сих пор все наследство, что нам от него досталось, – это пустое место, порождавшее легенды. Он не вернулся с войны – одна из скупых фраз моей бабушки о нем. Или: Он пропал без вести в пустыне. У отсутствующих больше власти, чем у оставшихся, это я поняла еще в детстве, ведь наш беспокойный дух не выносит пустоты, ее нужно заполнить слухами, пусть и лживыми, – все лучше, чем ничего. Тень от его молчания ожесточила мою бабушку, а мать превратила в скиталицу. Для нас не осталось ничего, ни каких-то личных вещей, ни могилы, куда мы могли бы приходить. Обычно смерть ставит точку в конце жизни, иногда – восклицательный знак или запятую, если приходит слишком рано. Дед оставил знак вопроса. Человек с двумя именами. Мориц, Морис. Хамелеон с тремя жизнями. В одной была моя семья. В другой – семья Жоэль. А о третьей мы обе ничего не знали.
Я познакомилась с Жоэль прошлой осенью, хотя кажется, с тех пор прошла уже целая жизнь. Родиться можно дважды: первый раз без особого личного содействия, а второй раз – из себя самой, и Жоэль стала мне второй матерью, хотя я никогда ей об этом не говорила. Наши долгие прогулки по пляжу, наши ночные разговоры возродили меня из краха моего брака. С тех пор я перевернула жизнь с ног на голову, но теперь меня это нисколько не пугало, а радовало – и все благодаря Жоэль. Ее рассказы о дедушке помогли вырваться из плена жалости к самой себе. Сколько же самомнения было во мне, когда я считала, будто со мной случилось нечто из ряда вон выходящее, а на самом-то деле проще некуда: в Берлине появилась еще одна разведенная женщина, и все, а ведь где-то умирают люди. Бывают истории, которые меняют жизнь. Одни – потому что находишь в них себя, а другие – потому что позволяют увидеть мир чужими глазами. Для меня все переменилось, когда я узнала, что мой дедушка Мориц, без вести пропавший в Африке, вовсе не погиб, а создал вторую семью вдали от родины, но я не прокляла его за это, а постаралась понять причины. Он бросил мою бабушку на произвол судьбы в разбомбленном Берлине не потому, что не любил ее. А потому что жизнь подарила ему посреди войны новую любовь. И дочь по имени Жоэль. Он не знал, что в ночь перед отъездом на фронт он зачал ребенка, мою маму. Все оказалось так просто, и простой ответ порой может залечить рану. Бабушкина ожесточенность, которая довлела над нашей семьей, больше не имела власти надо мной. Как же мне хотелось, чтобы мама, никогда не видевшая своего отца, была сейчас жива и встретилась с Жоэль, своей незнакомой сводной сестрой, родившейся в том же 1943 году. Одна – в Берлине, другая – в Тунисе. Союзники разгромили немецкий Африканский корпус, сотни тысяч немцев и итальянцев попали в плен, но Мориц в последнюю минуту дезертировал. Его спрятала в своем доме семья Сарфати. Итальянские евреи приняли его в семью как сына, потому что под военной формой увидели человека. Через окно он слышал море, отделявшее его от Европы. А в соседней комнате спала девушка, которой суждено было стать любовью его жизни. Это была мать Жоэль. Мориц, ставший Морсом, подарил Жоэль счастливое детство, которого была лишена моя мама. А когда Жоэль подросла, Мориц пропал из ее семьи так же тихо и бесследно, как из моей. Она никогда не теряла надежды вновь увидеть его.
И вот я хожу по его дому как чужой человек, у ног мяукает кошка, для которой я никак не могу отыскать этот проклятый корм. Жоэль стоит перед закрытым пианино, читая ноты на пюпитре. Она кутается в шаль, потому что ее знобит, а потом обнимает меня, словно я могу ответить на ее «почему?», и плачет. Я тоже обнимаю ее, удивляясь, как легко мне ее утешать, хотя я сама совершенно потеряна. Человек в саду наблюдает за нами через окно.
– Я не доверяю ему, – шепчет Жоэль.
Каталано, нотариус, так и не появился в аэропорту Палермо, хотя обещал нас встретить. Я искала его глазами в зале прилета, вокруг толпились мужчины с табличками в руках, однако моего имени нигде не было написано. Что я вообще здесь делаю, думала я. И тут увидела Жоэль. Она ждала у бара. Рядом с ней уборщик включил поломоечную машину, но казалось, ей вовсе не мешал шум. Маленькая и энергичная, как всегда элегантная, она выглядела даже слишком молодо в своем летнем костюме и шляпке. Накрашенные губы, глубокие морщины у рта от частых улыбок, сияющие глаза. И конечно, с шалью, от которой Жоэль не отказалась даже в этот теплый апрельский день. Ей за семьдесят, но она такая живая, какой я никогда не осмеливалась быть. Она улыбнулась, заметив меня, и на первый взгляд казалась прежней Жоэль, но, подойдя ближе, я увидела, какая бездна в ней разверзлась. Она ласково обняла меня. Слова были не нужны. Есть люди, которых ты сам не способен найти, но они находят тебя. Жоэль именно такая. Когда она нашла меня, внутри меня словно воцарился целительный хаос.
А потом позвонил нотариус, объяснив, что произошла некоторая задержка из-за полиции и фиксации следов, мол, он очень извиняется и приедет позже к нам в отель.
– Продиктуйте адрес отца, – потребовала Жоэль.
Каталано попытался увильнуть от ответа, предлагая поехать туда завтра, но Жоэль непреклонно настаивала, пока он не назвал адрес. И пообещал дождаться нас.
В такси мы молчали, потом Жоэль взяла мою руку и сжала. Когда мы выехали на шоссе, идущее вдоль моря, она опустила окно и, не спрашивая водителя, закурила.
Вот и тот самый дом в Монделло. Предместье с богатыми виллами прильнуло к бывшей рыбацкой деревне, куда приезжают на автобусах отдыхающие из Палермо с их пляжными сумками. Вообще-то я уже была здесь однажды, во время свадебного путешествия. Мне неприятно представлять, что дедушка жил неподалеку от пляжа, на котором я лежала с бывшим мужем. Если бы Мориц прошел мимо, я не узнала бы его – один из тех вальяжных господ в шляпе, переехавших подальше от городской суеты. Тут тенистые аллеи, ухоженные сады, виллы в стиле модерн. Все это словно выпало из времени: белый песчаный пляж, купальня на пирсе с фасадом ар-деко, аристократическая летняя идиллия, ныне опошленная шумом баров и ресторанов на набережной, где развеселые палермцы смешиваются с местными старушками, выгуливающими собак.
Первое впечатление от дома было отталкивающим. Наверно, из-за тишины вокруг него. Ставни закрыты. На дорожке опавшие листья и цветы. В палисаднике перед домом – высокая одичавшая пальма. Дом стоял на боковой улочке недалеко от моря. Простой белый фасад безо всяких украшений, с уже облупившейся штукатуркой. Дом выглядел ухоженным, но постаревшим. Очевидно, Мориц был небеден или же купил дом десятилетия тому назад, за еще доступную цену. Всю свою жизнь я мечтала о доме у моря. И вот он ждет меня под сицилийским небом. Я сразу прогнала прочь такую мысль. Железные ворота были открыты. На гравийной дорожке перед гаражом стоял черный «мерседес», рядом двое мужчин. Один, постарше, разговаривал по телефону, и я узнала голос нотариуса. Полноватый, в костюме, явно сшитом на заказ, галстук, ухоженные редкие волосы – весь вид говорит о состоятельности. Другой, помоложе, курил рядом. На вид ему было лет тридцать пять – сорок, и я решила, что он сицилиец. Джинсы, пара верхних пуговиц рубашки расстегнуты, стройный, со стильной пятидневной небритостью, седые проблески в чрных волосах. Заметив нас у ворот, он какое-то время глядел в упор, не приглашая, однако, внутрь. Лишь когда я вошла в ворота, а Жоэль – за мной, он сделал пару шагов навстречу. На первый взгляд он излучал невозмутимость человека, который повидал в жизни немало. Сильный, но спокойный. Но, вглядевшись, я увидела в нем и ту же печать бессонной ночи, и такое же полнейшее смятение, как и у нас. Он просто лучше контролировал себя.
– Buongiorno.
Протянул руку, не представляясь. Похоже, он ждал нас, хотя во взгляде сквозило недоверие. Или это робость? Пожатие было крепким. Самым примечательным в нем были выразительные темно-зеленые глаза. Он смотрел мне прямо в лицо, пристально, словно хотел понять, что я за человек. Он смущал и притягивал меня: несмотря на приветливость, от него исходило нечто непостижимое, будто отделявшее его от остального мира, но я не могла определить, что это. Некоторые люди не скрывают свои травмы. Например, как я, как не умеющие притворяться. Которые вечно все обдумывают. Но есть и другие, чьи раны столь глубоки, что им нельзя размышлять о случившемся – ради собственного выживания. Он казался именно таким. Это был самый грустный и привлекательный мужчина, какого я встречала.
Нотариус закончил разговор и энергично пожал нам руки:
– Бруно Каталано. Benvenuti a Palermo! Добро пожаловать в Палермо! – Потом представил нас: – Синьора Сарфати из Парижа. Синьора Циммерманн из Берлина. А это доктор Бишар.
И бросил быстрый взгляд на другого, словно спрашивая его, нужны ли какие-то объяснения. Я заметила краткое замешательство, которое оба постарались скрыть. Я подумала, что дотторе мог быть врачом дедушки, но вслух не спросила. Может, дедушка болел?
– Мои искренние соболезнования, – сказал Каталано.
– Grazie, – ответила Жоэль. – Можно нам войти?
И, не дожидаясь ответа, направилась к дому. Она с самого начала держалась с Каталано отчужденно, хотя он не давал к этому повода. Он был вежлив и тактичен, но тем не менее именно нотариус стал вестником новости, которую она не хотела слышать. Ее отец принадлежал ей, и любой, кто разрушал ее воспоминания, ее надежду, что отец все еще жив, грубо вторгался в сокровищницу ее души. Второму мужчине она и вовсе не уделила внимания. Но я почувствовала, что о тайне дедушки мог знать именно он, а не нотариус. Каталано поспешил за Жоэль, нагнав ее у двери. Мы с Бишарой стояли на месте.
– Вы пойдете с нами? – спросила я.
Наши взгляды встретились, темно-зеленые глаза задержались на мне на мгновение дольше ожидаемого. Потом он покачал головой. Я ощутила инстинктивную неприязнь – точно у зверя, который избегает чужой территории. Каталано позвал меня, и я пошла к дому, оставив Бишару у ворот. Такой была наша первая встреча, три чужака у двери дома исчезнувшего человека, под пальмами, ветреным весенним днем.
Глава
2
Его тело уже увезли. Мы стоим в прохладной гостиной, как будто нас сюда пригласили, но не встретили, вдыхаем запах его кожаных кресел и ковров, разглядываем его фотографии на стенах и его книги на полках. Без сомнения, он здесь жил, вот фотографии, но я признаю его лишь в черно-белом юноше на мостках в Вензее, по пояс голый, он скептически смотрит в камеру. Наверно, его фотографировала моя бабушка, она рассказывала мне, как впервые встретила там этого тихого мальчика, который держался в стороне, всегда носил с собой фотоаппарат и снимал исключительно хорошие портреты. На поздних фотографиях я почти не узнаю его. Вот пожилой человек пропалывает клумбу с розами. Согнутая спина, седые волосы. А вот более ранняя: у него еще темно-каштановые и густые волосы, он хорош собой, в летней рубашке с закатанными рукавами около коричневого «ситроена» – наверно, это конец семидесятых. Он смотрит в камеру, опять скептично улыбаясь, словно не совсем доверяя фотографу. Я пытаюсь понять, где сделана эта фотография, но номер машины не виден, и рядом никого – ни жены, ни детей, только резкие, очевидно южные тени. Из таких черепков мне ничего не собрать.
– А как вы вообще нашли нас? – спрашиваю я у нотариуса.
– Синьор Райнке указал ваши адреса и телефоны в завещании.
– C’est impossible![1]
Жоэль в полном смятении. Как и я. Мне горько от мысли, что он знал, где меня найти, но никогда не пытался встретиться. И меня это злит.
– Неужели вы совсем не общались? – спрашивает Каталано.
– Нет! – выкрикивает Жоэль.
– Как он смог нас найти? – удивляюсь я.
– Не знаю, – отвечает Каталано, – но в наши дни не очень-то сложно разыскать такую информацию.
Жоэль опирается на диван, а потом, обессилев, садится.
– Тебе нехорошо?
– Нина, ты что-нибудь понимаешь?
– Нет.
– Давайте я отвезу вас в отель, – говорит Каталано и направляется к двери.
Он ведет себя с какой-то странной властностью. Будто это его дом.
– Мы останемся здесь, – решительно отвечает Жоэль.
Каталано вопросительно смотрит на меня. Я совсем не уверена, что хочу ночевать здесь, в доме мертвеца.
– Но где вы собираетесь спать? Гостевая комната не приготовлена.
– Мы разберемся, – говорит она.
– Но вам, наверно, нужно поесть?
– Мы сами себе приготовим.
– Синьора, простите, все же вам нельзя здесь оставаться, – продолжает настаивать нотариус. – Это место преступления. Уголовная полиция…
– Я думала, это было самоубийство? – прерывает его Жоэль.
– Но и в этом случае полиция должна…
– Я хочу увидеть тело.
– Конечно, синьора, завтра мы можем пойти к судмедэксперту. Однако в этом доме… Я вынужден просить вас…
Она резко встает:
– Это дом моего отца. Разумеется, я буду спать здесь.
Она бросает на меня взгляд, говорящий, что я тоже останусь здесь, и идет к лестнице. Вздохнув, Каталано беспомощно разводит руками. Через окно я вижу на террасе доктора Бишару. Он поливает растения. Очевидно, наблюдал за нами. Каталано машет ему и выходит на улицу. Я не слышу их разговора, но по жестам понимаю, что Бишара успокаивает нотариуса. Когда я выхожу на террасу, Бишара говорит:
– Все в порядке. Добро пожаловать.
– Она так давно его ищет, – объясняю я. – И всегда надеялась еще увидеть его, живым.
– Понимаю, – отвечает Каталано. В его тоне отчетливо слышится «однако…».
– Он ничего про нее не рассказывал?
– Очевидно, старик скрывал пару секретов. – В голосе Бишары явная ирония, но ни намека на удивление.
– Сарфати – это еврейская фамилия? – спрашивает Каталано.
– Да.
– Но Мориц…
– Мама Жоэль – еврейка.
Бишара слушает нас с любопытством, хотя не подает вида. Мне кажется, Каталано задал этот вопрос специально для него.
– Вы знаете, что мой дедушка был солдатом в Тунисе?
– Да.
– Там он и познакомился с матерью Жоэль.
– Ах вот что. Ты знал об этом? – спрашивает Каталано у Бишары.
Тот качает головой.
– Я тоже об этом не знала, – говорю я. – Он же считался пропавшим без вести. Я вообще не знала, что он делал на войне. Был он убежденным нацистом или нет. А потом я встретила Жоэль. И она рассказала, что случилось в Тунисе. Оказалось, он спас жизнь итальянскому еврею.
– Davvero?[2] – восклицает Каталано, словно не ожидал такого от Морица. – Bella storia![3]
Я вижу, что Бишара явно о чем-то размышляет.
– А потом ему самому пришлось прятаться, – продолжаю я, – и его укрыли у себя в доме родители этого человека. Там Мориц и влюбился в их дочь, в мать Жоэль.
– Тогда там жило много итальянцев, – подхватывает Каталано. – Евреи, католики, tutti quanti, все подряд. Они называли место La Piccola Sicilia, Маленькая Сицилия. От нас до нее ближе, чем до Рима. Это все, что нужно знать о нас, сицилийцах!
Он улыбается со значением, как будто только что объяснил мне устройство мира. Бишара смотрит на меня внимательно, но молчит. Не то чтоб он мне не верит, но как будто знает болье, чем я.
Со второго этажа раздается глухой грохот, словно что-то упало. Наверно, Жоэль что-то задела. Каталано, вздохнув, идет в дом. Он проходит внутрь гостиной, так что я его уже не вижу, однако слышу, как он закрывает раздвижную дверь к задней части комнаты, где стоит письменный стол.
– А вам он что рассказывал? – спрашиваю я у Бишары.
– Что он вернулся после войны обратно. В Берлин. У него там была семья.
Я не верю своим ушам. Это именно тот вариант его судьбы, о котором всегда мечтала моя мать. Но который так и не осуществился.
– Нет, он не вернулся. Ни живым, ни мертвым.
Не понимаю, зачем ему понадобилось обманывать Бишару.
– А сколько он здесь жил?
– Долго. Около тридцати лет.
– А вы… его врач?
Бишара кивает, хотя в мыслях он где-то далеко, не со мной. И похоже, рад, когда Каталано прерывает наш разговор. Нотариус по-прежнему надеется, что я все-таки поеду в отель. Говорит, что зарезервировал нам два номера. Но я отвечаю, что не могу оставить Жоэль одну. Хотя ситуация мне так же неприятна, как и ему. Зову Жоэль. Но она не откликается.
– Andiamo, Бруно, пошли! – торопит его Бишара. – Я должен еще забрать своих детей.
– Пожалуйста, только ничего не трогайте, – просит меня Каталано и, помедлив, добавляет: – Обнародование завещания… – Но не заканчивает фразу, подыскивая подходящие слова.
– Вы его уже читали? – спрашиваю я.
Он прячет глаза. Протягивает мне визитку:
– Приходите завтра в десять в мое бюро. Там мы обсудим… все.
– Arrivederci, – спешит закончить разговор Бишара.
Каталано с неохотой идет вслед за ним по саду. Прежде чем завернуть за угол дома, оборачивается. Ему не по нраву, что мы остаемся здесь одни. И опять во мне поднимается то чувство из детства – неопределенность, источником которой было исчезновение Морица; когда нет четких правил, каждый придумывает свои собственные, и я в этом теряюсь. Мне нужно, чтобы кто-то заполнил этот вакуум – спокойствием и надежностью. И я боюсь, что Жоэль, как бы ей этого ни хотелось, больше не в силах мне помочь.
Когда звук мотора стихает, на террасе появляется Жоэль. Она выглядит уставшей. Что-то в ней сломалось. Треснул тот крепкий фундамент, на котором покоилась ее беспечность. Я предлагаю пойти поесть куда-нибудь, но она словно в трансе подходит к гаражу и останавливается. Желтая оградительная лента, натянутая полицейскими, трепещет на ветру. Я встаю рядом, и мы вместе смотрим на белую дверь. Я рада, что гараж закрыт. Потом беру Жоэль под руку, и мы возвращаемся в дом.
Она распахивает все окна – высокие створки и деревянные ставни. Комната наполняется вечерним светом, шумом моря. Словно хочет прогнать смерть из покинутого дома. Но я на шаг впереди нее и чувствую, что он умер и бесполезно это отрицать. Открыв раздвижную дверь, Жоэль подходит к его письменному столу. Я и не пытаюсь остановить ее – бесполезно. Она выдвигает ящики, роется в бумагах, сама не понимая, что ищет, а на самом деле желая найти его – вроде такого близкого, но исчезнувшего. Мне не по душе вторгаться в его владения, пока он еще не погребен. Иду на кухню, чтобы сделать кофе. Мяукает кошка. В конце концов нахожу для нее в холодильнике мортаделлу. И вдруг замечаю на стене карандашную записку, написанную Морицем по-итальянски: «Сливочное масло. Петрушка. Стиральный порошок. Кошачий корм». Размашистый старомодный почерк, который кажется четким и энергичным. Я проверяю, нет ли на кухне следов женского присутствия, но ничего не вижу. Зато все чисто и убрано, как будто он не хотел оставлять после себя беспорядка. Обязательно надо спросить нотариуса, нет ли прощального письма – вдруг мелькает у меня в голове. А кофе он варил в старой закопченной caffetiera, гейзерной кофеварке. В воронке холодная кофейная гуща. Его последний кофе. Чуть поколебавшись, я выбрасываю гущу и зажигаю газовую плиту.
– Жоэль, перестань! – Я не нахожу слов, чтобы ее утешить.
Ставлю чашку с кофе на письменный стол, бросаю взгляд на разбросанные бумаги и быстро отворачиваюсь – не имею права их читать. И тут на стене, за спиной Жоэль, замечаю сейф. К стене прислонена картина с рыбацкими лодками, которая, очевидно, его раньше скрывала. Дверца сейфа приоткрыта, и я вижу, что он пуст.
– Смотри!
Жоэль не реагирует. И только тут я замечаю, что она плачет, дрожит всем телом, не переставая искать что-то, чего найти попросту не может.
– Ничего. Совершенно ничего.
– В смысле – ничего?
– Ни единой фотографии – ни меня, ни мамы. Ничего.
И действительно. На добротном старинном письменном столе явно не хватает того, что обычно присутствует на столе пожилого человека, – семейных фотографий. Нет ни нашей семьи, ни семьи Жоэль.
– Он нас попросту уничтожил. Согласись, это возмутительно!
Нет, не соглашусь. Именно таким я его и узнала, этого человека, которого мне не дозволено было знать. Вот мне девять лет, и я вижу, как мама в приступе то ли гнева, то ли тоски выхватывает из шкафа бабушкин фотоальбом, нервно перелистывает и швыряет на пол, обвиняя бабушку в чем-то, чего я не понимаю. Я только помню, что бабушка ответила: он мертв и маме пора наконец понять это. Миллионы солдат сдохли – вот такая была война. А мама кричала: нет, этого не может быть, нет никаких свидетельств! Может, он все еще где-то жив!
И вот теперь Жоэль, спустя несколько десятилетий, во власти такого же гнева, такой же травмы, такого же неприятия реальности. Хотя для нее-то он был отцом. Я знаю, что есть мужчины, у которых две семьи одновременно, причем женщины не подозревают друг о друге, знаю и о том, что порой мужчина попросту исчезает – чтобы завести в другом месте вторую семью. Но мужчина, который пропадает дважды, который дважды бросает жену и дочь и начинает третью жизнь под пальмами – что это, как не патология?
– Жоэль, не надо.
– Райнке, Райнке, Райнке. Нигде нет Сарфати!
Она вынимает из ящиков его письма, счета за электричество, какие-то рукописные бумаги, выискивает фамилию, и везде только это немецкое имя – Мориц Райнке. Я беспомощно наблюдаю, как она погружается во тьму. Сам ты не способен понять, что ослеп от любви или ненависти, зато это хорошо видно со стороны. Возможно, я любила этого человека именно потому, что его не было рядом. Потому что он ускользал и менялся, как только его образ обретал очертания. Пока он был никем, он мог быть любым. Он был чистым холстом для моей фантазии. А для Жоэль – путеводной звездой ее детства. В ее памяти время остановилось, его образ окаменел, словно у него не было дальнейшей жизни. А сейчас все рассыпается. Впервые я опережаю ее на шаг. И теперь я должна стать для нее опорой.
– Жоэль, посмотри сюда, видишь? – Вечерний свет лежит на подоконнике, и на чуть пыльной поверхности заметны два пустых четырехугольника. Именно сюда должен падать взгляд сидящего за столом человека. – Тут стояли фотографии.
Жоэль проводит пальцем по пыли вокруг.
– Они стояли здесь еще недавно.
Я осматриваю стену. Если приглядеться, то и здесь видны чуть более светлые места, где наверняка висело что-то в рамках. Но это убрали. Может, полиция, или Мориц, или кто-то еще? Что было на этих фотографиях?
– Он так много фотографировал, – говорит Жоэль. – У него должны быть мои фотографии. Сотни.
– Почему он оставил твою маму?
– Он ее не оставлял. Она была любовью всей его жизни.
В первый раз я чувствую, что не совсем верю Жоэль. Мне интереснее истории краха, чем истории счастья. Так было всегда, даже до моего развода. Я не доверяю романам и фильмам, которые заканчиваются объятием влюбленных. Подростком я придумала такую странную хитрость: чтобы решить в магазине, стоит ли покупать книгу, я никогда не читала первое предложение, но открывала самый конец и читала последнюю страницу; если все заканчивалось хорошо, я книгу откладывала. Ложь я не покупаю. По-моему, счастливый конец – это предательство по отношению к реальности. Темные тайны, трагические расставания, невозможная любовь – вот это по мне. Мой бывший – я теперь называю его только так, а не по имени, это тоже своеобразное уничтожение – часто потешался над этим. И правда, в нашем браке не было ни тени трагедии или крушения. Это было единственное место в мире, где я не предчувствовала несчастья, это был мой остров. В глубине души я гордилась, что обустроила свое гнездо лучше, чем мама и бабушка. Я не могла и помыслить, что бомба разорвется как раз там. А теперь меня уже ничто не может потрясти. Всякая любовь конечна. Но дело не в том, что мир плох, нет, мир полон любви, и именно это – проблема. Самый страшный враг любви – вовсе не ненависть, а другая, более сильная любовь. И тот, кому достается мало любви, становится одержим ею, зависим от нее, ему хочется все больше и больше.
– Жоэль, что случилось? Расскажи мне правду. Даже если она причиняет боль.
Нужно время, чтобы она успокоилась, и мы, обессиленные, наконец садимся у окна и ждем. Пока свет медленно не померкнет и по комнате примутся бродить тени. Пока не опустится тишина и Жоэль сможет впустить воспоминания.
– Представь себе мужчину, – наконец начинает она, – который принял решение. Ради своей семьи. Отвергнув все, что раньше имело для него значение. Просто представь, даже если считаешь, что мужчины не способны так любить. Раньше были такие мужчины. Они не тратили слов, они проявляли свою любовь, когда после войны закатывали рукава и строили дом, собственными руками. Быть может, они были более замкнутыми, чем нынешние, быть может, не понимали своих женщин, может, даже обманывали их. Но поверь мне, ради семьи они смогли бы убить.
– Он что, правда кого-то убил?
– Нет. Может, в том и была его единственная слабость. Может, он был слишком добрым. Может, иначе все бы не разрушилось. Но его поступок потребовал от него даже больше мужества. Потому что ему пришлось убить себя. Ради любви к моей маме. Он изменил имя, принял ее религию и женился на ней. Вскоре после войны он сел с ней на нелегальный пароход для эмигрантов, чтобы больше никогда не возвращаться.
Глава
3
Вся великая литература – это одна из двух историй: человек отправляется в путешествие, или чужеземец появляется в городе.
Лев Толстой
– Мое имя – Морис Сарфати.
– У вас фальшивый паспорт.
– Мое имя – Морис Сарфати.
Если он много раз это повторит, они поверят. Притом он даже не врет. Он же не говорит: «Я – Морис Сарфати». Он носил имя, как новую рубашку, как трость или ключи.
Пока они в это не поверят. Пока он сам не поверит.
Жоэль стояла рядом, в очереди на пыльном пирсе, и держала маму за руку. Обетованная земля воняла машинным маслом и солоноватой водой – смесью пресной и морской. Жара. Повсюду чемоданы, на мешках с песком мотки колючей проволоки, бледные солдаты в шортах и красных кепках проверяли документы, задавали вопросы на английском и записывали ответы в свои бумаги: порт погрузки, название корабля, место жительства, семейное положение. Слышались такие названия, как Лодзь, Триест, Берген-Бельзен, Дахау. Какой-то старик задрал рукав своей поношенной куртки, чтобы показать номер, вытатуированный на руке. Но следующий в очереди уже теснил его, проталкиваясь вперед, какая-то женщина требовала молока для младенца. Солдаты выхватили из толпы молодого мужчину и увели прочь. Это был один из матросов с их судна, которое британский эсминец взял на абордаж и отбуксировал в порт Хайфы.
Морис протянул англичанину документы. Стоя рядом с ним, Жоэль ни о чем не беспокоилась, хотя солнце жгло нещадно и очень хотелось пить. Пока мама и пап были рядом, никто не мог сделать ей ничего плохого. Она знала, что пап сильнее и лучше молодого солдата, хотя на том красивая форма, а у пап старый костюм. Жоэль не подозревала, что творится в душе Мориса, до чего он боится, что его раскроют, отправят обратно, арестуют.
– Мое имя – Морис Сарфати. Это моя жена, Ясмина Сарфати. И моя дочь, Жоэль Сарфати.
На итальянском – языке, на котором они говорили в семье, – о своей профессии скажут так: Faccio il marinaio. Я делаю, то есть изображаю матроса. Я не являюсь матросом, я не есть матрос. Я всегда могу от этого отказаться. Но про собственное имя говорят: Sono Maurice. Я есть Морис. Как странно, что люди идентифицируют себя через имя, которое – в отличие от профессии – они себе не выбирали. Получается, что они – идея своих родителей. А потом говорят: «Я – отец» или «Это – мой муж». Но разве не разумнее было бы говорить: Faccio il pap, Faccio il marito. Я изображаю отца, мужа, итальянца. Я ими не являюсь, а изображаю их, как актер на сцене. Я воплощаю представление других людей о том, что значит быть тем или иным человеком.
– Итальянец?
– Да.
– Еврей?
– Да.
– Вы являетесь членом еврейской подпольной организации?
– Нет.
Британец не поверил. Хотя это был первый правдивый ответ. Голос солдата был вымученно нейтральным, но на самом деле – враждебным. На корабле они защищались как могли. Когда эсминец подошел борт о борт, кто-то притащил на палубу ящики с консервами и люди как бешеные принялись швырять банки в британских матросов. Были раненые.
– Вы понимаете, что пытались нелегально проникнуть в страну?
На этот вопрос, внушали им в Италии люди из Моссад ле-Алия Бет[4], обязательно надо врать – мол, они просто совершают круиз по Средиземному морю. Но Мориц решил ответить честно. Ложь надо подавать, приправив ее правдивыми деталями.
– Да, конечно.
Узкие губы англичанина немного расслабились.
– Кто оплатил ваш переезд?
– Еврейское агентство.
Солдат записал его ответы с раздражающим безучастием. Морис старался сохранять самообладание. Он знал таких молодых ребят в тропической форме, которых послали в далекую пыльную страну, а те даже не понимали зачем. Он был одним из них. Пока не стал Морисом Сарфати.
– Где мне взять питьевую воду для жены и дочери?
Солдат продолжал писать, не взглянув на него.
– Вы не имеете права обходиться с нами как с преступниками! – вырвалось у Мориса с излишней горячностью. В тот же момент он пожалел об этом.
– Вас задержали при попытке нелегального проникновения на мандатную территорию Великобритании. Нелегальная организация, к которой вы – по вашим словам – не принадлежите, нарушает британские иммиграционные квоты. А если позволите личное замечание, то на совести ваших людей смерть моего лучшего товарища – пять дней назад бомба на куски разорвала его джип.
– Что вы подразумеваете под «вашими людьми»?
Ненависть ослепляет, скажет потом Морис повзрослевшей Жоэль и напомнит про их прибытие в Хайфу. Втайне он почувствовал облегчение – британец принимал его как еврея. Враги обычно на одно лицо, а вот среди своих видишь различия. Для удачной лжи требуется отвлечь внимание, это вам скажет любой пропагандист.
– Ни у кого на этом судне нет бомбы в чемодане, – сказал Морис. – У некоторых вообще нет ничего, кроме той одежды, которая на них. И номера на руке. Да знаете ли вы, через что прошли эти люди?
– Ну конечно. Вы все невиновны. Предположим, вы и правда не член Моссада или Пальяма[5]. Предположим, я отправлю вас не обратно в Европу, а в лагерь. Но еще прежде, чем вы успеете получить свою первую порцию супа, с вами заговорит дружелюбный молодой человек. С вами и со всеми другими молодыми мужчинами. Он пообещает помочь вам выбраться из лагеря, незаконно. Есть туннели, есть охранники, которых можно подкупить… И через пару недель некоторые из вас – разумеется, не все – примкнут к террористической организации и подложат бомбу, которая убьет молодых британцев. Но конечно же, все вы – ни в чем не повинные беженцы. Вас так любят газеты.
– Послушайте, если бы я был матросом Пальяма, неужели я взял бы с собой жену и дочь? Ей всего четыре года.
– Как вы докажете, что эти люди действительно ваши родственники?
<>– У меня в чемодане лежит наше свидетельство о браке. Если вы…– Когда и где вы поженились?
– В Риме.
– Когда?
Морис почувствовал струйку пота сзади на шее. Но он не шевельнулся. Надо говорить правду. У них чемодан.
– В сорок пятом.
– И вашей дочери уже четыре года?
Самодовольство в его голосе было очевидно. Он попал Морису в самое уязвимое место. И тут Морис подался к офицеру и тихо, чтобы Жоэль не услышала, сказал:
– Ее родной отец погиб на войне.
Но надежды на сочувствие англичанина не оправдались. Тот остался вызывающе невозмутим.
– Кто погиб на войне? – спросила Жоэль.
Морис испуганно наклонился к ней:
– Многие люди погибли. Но не мы, siamo fortunati[6], как и всем остальным людям, которые тут с нами. У нас все получилось.