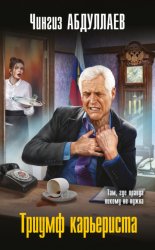Божий дар Устинова Татьяна

Учительницу он тогда довел до слез.
– Мам, – сказала Сашка. – Ну это же ее отец – жлоб и хамло. При чем тут Даша? Она-то нормальная… И между прочим, папашу своего терпеть не может. Он и на нее тоже орет знаешь как?
Я не знала, как папаша орет на Дашу, но, честно говоря, не очень верила, что у такого родителя может вырасти нормальный ребенок. Хотя… Даша – со всем своим апломбом, дорогими сапогами, ярким макияжем и вечным орбитом во рту – всего лишь девочка. Наверное, ей и впрямь несладко жить с таким папашей, который к тому же еще и постоянно орет.
– Мам, – Сашка обняла меня. – Можно мне в пятницу после школы к Дашке?
– Можно, – сказала я. – Только сделай уроки на понедельник и возвращайся не поздно. Мы в субботу переезжаем, не забыла?
Сашка энергично затрясла головой – нет, мол, не забыла, забудешь такое! – звонко чмокнула меня в щеку, похватала тетрадки и убежала в комнату. Я придвинула материалы дела с несчастливым номером с окончанием на «тринадцать». Садиться сегодня за статью у меня просто нет сил, все равно ничего путного не напишу. Ну, хоть дело почитаю.
Зазвонил телефон. Опять Даша… Опять на два часа. Сашка снова не выспится и будет ходить как сонная муха.
– Мам, тебя! – заорала дочь из прихожей. – Теть Маша!
– Значит, так, Кузнецова, – забасила трубка Машкиным голосом. – В субботу мы к тебе приедем к трем часам. С тебя кофе и пироженка. Пашка договорился взять на работе «Газель». Мы туда все твое барахло впихнем и за одну ездку тебя перетащим на новое место жительства. Круто?
Круто, еще как. Машка – золотой человек. Дураки те, кто говорит, что женской дружбы не бывает. Женская дружба (если она настоящая, конечно) куда как крепче мужской.
Паша – Машкин муж. Он тоже юрист. Мы все учились в одном институте, только Павлик – на два курса старше нас с Машкой. В институте он никогда не отказывался помочь с курсовой, а когда у меня умерла бабушка – взял на себя организацию похорон, сейчас вот раздобыл «Газель», чтобы помочь с переездом.
Вообще-то сначала я собиралась машину нанять, чтобы не грузить никого своими проблемами. Купила «Из рук в руки», позвонила по нескольким объявлениям и пришла от цен в ужас. Стало совершенно очевидно, что если заказывать машину, то на ближайшие три месяца я останусь не только без вожделенного трюмо, но, пожалуй, и без хлеба.
Можно было бы, наверное, попробовать перевезти вещи на моей «Хонде», но для этого придется сделать минимум пять ездок с одного конца Москвы на другой. А машинка и так на ладан дышит. Каждый раз, садясь за руль, я долго уговариваю ее потерпеть еще разочек и клянусь оттащить на сервис вот прямо завтра. И каждый раз не получается. Пять ездок из Царицына в Митино «Хонду» мою доконают. И тогда, боюсь, никакой сервис не поможет.
В итоге Машка, как водится, обругала меня идиоткой, велела никого не нанимать и не насиловать собственную машину, озадачила Павлика, и вопрос был решен.
– Мань, спасибо тебе, не представляю, как бы я сама все тяжким трудом заработанное перла на новую квартиру…
– Угомонись, – оборвала меня Машка. – Главное – про кофе не забудь. И давай рассказывай, как у тебя там на новом месте. Как работается?
Я рассказала. Двадцать одно дело прочитано, голова пухнет, с работы прихожу в десять вечера, в общем и целом по больнице температура нормальная. Вот сейчас сижу с делом о лишении родительских прав. И, честно говоря, не представляю, с какой стороны за него браться.
– Браться за дело всегда лучше с начала, – сказала Машка. – И постепенно доводить до конца, Кузнецова.
– Я понимаю, – жалобно сказала я. – Но тут же не возмещение ущерба за разбитую урну, тут живой ребенок. Я переживаю.
– Кузнецова, я понимаю разницу между урной и ребенком, вообще-то. Но это твоя работа. А если ты такая трепетная, надо было учиться на флориста. Или на маникюршу. У них в профессии никаких переживаний, знай себе сажай анютины глазки или ногти пили. А ты – не маникюрша. Ты – судья. И нечего трепетать, аки лист на ветру. Что за дело?
– Суррогатная мать не отдает ребенка генетическим родителям. Родители – американцы…
– Ты истцов видела? Ответчицу видела?
– Нет.
– И уже переживаешь!
– Да.
– Ну вот что: давай срочно бери себя в руки. Если тебя все дела будут задевать за живое, тебя свезут в Кащенко уже через две недели! Ты что, вчера родилась?! Ты на этой поганой работе уже десять лет! И до сих пор как гимназистка, чуть что – в обморок упасть норовишь. Тебе кого жалко? Маманьку суррогатную? Ты с ума сошла? Да эта маманька за счет дураков-американцев родила в царских условиях, все девять месяцев каталась, как сыр в масле, ты так сроду не жила, я думаю. Чего ее жалеть?
– Тебе легко говорить. А я вот сижу и думаю: а если бы у меня Сашку кто-то захотел отсудить?
– Если бы у тебя Сашку кто-нибудь захотел отсудить, он бы тебе ее с доплатой потом вернул, и ты бы озолотилась, – отрезала Машка. – Потому что с ней надо английским заниматься и тряпки покупать. А если серьезно – кончай страдать, доваривай свой борщ, дуй в ванную, и в койку. Поняла?
– Поняла. Только ванна отменяется. У нас по вечерам никогда нет горячей воды. А я не последовательница Порфирия Иванова, чтобы устраивать заплывы в ледяной воде. И в койку я тоже не могу, мне еще дело читать.
– Завтра почитаешь. На работе, – строго сказала Машка. – А сейчас почитай на сон грядущий какую-нибудь Донцову, и все у тебя будет хорошо.
Машка повесила трубку. И я как-то сразу успокоилась. Хорошо, что женская дружба все-таки существует.
Свой первый год в Москве Люда почти не помнила. В памяти отпечаталось только, что ей постоянно хотелось спать. Пару раз она засыпала в метро и уезжала на конечную станцию, откуда потом надо было возвращаться через полгорода обратно. Однажды ей пришлось до пяти утра сидеть на заплеванной скамейке и ждать, пока откроется метро, потому что поезд, в котором она заснула, был последний, и уехать обратно оказалось не на чем. В другой раз, пока Люда спала, привалившись головой к поручню вагона, у нее украли сумку. Сумка была дрянная, клеенчатая, со сломанной молнией. Но внутри лежал проездной на метро и сто пятьдесят рублей, на которые Люда рассчитывала как-нибудь дотянуть до конца месяца. Пришлось потом две недели сидеть на голодном пайке и ездить в метро зайцем (иногда тетки в метрополитене из жалости пропускали Люду бесплатно, иногда – свистели вслед). Слава богу, хоть паспорт не вытащили. Паспорт Люда в сумке не носила, всегда прятала во внутренний карман.
В столицу Люда приехала из села Козицы Сердобского района Пензенской области. Приехала на заработки. Надо было кормить маму и дочку Лиду, а работы ни в Козицах, ни в Сердобске не было.
Когда-то в городе был мясоперерабатывающий комбинат. По всей округе от него шла нечеловеческая вонь, зато комбинат давал работу двум тысячам местных жителей. Был при комбинате детский садик, была поликлиника, летом работникам давали путевки в санаторий «Сосны»… В Козицах имелась животноводческая ферма, там для комбината выращивали коров. И комбинат, и ферма приказали долго жить. Остались полуразрушенные корпуса да вонь, которая за десять лет так и не выветрилась.
Пока комбинат не закрылся, Людина мать работала там в бухгалтерии. Ездила из Козиц на автобусе, всего-то – полчаса. Когда комбинат закрылся – устроилась в Козицах в сельсовет секретаршей (она же – кадровик, она же – бухгалтер). Но через несколько лет поселковое начальство сменилось, и мать из сельсовета попросили. Теперь там всем заправляет жена нового председателя поселкового совета.
Если б не было кур и огорода, Люда с матерью пошли бы, пожалуй, по миру с протянутой рукой.
Впрочем, Люда считала, что живут они совсем неплохо. Она привыкла к сельской жизни, к тому, что в пять утра нужно вставать кормить кур, что для стирки требуется сперва накачать воды, что туалет – на дворе, а десять рублей – большие деньги.
В Козицах была школа, в которой училось восемнадцать человек. Школу уже несколько лет как собирались закрыть, но до сих пор не собрались.
По субботам Люда с подружками бегала на танцы в поселковый клуб, с другой стороны которого располагалась баня.
Раз в две недели в клубе показывали кино.
Иногда удавалось съездить на танцы в Сердобск, в клуб с романтическим названием «Железнодорожник».
Летом, когда в Козицы во множестве приезжали к бабушкам и дедушкам на свежую ягоду городские внуки, они с девчонками кокетничали с этими самыми городскими, сидя на завалинке и лузгая семечки. Летом в Козицах было весело.
Зимой жизнь замирала. Всех развлечений – пойти в гости к соседке телевизор посмотреть. Да и то, прежде чем выйти из дому, надо было раскопать лопатой сугроб у крыльца.
Люда не очень любила зиму. Но потом всегда наступало следующее лето, и жизнь снова делалась веселой и интересной.
Люда окончила девять классов козицкой школы и, поскольку десятого класса в школе не было, поступила в Сердобске в колледж учиться на конструктора одежды. На самом деле это был самый обычный швейный техникум, просто его переименовали в колледж. Конструктором же одежды назывался оператор раскроечной машины. Машина могла из толстой стопки фланелевых кусков разом выкроить толстую стопку рукавов для халатов. Вот и весь конструктор.
Впрочем, альтернативы у Люды не было. В Сердобске, помимо ее колледжа, имелось еще два. В одном учили на слесарей, в другом – на животноводов. Люда животноводом быть не хотела. Хватит с нее их собственных кур, которых вечно надо кормить и следить, чтобы они не расклевали яйца.
Колледж Люда так и не окончила.
На первом же году учебы она познакомилась с Мишкой. Мишка был городской, работал на автосервисе и казался Люде ужасно взрослым – ему было двадцать пять.
Очень скоро они стали встречаться. Когда оказалось, что Люда беременна, – поженились. Люда была несовершеннолетняя, но их расписали из-за ребенка.
С Мишкиными родителями вышел скандал, его мать кричала, что Люда все специально подстроила, чтобы поселиться в их городской квартире. Смешно! Можно подумать, большая радость жить в конуре, в которой и без нее пять человек на двадцати пяти метрах.
Людина мать сказала: «Чтоб ноги твоей там больше не было!»
В итоге Мишка поселился в Козицах. По утрам ездил на работу в город, по вечерам возвращался. А иногда – не возвращался, оставался ночевать у родителей. Так и жил – вроде на два дома.
Где-то месяца через три сервис, в котором Мишка работал, сожгли, и он стал уезжать на заработки в Пензу. У него там был двоюродный дядька, и этот дядька пристроил Мишку в строительную бригаду, которая ремонтировала квартиры новым русским пензюкам.
Поначалу Мишка приезжал почти каждые выходные, потом – раз в месяц, а незадолго до того, как Люде пришло время рожать, и вовсе пропал. Люда позвонила его дядьке, и тот сказал, что они с Мишкой поругались, и где его племянник, он знать не знает. Может, наладился в соседнюю область шабашить, а может, еще куда… С тех пор от Мишки не было ни слуху ни духу.
Целый месяц Люда плакала по ночам в подушку. Мама утешала ее, как могла.
Однажды Люда встретила в городе Мишкину сестру. Та сказала, что брат подался на заработки в Москву.
В ноябре Люде исполнилось восемнадцать. А в январе родилась Лидка.
Рожать Люду отвезли в сердобскую больницу. Роддома в городе не было, но в больнице имелось родильное отделение – палата на четыре койки. В палате было холодно, из окон дуло, тощее больничное одеяло совсем не грело. Люда плакала и хотела домой.
После того как Лидка родилась, ее сразу же унесли. На следующий день Люде дали Лидку покормить. Дочка была маленькая, со сморщенным красным личиком, и от нее шел неприятный кислый запах. И еще она орала. Люда совершенно не знала, что с ней делать, и обрадовалась, когда на третий день их отпустили домой, к маме.
Лидку надо было все время кормить, пеленать, качать, когда она орала, а орала она почти постоянно, потому что у нее то живот болел, то зубы резались. Да куры, да огород… Какие уж там танцы. Все, Люда свое отплясала.
Они с матерью крутились как белки в колесе. Денег и раньше всегда не хватало, а теперь и вовсе не стало. В начале зимы подтопило погреб, и картошка, которую они заготовили (на продажу и себе на зиму), померзла. Потом посыпалось одно за другим: сперва мать слегла с воспалением легких, потом обвалился угол крыши, и пришлось платить за рубероид и за работу мужикам, потом пришла весна, и в районе объявили эпидемию какого-то нового, птичьего гриппа. В Козицы приехали из районной санэпидстанции и велели пустить под нож всех кур, хотя куры были живые-здоровые.