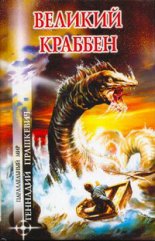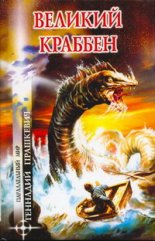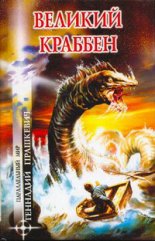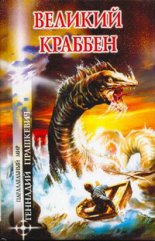Дорога на Тмутаракань Аксеничев Олег

Знание гармонии называется постоянством. Знание постоянства называется мудростью. Обогащение жизни называется счастьем. Стремление управлять чувствами называется упорством…
В такой жаркий день не стоит горячить кровь себе и коню. Человеческий пот и конская пена – плохая смазка для копейного острия. Сама по себе победа – прах, как тот, что летит из-под копыт. Честь дороже, и стократ, что не своя, а побратима. А значит, отключись от всего, забудь, где ты, доверься своему телу, привычному к бою. Когда настанет момент для удара, тело отзовется, напрягутся мышцы, и копье прыгнет с ладони, нанося последний разящий удар.
Кончак улыбался. Перед собой он видел не искаженное в гневе, покрасневшее лицо князя Владимира, не беленые стены Переяслава за неширокой рекой. Он видел далекую Шарукань, покрытые алым лаком резные столбы ханского дворца, дочь Гурандухт, сидящую на ступеньках входа и с улыбкой глядящую на отца. Видел солтанов, поседевших, покрытых боевыми шрамами, затеявших состязание на скамье. На сиденье, густо смазанном жиром, становились босыми ногами двое, пытаясь сбить соперника ударом большого мешка, набитого козьей шерстью.
Хан Кончак улыбался, еще больше распаляя князя Владимира.
Так и случилось предначертанное…
Искусный побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что его к этому вынуждают.
Кончак и не заметил, как нанес этот удар. Тело все сделало само, как привыкло в многочисленных боях. Князь, затеяв конный хоровод, отвлекся на поворот и был наказан за небрежение.
Половецкое копье лизнуло княжескую кольчугу снизу вверх, едва не запутавшись в переплетении колец, отклонилось чуть вбок по складке плаща и впилось в незащищенную шею. Плащ спас князю жизнь и был вознагражден большой прорехой и багряным пятном хлынувшей на него княжеской крови.
Красное на алом – неудачное сочетание цветов, не так ли?
Застонав, Владимир Глебович склонился к гриве своего коня. Обеспокоенные оруженосцы подбежали, чтобы помочь своему господину.
– Теперь уже точно – все! – удовлетворенно сказал Кончак, поворачивая иноходца вспять.
Но день еще не закончился.
– День еще не закончился, времени говорить достанет.
Так сказал князь Давыд Смоленский, оглядев своих дружинников. Смоляне, большей частью верхами, возвышались над пешими новгородцами, по привычке предпочитавшими седлу – землю.
– Что сказать хочу, вои, не приказ, но просьба о помощи… Душа раздирается, как ткань негодная, и выбора сделать не могу, оттого и вече созвать повелел. Привел я вас до Киева, далее же путь наш вот так расходится.
И князь Давыд широко раскинул руки.
– Ведомо вам, что шли мы защитить стольный Киев от набега поганых половцев.
– Ведомо князь, что случилось, говори, не тяни!
– А мне вот ведомо стало, что Кончак с войском стоит под Переяславом, и дальше, к Киеву, идти и не думает. Что делать? Дальше идти, отогнать степняков, чтобы не топтали Землю Русскую?
Дружина согласно загомонила.
– Другая весть до меня дошла, вои мои верные! – Голос князя стал печальнее. – В Новгороде Свеневичи силу большую взяли, посадника не слушают, верных ему людей в Волхов определили, с моста, так что насилу и спасли…
Прислушивался Давыд внимательно – поменялось ли что в шуме? Заметил, что гомон стал не тише, но раздавался иначе. Радости в нем не просто поубавилось, не стало.
– Мучим мукой… Не знаю, как определиться! Брату помогать надо, через броды на Переяслав идти… Значит, новгородцев, героев наших, еще дальше от Родины отвести, а никто ведь не скажет, как по возвращении встретит Господин Великий Новгород – матерью иль мачехой…
Князь помедлил немного, еще вслушался, сказал:
– Решай, вече, раз я не в силах!
День еще не закончился, но боги уже обрубили нить одной судьбы.
Князь Владимир Переяславский, раненый, уязвленный до глубины души не столько сталью, сколько позором, не захотел признать поражение. Завидев сквозь заливший глаза пот разворачивающего коня хана Кончака, князь вскрикнул, выпрямился в седле и, словно дротик-сулицу, метнул в ненавистного победителя тяжелое боевое копье.
Кончак краем глаза углядел опасность. Недрогнувшей рукой он поднял на дыбы иноходца.
Копье, да еще брошенное усталым раненым человеком, не может пролететь далеко и ударить сильно. Если, конечно, его цель не находится на расстоянии шага.
Острие копья ударило в грудь ханского коня. Брызги крови иноходца перьями опахала раскинулись в стороны, коснувшись и вытоптанной травы, и лица Кончака. Конь молча подогнул передние ноги и лег на землю, сильнее насаживаясь на копье.
Кончак успел высвободиться от стремян и соскочить с седла. Свое копье он так и продолжал держать зажатым под мышкой, но недолго.
– Так нельзя, – проговорил хан негромко.
И, еще не закончив говорить, половецкий хан ударил как умел – сильно и точно.
Ударил туда, где княжеская кольчуга показала слабину и разошлась, открыв выбеленную полотняную рубаху, немного выпачканную, но пока целую.
Пока.
Стальное острие сначала раздвинуло переплетенные нити, только затем разрезав ближайшие из них. Выступившая кровь пропитала взлохматившиеся волокна, вскоре залив и стальные кольца кольчуги.
Князь выпустил поводья из рук и откинулся на седле назад, к конскому крупу. Не удержавшись на коне, он скользнул по шкуре коня головой вниз и упал, запутавшись червленым сапогом в стремени.
– Ваш князь, – сказал хан Кончак подбежавшим переяславским боярам, – кровью смыл оскорбление, нанесенное моему побратиму, князю Игорю Святославичу. Однако, – Кончак продолжал говорить, садясь на запасного коня, подведенного подоспевшими солтанами, – он смог оскорбить и мою честь… Так нельзя. Это достойно наказания!
Кончак отвернул коня и, сопровождаемый свитой из солтанов и оруженосцев, направился по направлению к лагерю. Ему сопутствовал торжествующий перестук шаманских бубнов, заглушивший песнопения христианских священников.
Сопровождали его и угрюмые взгляды переяславцев. Ясно было, что половцы уйдут, Кончак слишком разумен, чтобы пытаться взять штурмом укрепленный большой город, не подтянув осадные машины. Но никто не сомневался, что после предательского удара, нанесенного князем Владимиром, княжество поплатится сторицей, и где половцы нанесут удар, знали, видимо, только их духи.
О поражении и тяжких ранах Владимира Глебовича князья Святослав и Рюрик узнали на днепровской переправе. Гонец, выпрыгнувший из лодки перевозчика, был запылен и печален. Принявший от него грамоту князь Рюрик читал молча, ожесточенно догрызая ноготь на среднем пальце левой руки. Прочитав, так же молча протянул грамоту Святославу.
Престарелый князь не получил известий, каких не смог бы предсказать заранее. Не в меру горячий и упрямый переяславский князь – а каким же еще быть Мономашичу?! – трижды нарвался на копье Кончака и, пусть еще и живой, уже мог заказывать по себе поминальные службы, коли это церковь не посчитает кощунством. И то, что половцы после поединка отойдут от Переяслава, тоже было понятно. Знал Святослав и возможные пути отхода половцев в степь, надеялся их перехватить, если бы не князь Владимир…
Грех, Господи, но Святослав не отказался бы еще раз ударить копьем беспокойного переяславца. Подтолкнуть Кончака к мести, как будто на Руси мало было собственных тягот, – да, это надо было постараться!
Но самым плохим было иное. Кто, кроме Кончака, мог теперь сказать, куда путь держат половцы? Ты, Господи, знаешь все… Знаешь, но остаешься в своем всеведении молчаливым и таинственным. Оно и правильно, кто же откровенен с рабами и слугами, но обидно все же…
– Опоздали мы с переправой, брат, – сказал Святослав.
– Опоздали, – откликнулся Рюрик.
Но не только богам и духам известно будущее. Знал его и высокий тощий араб с безумными глазами, ехавший в окутанном пылью обозе Кончака. В своем видении, там, под стенами Путивля, он ясно расслышал название города, где непостижимым образом оказалась потерянная страница «Некрономикона».
Римов.
Город на берегу реки Сулы. Один из многих пограничных форпостов Киевского княжества, обзаведшийся за века своей истории торжищем и посадом. Где-то в его бревенчатых стенах лежал пожелтевший лист пергамена, и Аль-Хазред знал, что найдет его. Как – неизвестно, но найдет. Господин безумного араба, Неведомый бог, поможет и направит ноги своего раба в нужном направлении.
Остался пустяк, получить возможность для поисков, чтобы хозяева не возмущались по поводу бесцеремонного перетряхивания сундуков в подклетях. И поход Кончака, жаждавшего отмстить переяславскому князю за неразумный выпад копьем, был лучшим, что мог пожелать Абдул Аль-Хазред. Взятый на копье город оставался в распоряжении войска победителей не меньше чем на день, а безумный араб рассчитывал успеть до заката. И темные восточные глаза зловеще вспыхивали, подпитываясь мрачным нетерпением хозяина.
Посад Римова был обнесен невысокой, расползшейся от времени насыпью с редкими гнилыми кольями поверх нее. Ров перед насыпью, когда-то заполненный водой и непроходимый для конницы, высох по случаю летней жары, а ил потрескался и затвердел, превратившись из препятствия в удобную для степняков дорогу.
Кончак решил не медлить и нанес удар с ходу, пустив вперед легковооруженных лучников с зажигательными стрелами-шерширами. Вспыхивающая от пламени факелов пакля, закрепленная у наконечников шерширов, еще сильнее разгоралась в полете, и огонь сметливо и жадно перекидывался на городские стены, как только стрела находила цель. Огонь разумен – что больше и питательнее, жалкий прутик древка стрелы или добротное, просушенное за много лет бревно крепостного наката либо плашка крыши забрала стены?
Но, к недоумению половцев, жители Римова не собирались сдаваться на милость незваных гостей. Так бывает, что слабый и щуплый выходит в бой против могучего великана, чтобы победить и бросить под ноги передового отряда вражеского войска окровавленную голову еще недавно столь грозного соперника. Редко, конечно, бывает. Чаще случается закономерное и ожидаемое – смерть хилого наглеца под дружный гогот не только чужих, но и своих.
Но жизнь наша не что иное, как набор случайностей и нарушений канонов, не так ли, читатель? Если нет, то прости, не смею навязываться в твою компанию, где, наверное, одни везунчики да победители, не такие, как я, грешный.
Через провалы, которыми ощерился редкий частокол, – странное сочетание, но верное, что ж поделать! – по куманам Кончака прыснули стрелы. Римовские лучники били экономно, но тщательно, ссаживая с седел зазевавшихся и потерявших осторожность степняков. На погибших падали зажженные, но так и не выпущенные стрелы, и скоро из высохшего рва потянуло сладким смрадом подгорелого мяса.
– Назад! – закричал кто-то из солтанов, упредив хана.
И половцы, недовольно и рассерженно воя, повернули коней прочь от маленького, но злого города.
– Как назад? – растерялся Абдул Аль-Хазред.
Это противоречило его желаниям и, что куда хуже, – это шло вразрез с приказами его господина. А Старый Бог был хозяином требовательным и беспощадным.
Назвался слугой – выслуживайся, рабом – так работай.
И Аль-Хазред разомкнул узкие губы.
– Йяа Азатот! Тханг ффранг! Шлаамн Хастур инн-раав!
Слова всеми забытого языка лились легко, как впитанные с молоком матери. Отвердевая, они сплетались с ветром и водой, травой и ветвями деревьев. С ними оживали древние боги, и слово становилось богом, а бог напитывался энергией слова.
– Обходи посад! – крикнул Кончак, для наглядности махнув в нужную сторону рукой. – К надвратной башне! У них не может быть много лучников, там безопаснее!
Надвратная башня Римова была низкой и потемневшей от времени и непогоды. Покосившиеся ворота, разумеется, оказались заперты, но видно было, что они готовы раствориться от первого же доброго удара, и не тарана даже – ноги. Городницы – деревянные срубы, заполненные землей, которые простецкие жители Римова искренне считали городскими стенами, проросли во многих местах травой, об обмазке бревен известью либо глиной и речи не было. Огню с половецких шерширов было где разгуляться.
Удары наконечников стрел о дерево зачастили, как шаманская колотушка по бубну. Пламя занялось у ворот сразу в нескольких местах, и редкие защитники города не могли залить пожар, страдая от вонючего чада и в не меньшей степени от прицельной стрельбы куманов.
– К воротам! – прогремел голос Кончака.
И сам хан, подавая пример, спешился и побежал к надвратной башне, размахивая палицей. За ним хлынули солтаны и простые воины, кто с булавой, кто с боевым топором, а кто и просто с саблей, совершенно бессмысленной в схватке с деревом. Оставшиеся в седлах участили стрельбу, не столько целясь, сколько заливая защитников города потоком стрел.
Но город пал раньше, чем его ворота.
У городницы по правую сторону от башни на миг сгустился воздух, полыхнул алым, словно в кузнечной кринице, и тяжестью стального молота обрушился на покосившиеся срубы. Бревна, не выдержав удара, раскололись с визгливым хрустом, разметав во все стороны острые обломки и покалеченных защитников. Земля изнутри стен на миг взметнулась кверху грязным персидским ковром, чтобы рухнуть вниз и засыпать жертв катастрофы тонким слоем, явно недостаточным для погребения.
Половецкий лучник с недоумением рассматривал свое оружие. Его напарник, оскалив желтоватые неровные зубы, цветом совпадавшие с редкими усами, робко пробивавшимися над верхней губой, продолжил мысль:
– Один выстрел – и стена рухнула! А ну-ка, давай еще!
– А вот, погляди!
Шершир занялся от факела и полетел по левую сторону от башни. И, словно в насмешку, там вновь сгустился алый воздух, и вторая городница с шумом и пылью повторила судьбу товарки.
– Тэнгри великий!
Напарник лучника больше не смеялся.
В «Семи сокровенных книгах Хсана» Аль-Хазред прочел однажды, какой ценой приходится расплачиваться за помощь древних богов. Телесные муки и посмертное проклятие были в том списке в самом начале, как знак благоволения судьбы. Но араб не боялся. И не потому, что был безумен и не мог оценить происходящее, как нормальный человек. Просто рабу Безымянного бога, восстановленному буквально из собственного пепла, бояться было нечего.
Отсутствие страха усиливает требовательность.
Аль-Хазред не довольствовался тем, что древние боги расчистили ему путь в город, где хранилась главная страница магического «Некрономикона», дарующая власть над главными заклинаниями, записанными кровью по коже, содранной со спины раба-смертника. Араб хотел, чтобы его навели прямо на нынешнего хозяина листка, за которым он охотился много лет.
Чересчур много.
Но боги снова пришли на помощь своему рабу. Что делать, раз на кон ставятся не стертые желтые кругляшки с деформированными расплывчатыми изображениями и надписями. Ставка в игре, затеянной судьбой над богами, была выше. Помнишь, читатель, боги тоже смертны… А как же не хочется умирать тому, кто прикоснулся к вечности!
В грядущей битве, как и в любой другой, основной удар нанесут не господа, но слуги. В том долг оруженосца, гридня, младшего дружинника – выйти в поле и сразиться с противником раньше, чем это соизволит господин – рыцарь, витязь, боярин, солтан, как ни назови.
Кто же победит? Облаченные в темное рабы Распятого? Украшенные бахромой и амулетами шаманы Тэнгри-Неба? Одетые в расшитые по вороту и подолу рубахи жрецы языческих богов? Или все же мрачный тощий араб с безумным блеском в глазах, алчно глядящий на рухнувшие стены приграничного русского города Римов?
Итаква и Йог-Соттот, Ктулху и Шуб-Ниггурат – все они объединились, чтобы в грядущей битве выиграл Неведомый. Пусть само имя его оказалось забыто в далеком прошлом, пусть облик его неведом даже самым фанатичным из последователей… Но вернуть могущество древних было больше некому. Только той силе, что шла из маленького приморского городка, пропитанного в последнее время не только прилипчивыми запахами протухшей рыбы, но и миазмами жертвенной крови, вскипевшей на пламени светильников, окруживших жертвенники.
Город был оставлен на милость победителей. Уцелевшие после первого удара половцев жители, бросив все, бежали через Закатные ворота к Римовскому болоту. Для местных топь была проходима и неопасна, однако Кончак не собирался рисковать и губить конницу в незнакомой местности.
Что в этом толку? Можно, конечно, поживиться бедными украшениями – откуда в приграничье богатство? – и при этом погубить воинов, каждый из которых для половецкого хана дороже всех богатств Римова.
Правы древние мудрецы. Действие порождает глупость, жадный – беднеет.
А город? Что – город?
Нет больше того города, к которому день назад подошло половецкое войско. Есть грабеж, быстрый и профессиональный; есть, да и будут, будут еще, пожары, объедающие все больше и больше городских строений, есть трупы горожан, не успевших или же не захотевших бежать от торжествующего победителя…
Раз есть пожар и трупы – нет города!
Он еще будет, вернутся уцелевшие с болот, отстроят детинец да посад, разобьют огороды, обрастут нехитрым имуществом. И все же не тот будет Римов, совсем не тот! Так и люди – похожи бывают, как близнецы, но характер, поведение, что у козла с капустой. Близость есть, но лишь до первого укуса.
Среди грабивших город араб в потертом выцветшем халате был незаметен и, если так можно говорить о воре, скромен. Он проходил мимо вещей, разбросанных по пыльным улочкам, брошенных половцами, нагрузившимися добычей сверх меры. Конь Аль-Хазреда, послушно трусивший вслед за хозяином, не был отягощен раздувшимися седельными сумами, и несчастный вид скакуна объяснялся чем-то иным, нежели избыточный груз.
Араб шел, погруженный в себя. Он не знал, что и как его вело, да и не задумывался об этом. Ему было достаточно того, что ноги сами собой поворачивали на каких-то улочках, пропуская широкие проходы с богатыми домами, сулившими не только добычу, но и многочисленных конкурентов.
Араб шел к цели, несравнимо более ценной, чем жалкое золото или ткани, которые неминуемо сгниют. Чуть раньше, чуть позднее, но наверняка.
И араб вышел, куда хотел.
Ворота дома были выбиты и валялись во дворе, по которому в ужасе носились куры, считавшие в своей гордыне, что за ними-то и пришли враги. Хозяев не было, очевидно, они оказались достаточно благоразумны, чтобы вовремя бежать.
В доме не было и вещей, достойных внимания грабителя. Какая-то рухлядь, битые черепки, противно хрустящие под каблуками сапог Аль-Хазреда, расколотая деревянная чаша…
Что там, под ней?
Аль-Хазред откинул носком сапога обломки чаши, посмотрел на глинобитный пол, улыбнулся.
Нашел.
Нашел.
Улыбка на мертвом пожелтевшем лице была страшнее, чем ухмылка на черепе.
Ночью в Тмутаракани кипела чуждая для нормального человека жизнь.
Тяжелые каменные плиты, поставленные створками ворот отреставрированного святилища, еще хранили христианские символы, так как были выломаны из храма священника Чурилы. И сохранившиеся на кусках фресок лики святых с ужасом и презрением смотрели немигающими глазами на тянувшихся к языческим алтарям горожане, еще недавно бывших усердными прихожанами христианского дома молений.
Неверный свет факелов выхватывал из темноты застывшие лица мужчин и женщин, стариков и детей, шедших, затаив дыхание, к камням, где все время лилась кровь, не успевая застывать.
Человеческая кровь.
И никто не знал, чья грудь будет рассечена на алтаре в следующий миг. Отбросив на пол жертву, тут же выносимую молчаливыми служителями, один из жрецов устремлял покрасневшие от напряжения глаза на столпившееся перед ним человеческое стадо и окровавленной рукой указывал на нового избранника. И отец безропотно выпускал руку дочери, жена отшатывалась от мужа.
Трещали факелы, хрипела в последние мгновения жизни жертва.
Толпа молчала.
Их убивали – они терпели.
И над этой мерзостью возвышалась бесформенная статуя, доставшаяся Тмутаракани из далекого прошлого.
Статуя, внутри которой зарождалась жизнь, чуждая всему живому.
Что только не порождала Мать Земля…
9. Снова Тмутаракань
Лето 1185 года
– Вы заметили, что в городе стало меньше людей?
Священник Чурила шел за Миронегом, неловко подволакивая ноги. Он не привык много ходить по неровной дороге, избалованный прохладной каменной гладью плит пола храма, ныне оскверненного возродившимися язычниками.
– Если так пойдет дальше, – Чурила говорил, не дожидаясь реакции Миронега, – то жители Тмутаракани перебьют друг друга…
– И что? – Хранильник остановился и посмотрел в глаза священнику. – Нам присущ страх смерти, и убийство для многих хорошее лекарство от собственных страхов.
– Вы не любите людей.
– Я?! Наверно… Любовь – чувство прекрасное, но… нелепое, что ли… Потеря разума, отсутствия способности к самооценке и восприятию любого человека в истинном свете. Я бы не смог излечить ту, кого люблю…
– А вы любили?
– Я видел любовь… Со стороны – красиво, но мне бы не понравилось… Излишне нервно… И кроме того, мне кажется, что любовь – это одна из разновидностей стремления к смерти.
– Любовь приводит к браку, он же порождает новую жизнь.
– И так бывает, не спорю. Но видел я и иное, как чувство сводило людей с ума, а кого и лишало жизни. Хочешь послушать одну историю?
Чурила, заинтригованный, ведь не часто Миронег произносил больше одного предложения кряду, кивнул.
– Это случилось несколько лет назад, я жил тогда в Торжке, – начал Миронег. – В городе, в семье богатого купца, жила прелестная девушка, чистая и невинная. Ее, в отличие от подруг, мало интересовали хороводы у костра, посиделки в светлицах с неминуемыми пересудами и сплетнями… Украшения ценились не за вес золота и величину драгоценных камней, но за красоту формы и искусство создателя.
В нее влюблялись, но красавицу это мало трогало. И не оттого, что у нее было злое сердце, просто она еще не проснулась для любви. А может, ее хранила до поры до времени судьба, ведь среди искавших ее внимания были поклонники красоты, но были, и куда чаще, те, кому была дорога не столько она сама, сколько денежный сундук ее отца.
Однажды свершилось, и ее полюбили не за внешность и не за богатство – за душу и непорочность… Новый поклонник был чужаком. Франк или немец, сейчас не важно… Он понимал, что чувству не время, следует ждать, пока девушка созреет душой, а не телом настолько, что станет готова к браку.
Миронег замолчал. Чурила спросил:
– Что же дальше?
– Дальше? А дальше она умерла, – проговорил Миронег. – Не физически, нет, здесь все было нормально, она росла, расцветая на радость родителям. Просто она поменялась… Иные интересы, иные нравы. На смену невинному ребенку пришла взрослая женщина, для нее зов плоти и цена одежды и украшений стали дороже, чем задушевные беседы под луной или любование прихотливыми завитками серебряного браслета.
– Вы называете это смертью?
– А как еще? Изменилось тело – от девичьей угловатости к округлым формам зрелой женщины, изменилось поведение – даже вам, священникам, должно быть ведомо, как меняется девушка, став женщиной, изменилась душа… Похожие люди – разные люди, и та, что покорила сердце франка, уже не существовала, следовательно, умерла…
– У вас странная логика, но я и пытаться не буду спорить.
– Боитесь проиграть спор?
– Боюсь, что не смогу убедить вас в существовании иной точки зрения.
– Отчего же?.. Знаете, кстати, чем все закончилось? Франк, разочаровавшись в избраннице, ушел в запой, словно заразившись нашей народной бедой. А когда протрезвел, то узнал, что она просватана за другого, куда менее требовательного. Франк уехал на родину, через год вернулся и, на всеобщую беду, решил навестить так и не забытую любимую. Она встретила франка уже на сносях, поблекшая – беременность красит далеко не каждую… Говорила с незваным гостем о пирах и гостях, о новых сарафанах и припасах в подклетях. И с каждым словом франк все больше впадал в ярость, видя, как низко пала его любовь, что была для него когда-то всем. Он выхватил меч и зарубил чужую жену, потом бросился на окровавленный клинок, но выжил. Хотя только для того, чтобы склонить голову под топор княжеского палача. Перед казнью я и познакомился с этим человеком, меня позвали продлить его часы, чтобы он успел рассказать свою историю.
– Страшная история и страшная любовь… Как звали этого несчастного?
– Франка? Не помню точно… Гумберт, кажется… Точно – купец Гумберт.
– Страшная история, – повторил Чурила-Кирилл.
– Есть иная? – хмыкнул Миронег, снова погружаясь в привычное для себя состояние немногословия.
– Должна быть, – ответил священник, стараясь поспеть за Миронегом.
– С такими людьми, как мы? С нашим двуличием и жестокостью? При таком равнодушии и бессердечии по отношению к самым близким? Не должна…
– Не нам судить о промысле Божьем.
– А кому же, если не нам?
Так, за разговором, пустым, но занятным для обоих собеседников, Миронег и Кирилл дошли до своей цели.
Языческое капище темной громадой высилось перед ними, подавляя злобным величием. От мощного портала веяло угрозой. Миронег сразу вспомнил стены избы, виденной им в вятичских лесах, жилья богини, даже в мыслях называемой хранильником не иначе как Хозяйкой. Говорящий череп, последнее время присмиревший и переставший болтать по любому поводу, словно перенявший характер нового владельца, – голова, сменившая хозяина, как это чудно! – зашевелился в перекинутой через плечо суме, прошептал ехидно:
– Боишься, хранильник?
– Боюсь, – не стал спорить Миронег. – Вспомнил стены твоего жилища – с зубами…
ЛЮДИ ПУГЛИВЫ
А это уже не голос черепа, это сама Хозяйка решила вторгнуться в мысли Миронега. Так же, мысленно, хранильник заметил:
«Такими нас сделали боги по своему образу и подобию».
ДЕРЗИШЬ
«Размышляю».
ДЕРЗИШЬ И ИДЕШЬ К СМЕРТИ
«Надеюсь, что нет, богиня. Я еще хочу увидеть тебя».
УМРЕШЬ, ТАК И УВИДИШЬ
«Дерзишь».
Череп больно ударил Миронега через суму в бок, видимо, это и был ответ богини.
Что поделать – женщины обидчивы.
Днем в святилище службы не шли и жертвы не приносились. Поэтому в первом из залов, лишенном крыши и украшений, с кривыми, наспех выложенными стенами из камней разного размера, никого не было. Только плотно утоптанная земля, заменявшая настил пола, подсказывала, что помещение посещаемо, и часто.
Миронег, оглядевшись, только покачал головой. Кирилл перекрестился.
– Чудны, Господи, дела твои, – проговорил он. – Как только допускаешь подобное? Но не нам понять волю твою…
– Да уж, не нам… Кому вот только?.. Идем дальше, служитель Распятого!
Но дальше им пройти было не суждено. Сколоченные из грубо обработанных досок двери, затворившие проход в следующий зал святилища, оказались заперты. На призывный стук изнутри послышались неспешные шаги, и вскоре одна из дверей приоткрылась, и в образовавшейся щели проявилось недовольное лицо служителя.
– Что надо? – осведомился не человек, а губы на его лице.
– Можно пройти? – спросил Миронег.
– Можно, – ответило лицо, – но не сейчас. Моление будет на закате, тогда и приходите, а сейчас возвращайтесь, откуда пришли.
Священник Кирилл вздрогнул, услышав из уст служителя нечестивого языческого капища слово «моление», но счел за благо промолчать. Смолчал и Миронег. Он просто развернулся и пошел прочь, к выходу.
– Вы заметили лучников на стенах? – спросил хранильник, оставив за спиной портал святилища.
– Каких лучников? – не понял Кирилл.
– Ромейских, кажется, а может, и местных, доспехов особо видно не было. А за служителем, через щель в воротах, я разглядел стену сторожки, а в ней – копейщики, числом не меньше десятка.
– Я никого не видел…
– А я видел связку копий, приставленную к стене.
У Миронега было много талантов. Оказывается, к их числу принадлежало и умение соглядатая.
– Уж не собрались ли вы штурмовать святилище?
– С кем? Да и как? Я не воин, а лекарь.
– Ой ли? – не поверил священник.
– Скажем – не только лекарь… Но и не воин. Сила моя в ином, ею и воспользуюсь.
– Меня возьмете?
– Зачем? Померяться силами с тем, в кого вы не верите?
– Господь победил лукавого, но не уничтожил, проверяя крепость нашей веры. Настал мой черед – не усомниться и не поддаться на искушения.
– Погибнуть за веру? Странный обычай!
Кирилл понял, что Миронег не возражает.
Тмутаракань, днем безлюдная и притихшая, вечером оживала. Затянутое облаками небо темнело по-летнему быстро, и все чаще на улицах были видны тени людей, освещавших свой путь мерцающими сполохами факелов. Ближе к святилищу люди множились, огни становились ярче, а голоса звучали все громче и бессмысленней.
Миронег и Кирилл, закутавшиеся по причине ночного холода в темные плотные плащи, смешались со стремящейся во внутренние помещения святилища толпой. Хранильник, завидев переодевшегося священника, решил сначала, что Кирилл не в себе, раз нацепил рясу, но быстро разобрался, что ошибся, – под плащом была простая длинная рубаха и порты, заправленные в низкие сапоги.
Хранильник не заметил, что под рубахой на суровой нити висел тяжелый серебряный крест, с которым Кирилл не расставался никогда.
Толпа двигалась безмолвно, и только звук шагов и позвякивание украшений, смешиваясь с треском факелов, сопровождали идущих к алтарям для жертвоприношений.
Двери во внутреннем дворе на сей раз оказались распахнуты настежь, и паломники втягивались внутрь, как жало в пасть змеи. Там, у алтаря, оказались и Миронег со священником.
Первую жертву жрецы Неведомого бога привели с собой из внутренних помещений недавно выстроенного храма. Это был мальчик лет восьми, тоненький и жалкий, покрывшийся мурашками от холода. Несвежая набедренная повязка, бывшая его единственной одеждой, не спасала от пронизывающего ветра.
Тем более от ужаса перед неизбежным.
Ведь мальчик знал, что его скоро убьют.
Кирилл вздрогнул, увидев, как жрецы выводят слабо упирающуюся жертву. Миронег незаметно для окружающих сжал руку священника, прошептав:
– Ни слова! Иначе…
– Понимаю, – проговорил в ответ Кирилл.
Мальчика бросили на каменный алтарь, при этом сильно ударив головой. Возможно, так проявилось своеобразное милосердие жрецов. Потерявшая сознание жертва ничего не почувствует, и смерть станет легкой и безболезненной.
Укол каменным ножом в шею заставил содрогнуться маленькое тельце, грудь мальчика выгнулась кверху, и тотчас последовал мощный удар, рассекший мышцы меж ребер у сердца. Еще надрез, сильнее, и рванувшийся вверх фонтан крови окропил сначала жреца, а затем и камень алтаря.
Кирилл зажмурился. Ему хотелось броситься к алтарю, разметать убийц, выдающих себя за служителей бога, ложного, конечно же, но священник остался на месте, потому что понимал, что испортит все планы Миронега. Хранильник что-то задумал, он не стал бы стремиться сюда просто из любопытства.
– Потерпи, – услышал Кирилл шепот Миронега, – скоро все закончится, я чувствую…