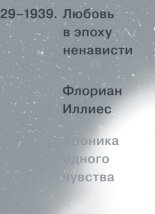Ловец бабочек. Мотыльки Демина Карина

…сказывал, и про девок трех, которые были-были, а после взяли и сгинули. И мыслится, что куда больше их сгинуло, чем три. Кто ж лореток считает, особенно, когда они – полные шмары…
…про то, как Хрипша на вокзалу ходит, выискивая девок приезжих…
…сама-то Хрипша собой хороша, толстая и в бархатах, на плечи шальку цветастую повесит с бахромой, на волосья шарф накрутит, что кубло гадючье, перчаточки белые, сапожки красные. И вправду купчиха. Приезжие-то робеют, когда заговаривает, мол, сразу-то девка глянулась, а в доме руки нужны свободные, и обещает им жизню такую, что девки-дуры про всю материну науку забывают. Идут за Хрипшей.
Куда?
А на малину… у ней домов-то несколько, то в одном, то в другом веселие с торгами. Эта, как его, аукциона, на которой новых девок за рыжье продают. Васька одного разу заглянул, когда при фарте был, но ушел. Почему? Не, карманы у него тем вечером звенели, да только не по нраву: девки рыдают, мужики хохочут… противно.
…только сказывала Хрипша, что еще одна сводня в городе объявилась, мол, перебивает. Пара девок от места отказались, дескать, уже сговорены, а оно понятно, что с такими сговариваться никто не будет. А главное, что из аристократов[8] никто ни сном, ни духом про новую-то малину… от и выходит…
Чудовище слушало превнимательно, как жрец на покаянии.
И Васька вдруг понял, что и вправду кается…
Матушка вспомнилась, и что была она своднею, что сама от так искала новеньких, пусть после и клялася, что никого-де не принуждала, сами девки летели на легкую работу, да…
…коль кривая у Васьки жизня, может, с проклятия?
…и надобно грехи отмаливать, егоные и материны…
– А скажи-ка, – чудище ткнуло пальцем в плечо, – друг мой случайный, а не встречался ли тебе один человечек…
Панну Ошуйскую привела в сознание вода.
Холодная вода, отчетливо пованивающая болотом. Стало быть поганка-горничная вновь поленилась сменить ее в вазах, просто цветы переставила. Панна Ошуйская так возмутилась, что села и лицо отерла… глянула на руки и завыла от тоски… как она могла забыть? Как?!
– Дорогая, – супруг с опустевшей вазой стоял подле, – все в порядке?
Нет! Не в порядке! И никогда уж не будет… это только представить… невозможно… чтобы в тот единственный раз, когда провидение ниспослало панне Ошуйской этакий шанс на личное счастье – пусть она и не собиралась им пользоваться, но все же – она встретила оное счастье в подобном неподобающем виде! А все панна Кулякова с ее экспериментами…
Слезы текли из глаз, и панна Ошуйская размазывала их и еще злополучную маску, которая была призвана отбелить лицо и придать коже фарфоровое сияние. Во всяком случае панна Кулякова утверждала, что именно эта чудодейственная смесь – два злотня за крохотную баночку, между прочим – сотворила с нею чудо. Поелику чудо панна Ошуйская лицезрела воочию – прежде-то у панны Куляковой кожа была дурна, ноздревата и с угрями, которые не получалось запудрить – то и рискнула приобресть.
Намазалась перед сном.
Легла и… и забыла…
Забыла!
– Я… – она всхлипнула и, отстранивши руку мужа, поднялась. Мокрая ночная рубашка бесстыдно прилипла к телу, волосы растрепались, а в зеркале, которое панна Ошуйская вытащила из короба с альбомами, на нее взирало чудище.
Узкое лицо.
Кожа в каких-то белесых разводах.
А глаза черные, запавшие…
И уронив зеркало, панна Ошуйская разрыдалась… он видел ее такой! Он… да как он посмел!
– Может, за доктором послать? – нерешительно поинтересовался супруг и, поднявши кочергу, чуть тише добавил. – Или за полицией?
– Н-не надо…
– Чего не надо?
– П-полиции… он приходил ко мне?
– Кто? – кочерга описала полукруг, сбив с каминной полочки последнюю уцелевшую статуэтку.
– У-упырь…
– Какой упырь?
Нет, пан Ошуйский не был ревнив. Человек разумный, он прекрасно понимал разницу между пустым женским кокетством, до которого была охоча хрупкая его жена, и изменой.
Он верил ей.
А тут упырь посреди ночи…
– Я… – она заломила руки. – Я знаю, что он тайно влюблен в меня… и пришел за мной…
…лепет жены был безумен, но как ни странно, это безумие успокаивало.
Упырь? Пускай себе… лучше упырь, чем какой-нибудь щеголоватый офицерик, до которых так охочи дамочки…
– И вот, я знаю, что он пришел забрать меня… защитить меня от этого… того… – панна Ошуйская указала пальчиком на короб с драгоценными альбомами, – которых покусился… и он бы тебя убил.
– Не убил, – пан Ошуйский потер шею.
Вся эта история выглядела на редкость дурацкою. И теперь мысль позвать полицию больше не казалась удачной. Что он им скажет?
Про вора?
Про упыря, который оного вора уволок?
Или про нервическое расстройство супруги, которой мерещились то воры, то упыри, то еще какая блажь?
– А хочешь? – он вытер заплаканное лицо ошметком дорогой гардины, – мы тебе гарнитур купим новый? Топазовый?
– Да? – в глазах ее мелькнула искра интереса, но впрочем, быстро погасла.
Разве какой-то гарнитур мог спасти ее от позора?
– Или… – пан Ошуйский призадумался. – Или вот книгу издадим? С твоими стихами?
Он прикинул, что выйдет сие даже дешевле топазового гарнитуру.
– К-книгу? – тихо переспросила панна Ошуйская, светлея лицом.
– Книгу. На хорошей бумаге, этаким дамским альбомом… картинок там побольше… – пан Ошуйский погладил супругу по волосам, а руку тихонько вытер о ночную сорочку. Волосы панна Ошуйская натерла смесью из касторового масла и барсучьего жира, для росту и блеска, о чем в порыве вдохновения успела позабыть.
Напоминать об этой мелочи пан Ошуйский не стал.
– Тогда… – она еще раз всхлипнула и прижалась к мужу, который, во-первых, был рядом, в отличие от всяких там упырей, убоявшихся такой безделицы, как маска для лица, во-вторых, был теплым, а из окна сквозило. – Тогда мне нужно будет отобрать лучшие из творений… или вот… я решила написать поэму!
– Напиши…
– Чтоб про любовь… а еще про то, как она ему призналась в любви, но он ее отверг… и потом, годы спустя, встретил вновь и пожалел, понял, что всегда любил ее и только ее…
Пан Ошуйский только вздохнул.
…а все одно дешевле гарнитуру выйдет. И жене в радость. Что еще надобно?
Разве что окно застеклить.
Глава 7. В которой неожиданно воскресает чужая любовь
А счастье было так возможно. И так возможно. И вот так…
…размышления о жизни и творчестве пана Пискунчика, уездного живописца и большого сластолюбца, что весьма огорчало честную его супругу, женщину крайне строгих правил и крепких кулаков.
Домой Себастьян вернулся ближе к рассвету.
Он был бодр.
Зол.
И весел, хотя для веселья, если разобраться, не было ни малейшего поводу. Взлетевши по стене – крылья только хлопнули, помогая удержать равновесие, он забрался на балкончик, а уж с него – в комнату, надеясь все ж на пару часов здорового и крепкого сна.
Он, содравши ошметки рубашки, скинув изгвазданные ботинки, которые вряд ли подлежали восстановлению, рухнул в постель, чтобы…
…визг оглушил.
А чувствительный пинок по ребрам заставил задуматься, в ту ли постель он рухнул.
– Ты… – Ольгерда выдохнула. – Иржена милосердная, это ты…
– Я, – Себастьян дернул одеяло. – Всего-навсего…
Одеяло не отдали.
Ольгерда решительно натянула его по самую шею и недовольно произнесла:
– Между прочим, у тебя прохладно. Не понимаю, почему ты ютишься в этой убогой квартирке, неужели нельзя найти что получше?
– Между прочим, я тебя не приглашал.
Она надула губки и приспустила одеяло, показав округлое плечико с полоской алого кружева.
– Ты еще дуешься?
– Ольгерда…
– Я понимаю, ты приревновал меня, – она опустила одеяло еще ниже. Кружева стало больше.
Надо же, это Себастьян еще не видел.
– Но пойми, он для меня ничего не значит… меня огорчили наша ссора и твоя холодность… и тут этот купец… и конечно, я подумала, что…
– Что не стоит упускать подходящий случай?
Она фыркнула и, бросив одеяло – вид на бюст и алое кружево был чудесен, но Себастьян слишком устал, чтобы и вправду впечатлиться.
Он забрался на кровать и лег, скрестивши руки на груди.
Ольгерда молчала.
И молчала.
И молчание становилось все более напряженным.
– Что ты делаешь? – нервно поинтересовалась она, вовсе скидывая одеяло.
И ножку поверх него положила, в чулочке алом. С подвязочкой.
Себастьяна, впрочем, в данный конкретный момент куда больше интересовала не подвязочка с чулочком, и не ножка, но нагретое Ольгердой одеяло, которое он, улучив момент, и утащил, чтобы завернуться в него, словно в кокон.
– Себастьян!
– Сплю я, – ответил он, не открывая глаз.
– Сейчас?
– Ага…
– Я к тебе пришла, а ты… ты спишь?
– Я тебя, к слову, не звал…
Ольгерда засопела. Выразительно так засопела, испытывая преогромное желание ткнуть это черствое существо каблуком…
– Кстати, – существо приоткрыло глаз, – обувь обычно снимают…
– Это особые туфли, – Ольгерда вытянул ножку и провела пальчиком по золотистому узору на чулке. – Разве тебе не нравятся.
Тонкий каблучок блеснул в лунном свете. Кованый носочек… этаким и ребро, пиная, проломить недолго.
– Нет, – Себастьян повернулся на бок. – Мне сейчас подушка нравится.
– Не будь букой, – Ольгерда прижалась к ватному кокону и сделала попытку его обнять. – Себастьянушка…
Она дыхнула духами в самое ухо, отчего стало щекотно и еще неприятно.
И Себастьян вынужден был признать – спать ему не позволят.
Он сел.
Подтянул повыше одеяло, потому что чешуя чешуей, а замерз за эту ночь он изрядно. И хорош будет, если насморка подхватит…
– Ольгерда, – Себастьян убрал тонкую ручку, которая потянулась было к шее, и от поцелуя увернулся. – А давай ты сделаешь вид, что тебя здесь нет?
– Но я есть…
Вот же настырная… соблазнительница. На живот прилегла, зад оттопырила, показывая, что и кругл он, и прекрасен…
– Именно. Ты есть. А быть тебя не должно. И мне вот крайне любопытно, каким таким образом ты здесь оказалась… и главное, зачем?
Ольгерде хотелось устроить скандал.
И не просто скандал, нет, этот стал бы самым ярким из всех, которые когда-либо видело это жалкое жилище… и жалкий нелюдь, который вместо того, чтобы вести себя, как подобает нормальному мужику – наглому и постоянно озабоченному – закрутился в одеяло и теперь взирал на Ольгерду с немым упреком в очах. Она от этого взгляду разом начинала чувствовать себя подлою развратительницей, жаждущей едино добраться до трепетной невинной плоти.
И ладно бы…
Той плоти – полтора пуда ребер да шкура жесткая, но… ценить же надо женский подвиг! А подвиг она и совершила, пробираясь тайком через черный ход.
Амулет отвода глаз.
И крепкого сна для старухи, которая была слишком уж любопытна. И еще один, известного назначения, пристроенный в изголовье кровати. Правда этот, похоже, не действовал. Набрасываться на Ольгерду князь не спешил. И вовсе не спешил.
Сидел.
Глазел.
А потом и вовсе зевнул, скотина…
…нет, будь ее воля, Ольгерда бы…
…воли не было.
Пока.
– Себастьянушка, – она прижалась к одеялу, чувствуя себя на редкость глупо. – Я так по тебе скучала… я… ты не поверишь, но я поняла, что все, что было раньше, это… это пустое… моя жизнь пуста без тебя…
Она всхлипнула и пустила слезу.
И еще одну.
Но слезы хвостатую сволочь не разжалобили.
– Я… я понимаю, ты злишься… я виновата… боги, я так виновата… – и руки прижать к трепещущей груди. Я люблю тебя…
– А я тебя нет, – сонно ответил Себастьян.
– Не важно! – Ольгерда не собиралась отступать. Не здесь. Не сейчас. – Моей любви хватит…
– На что?
…как он дожил-то до этаких лет? Его хотелось и отравить, и удушить, и еще поглумиться над телом. Ольгерда сделала глубокий вдох.
– Я понимаю, что ты не хочешь связывать себя узами брака… не надо… мы оба взрослые современные люди… к чему эти буржуазные пережитки…
– Эк тебя припекло-то…
Ольгерда постаралась выбросить эту фразу из головы.
– Мы можем быть счастливы вместе…
Князь испустил тяжкий вздох. И открывши оба глаза – на миг показалось, знает он все распрекрасно, и про нее, и про братца драгоценного, которому недолго осталось, но пока осталось, Ольгерде приходится выполнять его капризы, – уставился на Ольгерду.
Смотрел он долго.
Нет, не раздевая, будто вовсе не замечая ни ее наготы, ни шелкового белья, наготу эту подчеркивавшего. Он смотрел… с укоризной?
– Ольгерда, – наконец, произнес Себастьян. – Ты переигрываешь.
– Сильно? – она вдруг явственно осознала, что ничего-то не получится.
И разозлилась.
На Себастьяна… на братца ненавистного, которому Себастьян вдруг понадобился… и на себя тоже за неспособность отделаться от мужчин… а потом злость ушла.
А ведь и вправду…
…нет, сегодня же…
…она уйдет. И вернувшись к себе, скажет, что ничего не получилось… а вздумай он руки распускать,… что ж, среди ее поклонников всякие имеются, достаточно намекнуть, и исчезнет дорогой брат, словно его и не было… и странно даже, что это, вполне себе логическое решение старой проблемы, ей прежде не приходило в голову.
А потом… потом она уедет.
Куда?
Куда-нибудь, лишь бы подальше от этого серого унылого городка с его закостеневшими жителями, старыми сплетнями и старыми же сплетницами… а может… Порфирий с горя запил, но тем лучше… он оправится и… он нехорош собой, лишен всякой изящности и неманерен, похож на медведя-шатуна, зато просто-таки неприлично богат, и денег его хватит, чтобы примириться с недостатками.
– Изрядно, – признался Себастьян и, вновь зевнув, – вот же сволочь, знает, что теперь и Ольгерду зевать потянуло, поинтересовался. – Чего ты на самом деле хочешь?
– Свободы. И денег.
– А я при чем?
– В принципе, не при чем, но… меня родственник попросил, – приняв решение, Ольгерда не без удовольствия избавилась от маски. Если бы кто знал, как ее утомили эти маски. – Побыть рядом, приглядеться…
– Родственник, значит… приглядеться… и давно ты приглядываешься?
А вот теперь он разозлился.
Ишь, как глаза блеснули. И выражение лица… почти не изменилось, но той малости хватило, чтобы осознать – оскорблен.
Самолюбив, как все мужики.
– Да нет… сначала мне было самой интересно… столько разговоров… как же… в нашей-то глуши и холостой князь собственною персоной, как было не взглянуть… Если хочешь знать, твою шкуру начали делить задолго до твоего здесь появления, – Ольгерда фыркнула и, стянув туфельку, швырнула ее в угол. Спать в туфлях и вправду было на редкость неудобно, каблуки так и норовили за простынь зацепиться и оную простынь продрать. – И мне захотелось позлить всех этих… благопристойных клуш. И да, я честолюбива, мне захотелось стать княжной, чтобы те, кто еще недавно от меня носы свои воротили, кланялись… и вообще…
Вторая туфля отправилась следом за первой, едва не снеся древнюю вазу со столь же древнего столика.
– Если тебя утешит, то… ты мне нравился. Сперва.
– А потом?
– А потом… потом… ты не походил на князя.
– Это еще почему?
Он и в самом деле не понимает? Или очередная игра… хотя какая разница? Раз уж начала этот разговор, то и продолжить стоит. Давно уж Ольгерда не разговаривала откровенно. Или совсем никогда не разговаривала откровенно? Главное, что сейчас собственные признания, изливавшиеся легко, будто освобождали ее.
– Почему… потому что князья другие… они если и служат, то уж точно не пропадают на службе днями и ночами. Они являются в присутствие и с них того довольно. Они не снимают комнаты у безумных старух, не избегают общества… и балуют своих женщин…
– Ясно. Разочаровал.
– Не без того. Я уж думала разорвать наши отношения. Пойми меня правильно, ты интересный мужчина, но одним ангажементом сыт не будешь. А предложение делать ты не спешил. И вовсе начал ко мне остывать. Женщины это чувствуют, так что…
– Прости.
– Ничего страшного… мы бы просто разошлись, но появился мой братец, – она аккуратно скатала чулок. Пригодится. Небось, Порфирий – не князь, кобенится, заставши в постели почти обнаженную красавицу, не станет. – И попросил меня не расставаться…
– И ты послушала?
– Он был настойчив, да и… – Ольгерда прикусила губу, чтобы не сболтнуть лишнего. – Как не помочь родственнику?
– И что твоему родственнику было нужно?
– Ничего особенного… поверь, государственные тайны его интересовали мало. Узнать, берешь ли ты взятки, от кого и сколько… он не хотел верить, что ты не берешь… дело с контрабандой… он, полагаю, с нею подвизается, а ты ввел новые порядки…
Себастьян молчал.
– Он игрок… и деньги ему нужны постоянно, поэтому… иногда у меня занимает, но я вовсе не так богата, чтобы содержать мужчину. У меня и себя-то содержать выходит с трудом… ты не представляешь, во что обходится красота…
Чулками Ольгерда швыряться не стала.
Легла и за край одеяла дернула. Шелка шелками, но старуха, кажется, вовсе не знала о существовании каминов.
Себастьян подвинулся. И одеяло отбирать не стал. Только уточнил:
– Контрабанда, значит?
Ольгерда пожала плечами: каждый выживает, как умеет.
– И что именно твой братец… возит?
– Я не уточняла, но… через него можно достать интересные зелья… скажем, «Лунный свет». Или вот «Очарование». Я не пользовалась, ты не думай…
– А приворотное? Нестандартное?
Ольгерда призадумалась. Приворотными она не пользовалась принципиально. Во-первых, результат непредсказуем. Во-вторых, незаконно. А в-третьих… она и без этой гадости неплохо справлялась.
Раньше.
– Не знаю, – честно сказала она. – Мне без надобности, но могу поинтересоваться…
– Твой родственник случайно не упоминал Белялинских?
Ее что, допрашивают?
– Ему и упоминать не надо. Он у них приказчиком подвизается.
– Что ты про них знаешь?
Определенно, допрашивают.
– А что мне за это будет?
– Мое хорошее к тебе отношение, – Себастьян еще подвинулся. – И кусок одеяла.
– А разве ты плохо ко мне относишься?
– Ольгерда!
– Что? Признай, тебе ведь было удобно. Являлась по первому зову. Когда становилась не нужна, исчезала. Ни тебе претензий. Ни тебе скандалов… почти… извини, но себя не переделаешь. Главное, что никаких усилий…
– Чего ты хочешь?
А вот это уже другой разговор. И Ольгерда, подтянув одеяло – не хватало еще насморка получить, хороша она будет, соблазнительница, с текущим носом, – сказала:
– Мне нужен Порфирий.
Себастьян повернулся к ней и, смеривши насмешливым взглядом, поинтересовался:
– Тебе как, указом его во владение? Или просто бантик повязать?
Издевается?