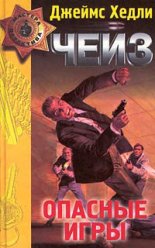Человек из ресторана Шмелев Иван
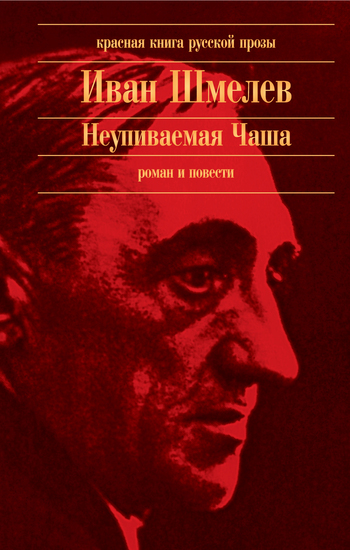
А он мне:
— Уйдите вы прочь! — Кулак сжал и в подушку ткнулся.
— Да пощади ты, — говорю, — хоть отца! Я из себя для вас жилы тяну, свету не видал… Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя оттябель выйдет! — стал ему рацеи читать. — Какой из тебя полезный член выйдет? Скандал за скандалом… в квартире человек удавился, нам неприятность… С человеком меня поссорил! А он сколько раз меня поддержал… Протекцию тебе оказал, как в училище поступать… через знакомство с учителем…
А он ногой — раз! — о кровать.
— Так ты так! — говорю. — Ну, теперь я все вижу! Это твой Васиков долгоногий тебя с пути сбил! Как стал к тебе ходить с книжками, так ты как другой стал… Ну, так чтоб духу его у меня в квартире не было! Ответишь ты мне? — кричу. — Всех выгоню! И Пахомова не пущу! Его, подлеца, выгнали за грубиянство, а он к тебе ужинать ходит? Ты его, дармоеда, кормишь!
Пронял его. Встал он, посмотрел так на меня и головой качает. Потом я уж понял, что не надо бы так. Бедный парнишка был Пахомов этот и больной. Прачка его мать была, а его выгнали из училища за плохое поведение… Так он до места к Колюшке ходил, очень бедный… Вот Колюшка мне и говорит:
— И вам не стыдно? — Правду, конечно, он сказал. — Не стыдно вам?! Куска пожалели! Не ждал я от вас этого. Сами рассказывали, как нужду терпели, корочки от каши после рабочих в реке размачивали… Будьте покойны, не придет… Но только знайте… я и сам освобожу от расходов… Может быть, и для меня жалко?
И заплакал. Смотрю, стоит у стола, скатерть теребит. И курточка на нем вздрагивает, заплаточка на локте… и поясок перекосился. Вот как сейчас его вижу. И штаны выше щиколоток поднялись, голенища видны. И так мне его вдруг жалко стало. Такое расстройство, а тут еще сами друг другу обиду делаем.
— Да, — говорит, — вы там, в вашем ресторане, с господами очерствели…
Потом вдруг и вынимает из пазухи конверт.
— Вот вам от директора письмо.
Так все во мне и оборвалось.
— Какое письмо? зачем?
— Прочитайте… — И отвернулся. Никогда никаких писем раньше не было, а тут вдруг… Отпечатал я письмо, руки у меня — вот что… дрожат, смотрю
— бумага с номером, и написано на машинке, что приглашает меня на завтрашний день к двенадцати часам сам директор… Для разговора о сыне Николае Скороходове. Спросил я его, о чем говорить приглашают, а он только плечами пожал.
— Может быть, — говорит, — из-за Мартышки… учитель у нас есть… У меня с ним столкновение вышло…
— Какое столкновение? Что такое?
— Он меня негодяем при всем классе обозвал… Я отговаривал на войну деньги собирать, а он высказал, что только негодяи могут не сочувствовать… А сам сына по знакомству от мобилизации освободил. Ну, я и сказал ему — это как называется? А он из класса ушел. Должно быть, за этим и вызывают…
— И ты, — говорю, — так сказал? Колюшка! Что ж ты наделал?!
— Да, сказал. Я ничего не боюсь, пусть хоть» и выгонят… Думаете, что очень мне их диплом нужен? И так его достану.
— Как так? Значит, — говорю, — все мои труды и заботы на ветер?
— Нет. Я вам очень благодарен. Я теперь по крайней мере все понимаю. Они требуют, чтобы я извинение попросил у Мартышки, но я у него просить не стану! Поглядел я на образ и сказал в горе:
— Вот тебе Казанская Божия Матерь… при ней говорю, как мне тяжело! Колюшка, — говорю, — попроси извинения!…
— Нет, не могу. Может быть, меня и не выгонят еще… Только полгода всего и учиться-то осталось… И оставим, пожалуйста, этот разговор… Все обойдется… Так это все скрутилось сразу. А тут еще Наташка из гимназии пришла и чуть не плачет:
— Мне замечание начальница сделала… чуть не оборванкой назвала… Не пойду я в гимназию! Новое платье мне нужно, у меня все заштопано, и швы побелели… И все на высоких каблуках, а у меня стоптано все… Шварк книги под кровать — и реветь от злости. Каторга окаянная! Как сказал я ей про Кривого, так и села. И такое томление тогда на меня напало, хоть сам в петлю полезай… Вот какая полоса нашла.
Плюнул я на всех и пошел в ресторан. Хоть на людях забыться! А какое там забыться! Хуже, хуже это чужое веселье раздражает…
VI
Прямо как несчастье какое наслал на нас Кривой. И такое меня зло разобрало: зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, и Наташка с него перенимала. Рядиться стала, локоны начала взбивать, с гимназистами на каток бегать стала, в картинную галерею… И все-то не по ней, и все претензии: и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестнo в гости позвать. Требовать стала, чтобы Луша обязательно в шляпке ходила. поправлять в разговоре стала даже: «До сих пор, говорит, „куфня“ говорите и „ндравится“… Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать!
— Чего тебе, глупая, — спрашиваю, — совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай… Я тебе запрещаю?
— Вы ничего не понимаете! Какая у нас обстановка? Диван драный да половики со шваброй?
Пожалуйте! Это дрянь-то! Семнадцать лет всего — и разговаривать! А я знал, знал, чего ей совестно! Материто она все высказала. Что я служу в ресторане! Наврала подругам, что я в фирме служу. В фирме! Дура-то! Боялась, что подруги узнают. А у них там больше дочери купцов, вот ей и совестно. И ведь наврала, в бумаге наврала! Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, а она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане! Вот какое зрение у них! Швыряй отец деньгами, да с любовницами, да по проходам, — им не будет стыдно! Что же, это ее в училище так обучили? И насмотрелся я на это опровержение! Сколько раз, бывало, начнет какой что-нибудь такое высказывать супруге или там которая с ним из барынь, вроде замечания… Да вот как-то доктор Самогрузов и скажи супруге:
— Чешешься ты, как кухарка… волосы у тебя в разные стороны…
Так она вся в жар:
— Как тебе не стыдно при лакеях мне!..
Стыдно при лакеях! А не стыдно и похуже чего, и не только при лакеях, а прямо на всеобщем виде? Не стыдно, что ногами трутся, как кобели? Ей-богу! Как в компании парочками рассядутся, чтобы вперемежку, для интереса в разговоре, так после ликеров-то, под столом-то… ногами-то… Из рюмочек тянут, а глаза запускают с вывертом. Знаю я им цену настоящую, знаю-с, как они там ни разговаривай по-французски и о разных предметах. Одна так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами, и очень им обидно, что подвалы там и всякие заразы… Уж лучше бы ругались. По крайности сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет… знают тоже, как подать, чтобы с пылью.
А то вот как голод был… Мы, конечно, всегда сыты при нашем деле, а вот как приехал к поваренку отец и начал он на кухне плакаться, как тут у вас всего очень много, а у них там хлеб из осиновой коры пекут, так у нас разговор пошел, и Икоркин всех донял. Так сказал, даже Игнатий Елисеич хвалил:
— Тебе бы, — говорит, — Икоркин, попом быть! По копейке с номера стали отчислять в день, рубль двадцать копеек.
И Икоркин каждый месяц отправлял в комитет заказным и нам квитанцию представлял.
— Смотрите, послал, а не себе в карман, как другие делают.
И в газетах было. Ну, и в залах у нас кружки стояли и тоже сборы делались. Поужинают в компании, к ликерам приступят, господи благослови, вот один какой и начнет соболезновать: вот мы, дескать, тут прохлаждаемся и все, а там дети с голоду помирают. И сейчас какой-нибудь барыньке шляпу в ручку, и она начинает:
— Жертвуйте, господа! Иван Петрович, Петр Иваныч! Ну, от своей бедности! Ну-у же…
И ей это большое удовольствие, и кривляется, и так, и тянет, и глазами… Ну, и соберут рублей десять, а по счету ресторану рублей сто уплатят.
А то артистка одна к нам со своей компанией ездила, так та себя на распродажу пускала. И очень много смеху у них бывало. Ручку голую поцеловать до локотка — три рубля, к плечу там — пять, а к шейке — красненькая… И так всю исцелуют, что… Один красное пятно ей насосал, штраф наложили по суду сообща. И вышел раз скандал. Сидел с ними в кабинете один, очень мрачный из себя, фабрика у него была канительная, Иван Иваныч Густов, вот который застрелился от скуки жизни. Так он так-то вот встал и говорит:
— Дам вам на голодающих вот это! — и вытащил бумажник. — Тут у меня десять тысяч, сейчас из банка взял. Я вам расценок устрою всем. Всем вам в хари плюну — и на голодающих?!
Матушки, что вышло! И бумажником об стол хватил. Ему тут двое карточки суют, с артисткой обморок, на диван ее потащили, с кулаками лезут, а он их отстранил одним взмахом', положил бумажник в карман, да и говорит:
— Плевка жалко!
И пошел. А потом в газетах было, что десять тысяч на голодающих от неизвестного посетителя ресторана нашего. Вот это я понимаю!
И вот пошел я в ресторан, а сердце совсем расстроилось, и никак в себя прийти не могу. А при нашем деле верткость нужна и тревоги чтобы — ни-ни. Потому как тревога — так все равно как из кармана. А нельзя не идти — две экстренности: свадьба и юбилей. И с маху, не успел и за дело взяться как следует, а тут три дюжины тарелок в угловую гостиную понес, да замлело что-то во мне-и врастяжку. По десять целковых дюжина! Второй раз только за всю службу. Первый раз хрусталю наколотил на двадцать четыре целковых, баккара, посклизнулся на апельсинную корочку и сварил. Да вот в этот раз. Сейчас метрдотель. Сварил? Сварил. Заплотишь. У нас это просто — из залога берут. И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, забился бы куда в дырку, чтобы не видно было, лежал бы и плакал. Обида одолела. А тут туда-сюда, счета, марки из отделения в отделение сортируешь, то по буфету, то по кухне, то по сервировке, то в счете не так что-то… Все помни, что кто заказал. Первое наше дело — ноги и память. Весь как на струне. А как что неладно вышло, так весь день и пойдет одоление.
Закончились обеды, сервировали в угловой, и уж съезд. Пошли и пошли. А народ все капризный и раздражительный, учителя эти. Редко у нас бывают, та-ак, раз в год по обещанию, зато уж тут с напряжением: дескать, мы тоже все понимаем. Приступили к закуске, то-се… И пошли гонять. Распорядитель юбилея у них был — метрдотеля за пояс заткнет, и голос зычный. Того нет, другого нет, метрдотеля сюда, да почему икры только в трех вазах, да почему больше форшмаки да тефтели, да рыбного чтобы больше, да балыка, да лососины, да омаров… Знают, что в цене! Это по шесть-то рублей с персоны, конечно, без вина! Думал, что ему еще глазков маринованных поднесут за шесть-то рублей!
Совсем я закружился.' И вот как рок какой! Ну, точно вот нарочно! Несу пирожки, смотрю — он! Его превосходительство, Колюшкин директор. И такой на меня страх напал, что чуть блюдо не выскочило. В глаза ему попасть боюсь. И как нарочно — куда ни станешь, отовсюду его видать. Такой он широкий, выпуклый, как ящик какой. Взглянешь — и он точно глядит. И вот будто у него что против меня в мыслях есть.
И как стал пирожками с икрой обносить, чуть блюдо держу. И как приказали им на тарелочку положить, я им волованчиков огратен, и крокеточков, и зернистой икры вдоволь наложил — они очень эту закуску обожали — и стал опять следить за ними. И когда они последнюю крокеточку в рот сунули, подняли голову и на меня уставились очень ласково. Очень я испугался. Вот, думаю, сейчас спросит. А они пожевали-пожевали, проглотили и пальцем мне. Вмиг предстал и жду. А они так ласково посмотрели мне в лоб и говорят:
— Дай-ка мне еще икорки… и вот этих еще… Я им еще крокеточков и икры, как на порцию.
Но только они меня как бы и не признали. Очень возможно, что и забыли, потому что я года три тому, как к ним в последний раз являлся и прошение о плате подавал. Так весь вечер их вид для меня как казнь была. И как начали рыбу подавать, потребовали, чтобы я им мозельвейну дал.
А праздновали не то чтобы юбилей, а награждение. Директора гимназии, старичка, повысили в попечители. Вот все и собрались на обед, чтобы праздновать. И сейчас после рыбы речи наступили. А как речи, тут уж движение прекращается. Стой и слушай. И очень хорошо говорили, что надо растить поколение для пользы народа и чтобы больше свету. И тосты говорили, и пили за все. И решили телеграмму послать. Это у нас всегда. Поговорят-поговорят — и сейчас кому-нибудь телеграмму.
А у меня так сердце и мозжит, и так захолодает, что сколько раз выбегал я на кухню. Выбежишь в сени, снежку приложишь под манишку к сердцу — и отпустит. А небо все-то звездами усеяно… И так там хорошо, и далеко, и тихо, а у нас — ад. А тут, на кухне, скандал еще. Повар Семен опять бунтовать пришел. Его за пьянство прогнали, так он на моих глазах с ножом кинулся на старшого и рассек ему котлетным ножом руку, и сам зарезаться хотел… Пришел опять наверх, а тут огни и блеск и оркестр играет… Даже удивительно, как в волшебном царстве. Стали с юбилея расходиться, и не мог я томления одолеть, как стал директор Колюшкин собираться. Стал у двери и жду. И решение во мне такое, чтобы, как пройдет мимо, напомнить им про себя и про Колюшку попросить. Идет он к двери, ласково так посмотрел на меня и говорит:
— Человек, там я на окошке грушу оставил и еще что-то…
Побежал я к окну — приметил уж я, что они там грушу положили и мандаринов, — прибавил еще пару слив белых и поднес. Он их сейчас в задний карман мундира запихнул и дал мне полтинник. А я и говорю ему вослед:
— Ваше превосходительство… дозвольте попросить… А он обернулся и так сердито:
— Я вам, кажется, дал?! И пошел. А тут меня распорядитель кликнули. Он, значит, думал, что я еще на чай захотел… не понял… Убраться бы и идти домой, ноги не ходят, и состояние такое ужасное, а разве с юбилея-то их скоро прогонишь? Заплатили денежки, так надо их оправдать. Вина допивали под руководством ихнего распорядителя. И загонял он меня с бутылками! Все бутылки по счету проверил, высчитал на бумажке, что осталось, и распорядился по-хозяйски. Очень насчет этого дела оказался способный человек, хоть и учитель.
— Початые, — говорит, — мы жертвуем для прислуги, за эти вот со счета долой, пусть ресторан примет, а вот этот пяточек, — хорошие отобрал! — ты в кулечек упакуй и завтра в свободную минуту вот по карточке снесешь на квартиру.
Порылся в кошельке и тридцать копеек дал. И допивали они початое очень долго, но только был уже свободный разговор, и очень горячо рассуждали про этого, которого поздравляли. И разобрали его по всем статьям и начистоту. Под конец у нас всегда так, начистоту… И так много было работы в ту ночь, часа два в порядок приводили угловую гостиную. Очень все задрызгали и окурков натыкали по всем местам, даже в портьеры. Так что Игнатий Елисеич нам выговор задал, что не смотрели. Поди-ка поговори! И какие жадные! Так это прямо удивительно. Все, что рассчитал метрдотель с распорядителем ихним, все как есть очистили. И ведь не то чтобы съесть, айв карман. Конечно, по части фруктов. И каждый так улыбнется и скажет:
— Ребятам, что ли, взять… на память… И уж как один сделал, так и пошли — на память. И у одного даже мундир просочился — на грушу сел. Конечно, надо же свои шесть целковых отъесть. И ведь тоже знают — как и что. Закуску обработали умеючи. Икры там, омаров и балыка — и звания не осталось. Вмиг сервировали. И разговаривают, а уж руку натрафят без промаха. И у нас, конечно, тоже свой план. Закуску подставлять с переменами, чтобы сперва погорячей чего и потяжелей, а уж там на прикрас пустить из легкого. Так они тоже это очень хорошо понимают… Сосисички на сковородках, тефтельки там и форшмаки не осадили сгоряча… Пять раз лососины прирезали и балыка. И, конечно, ресторан наш немного заработал. А к концу еще неприятность. Прислали горничную с квартиры от одного, что на юбилее был. Барин портсигар серебряный оставили на столике. Искать — нет. Всех номеров опросили — никто не видал. А у нас бывает, что и бумажники оставляют, и мы их в контору сдаем. А такую-то дрянь, ему и цена-то пятнадцать целковых! — кто позарится. Так и не нашли. Может быть, и из гостей кто по забывчивости в карман сунул на манер чужих спичек. На этот счет у нас бывало. Одна барыня подняла так-то вот брошку в зале, повертела, поглядела так по сторонам и… в платочек. И я это видел. И она это видела, и вся как маков цвет, а не отдала. А как я скажу метрдотелю? И барыня-то незнакомая… Может, и ее это брошка. А утром к нам от фабриканта присылают — не у вас ли брошку жена потеряла в пятьсот рублей? Вот и портсигар… Но только нам репутация дороже денег.
VII
Сказался я метрдотелю, что завтра приду к двум часам. Пришел домой в четыре, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнатку сбились и спят при огне. Страшно им, что Кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула. Колюшка так на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти — рядом с той комнатой, где Кривой обитал.
Поднял Колюшка голову и смотрит тяжело так. И сразу похудел, одни глаза.
— Чего ж ты не ложишься? — спрашиваю. Молчит. А Луша мне:
— Измаял он меня. Хоть ты-то его успокой. Все твердит — из-за нас да из-за нас… И так-то тот все мерещится, а он еще тут… Спасибо еще Черепахин Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала…
Посмотрел я — дверь в комнатку Кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Колюшку успокаивать. Рассказал, что директора видел и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердито так:
— Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует… А то привыкли кланяться!..
Очень он меня этими словами уколол.
— А вот ты, — говорю, — привык с отцом зуб за зуб! Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то Кривого, который нам напакостил через свою гордость… Он, — говорю, — и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь!
А он мне с такой укоризной и даже головой стал качать:
— А вы еще про религию говорите! Религиозный человек!..
Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про Кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить.
— А ты, — говорю, — после этого скот, а не сын! Дармоед ты!.. Вот что!
Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы… Рванул я Наташку с дивана, обругал… А она со сна смотрит — ничего не понимает. Пошел, водки выпил прямо из графина. Залить бы все… Я очень много тогда перестрадал и потом. Ах, как я болел Колюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто… Друг дружку обижали… Характер-то у него во-от… каменный…
Легли мы с Лушей спать, и она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. Не останусь и не останусь здесь ни за что! Во всех углах, говорит, куда ни пойдешь, все представляется, как дразнится. И мне-то — вот стоит в дверях и смотрит, как той ночью… А у нас очень крысы полы грызли тогда, — ну прямо как царапается кто под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. А Луша и говорит:
— Поликарп-то Сидорыч как странно стал себя вести… Сегодня весь день, как ты ушел, по комнате кружился и себя за голову щупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес… Говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? Рублей пять стоит…
— Что ж тут такого? — говорю. — Он к нам очень расположен…
— Да. Если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких сродственников нет, а вам удовольствие… Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся…
А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви, выпила нашатырного спирта. Рассказывал мне. С молодым человеком жила, а тот женился… Черепахин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал, и присудили только к церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало, и он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете. И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозился подвиг какой ни на есть совершить, чтобы себя ознаменовать. И очень его специальность мучила, насчет трубы. Только и разговору: связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила:
— Что это вы, Черепахин, такой большой, — а он очень высокий и могущественный, — и такими пустяками занимаетесь, в трубу играете?.. Если бы вы на рояли могли играть, а это даже и не музыка!..
А он весь покраснеет и руки начнет потирать.
— Все равно, и это как музыка, только, конечно, не для женского уха… А если бы у меня были деньги, я бы на рояли стал… У меня очень пальцы способны для рояли… И как растопырит, такой смех — как вилы. А та его на трубе заставляет играть, а он стесняется.
— Ну, тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду.
И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница. А он для нее был как ягненок, очень хорошего характера для нее-то.
Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия — от черепахи, так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался. А потом вдруг заявился и говорит:
— Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали… Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел…
Очень нас насмешил. Чудак был!..
— Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит но голове, так череп — ах! Вот его и прозвали. И это в суде записано, и можете даже справиться во Владимирской губернии… И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге… И сам я тоже очень страшной силы человек и могу пять пудов одной рукой вытянуть!..
Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бечевку. А как Луша забранилась на него, он опять напрямь вытянул.
— И если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите… Я с тем человеком поступлю как с кочергой!..
Лежим мы с Лушей и раздумываем, и слышу я, как в коридорчике словно как чвокает что. Луша мне и говорит:
— Никак Колюшка?.. Что такое с ним творится… А я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуще не расстраивать прежде времени.
Вышел я в коридорчик и слушаю: очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой, а он как вскочит…
— Ай! Испугали вы меня!.. Я ему и стал говорить от сердца:
— Зачем ты и себя и нас мучаешь? Колюшка, милый ты наш сын… голубчик ты мой! Вот ты плачешь… А он с гордостью мне:
— Ничего я не плачу! Представляется вам… А тут спичка и погасла.
Подошел я к нему и сел рядышком. Обнял его в темноте, и так мне его жалко стало… Худой он был — ребра слышны, хоть и жилистый и широкий по кости.
И он ко мне притискался. Молча так посидели. Поласкал я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце.
Только раз один за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы Луша не услыхала:
— Попроси завтра прощения у учителя!.. Ну мало ли и мне обид делали? Люди мы маленькие, с нами все могут сделать, а мы что… А ты бери пример с Исуса Христа…
— Не могу, папочка… не могу!.. Через слезы сказал. И никогда так раньше меня не называл — папочка. И как-то даже совестно мне сделалось и хорошо, очень нежно сказал.
— Я не человек буду после… я не могу!.. Так меня унижали, так мучили… Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет! Не стану!.. Вскочил и меня за руки схватил.
— Знайте, что я на гадости не пойду… Я ваш сын, и я рад… Может, я совсем другой был бы… Папочка, вы ложитесь… вы устали… Ах, папочка!.. Так мне тяжело, так тяжело…
За плечи меня схватил, сам дрожит… И тогда я перекрестил его в темноте.
— Попроси прощения… Мать убьешь, Колюша… У ней сердце больное…
— Не мучайте… не могу!.. А Луша из комнаты звать стала:
— Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Софроныч… жуть…
Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь, все молитвы перечел, какие знал. И за Колюшку, и за упокой души Кривого. А с Лушей припадок случился от удушья, кричала все, чтобы фортки открыть… Всю ночь фортки от ветру бились, точно кто в окошки стучал.
VIII
Так я помню этот день явственно. Разбудила меня Луша:
— Зима на дворе… Смотри, какой снег валит… Светло так стало в квартире, а за окнами стена белая, сыплет густо-нагусто. Стал я в сюртук облекаться, а Луша и спрашивает — зачем. Сказал, что по делу ресторана в одно место.
А сюртук очень ко мне идет, и стал я очень представительный. Пошел. По дороге в часовню Спасителя зашел, свечку поставил. Прихожу в училище. Швейцар при училище был очень из себя солидный, с медальями, и орденами, и нашивками, и такой взгляд привычный, но встретил очень услужливо. Потому у меня фигура складная и, потом, шуба хорошая, с воротником под бобра, как барин я солидный. Как обо мне доложить, спросил. Сказал я, что вот по письму. Тогда он карточку визитную попросил, а у меня нет, и подал мне бумажку — написать, кто и по какому случаю. Понес наверх, а меня в боковую комнату проводил.
Как на суд я пришел. И к людям я привык, но в таких местах робею. А тут хуже суда, все от них зависит, и нельзя никуда жаловаться. Барыня там еще сидела в шляпе, очень хорошо одета, в черном платье со шлейфом. Присел я с краю, очень в ногах слабость почувствовал, в коленках. Всегда так у меня в коленках дрожание бывает, когда тревожно: служба нам на ноги первое дело влияет. И строго там у них все. Шкапы огромные, а за стеклами разные фигуры из алебастра, горки, и звезды, и головы. А на шкапах чучела птиц и банки. И портреты на стопах в рамах, и часы огромные, до полу, в шкапу. Так маятник — чи-чи. Тихо так, а он — чи-чи. А у меня сердце разыгралось. И барыня не в себе. Встала, к окошку подошла, пальцами похрустела и вздохнула. И вдруг мне говорит:
— Как долго… Видите, хочу вас спросить… Я своего мальчика перевожу из гимназии в третий класс… Как вы думаете, могут без экзамена принять?.. У него всЈ награды…
А тут я, по привычке, привстал и говорю — не могу знать. Она так оглянула и ни слова. Да, ей вот тревога, могут ли без экзамена принять, а у меня… А тут швейцар обе половинки настежь, и входит сам директор, его превосходительство. И совсем другой, чем в ресторане. В мундире, голову в плечи и вверх, и взгляд суровый. Пальцем приказал швейцару двери закрыть. И сперва к барыне. Поговорил ничего, ласково, и отпустил. Потом ко мне. Както сбычился и с ходу руку сует. А я запнулся тут — у меня шапка в руке была… Я ему поклонился, а он так взглянул мне в лицо, и так как-то вышло неудобно. Руку-то я его не успел взять, а уж он свою убрал за спину и смотрит мне в лоб.
— Что вам угодно? — важно так спросил и опять мне на лоб посмотрел.
Подал я ему письмо и сказал насчет сына… Тогда он так пальцем сделал и скоро так:
— Д-да! — как вспомнил. — Д-да! Скороходов?.. Понял я, по глазам его понял, что он меня теперь признал. Сморщился он как-то неприятно, пальцами зашевелил и как из себя стал выкидывать на воздух:
— Да, да, да… Мы не знаем… Положительно не знаем, что с ним делать! Положительно невозможен! Я не могу понять! Положительно не могу!
К шкапу стал говорить, а рукой все по воздуху сечет и голосом все выше и выше. А у меня в ногах дрожанье началось и в сапогах как песок насыпан. И внутри все захолодало. А он все кричит:
— Это недопустимо! У нас училище, а не что!.. Вы своего сына знаете?
— Простите, — говорю, — ваше превосходительство! Он всегда уроки учит…
А он и сказать не дал:
— Не про уроки я говорю! Он разнузданный! Он дерзость сказал!
— Простите, — говорю, — ваше превосходительство! Он не в себе был… У нас расстройство вышло… семейное дело…
Хотел объяснить им про Кривого, но он и слова не допустил.
— Это не касается!.. Он дерзость сказал учителю!
— По глупости, ваше превосходительство… Я, — говорю, — его строго накажу. Дозвольте мне объяснить… Но он так разошелся, так закипел, что никакого внимания.
— Дайте сказать! — кричит. — И это не все! Тут гадости!..
И вынимает из кармана два письма.
— Вы знаете… это кто писал мне… донос? Кто это? что это?
И в руки сует. Так мне сразу Кривой и метнулся в голову.
— Что это? Вы об этом знали? Что это, я вас спрашиваю?
Верчу я письма и совсем растерялся. Вижу — такой крючковатый почерк, с хвостиками, как раз Кривого писание. Так и мне записку писал про извинение, крючками и усиками.
— Это, — говорю, — у нас жилец жил, писарь участковый… Он на нас со злобы… Дозвольте сказать… А он и слушать ничего не хочет, осерчал совсем.
— Прошу меня избавить!.. Примите меры!.. Я бы, — говорит, — дал знать в полицию, но не хочу марать училище…
И так горячился, так горячился.
— К нам, — говорит, — посторонние с улицы лезут и дрязги несут…
Очень много в короткое время насказал и про свои заботы. И пальцем все, пальцем, как не в себе. Разгасился весь, дергается… Я слово, он десять… Сказать-то не дозволяет.
— Ваше превосходительство, — говорю, вижу, что он устал от разговора. — Он заботливый и всегда уроки учит и уважает всех… А вот у нас, извините сказать, Кривой, жилец был, который вчера удавился, так он это со зла написал…
А он уж отдохнул и слушать не хочет. И опять стал рукой трясти.
— Довольно, довольно! Не желаю слушать дрязги! Это не касается… Я вам прямо говорю! Если ваш сын в классе не попросит прощения у учителя, мы его уволим из училища!..
— Ваше превосходительство! Помилуйте! Он все сделает и прощения попросит у всех учителей… Я ему прикажу и устыжу при всех… Я, — говорю, — целый день при деле и даже часть ночи, в ресторане, а он без моего глазу рос… А он мне так на это спокойно:
— Должны соблюдать правила!.. Для нас все одинаковы, кто угодно. У нас и сын нашего швейцара учится, и мы рады… Но мы никому не дозволим непокорства, хоть бы и сыну самого министра!..
И опять стал нотацию читать, и что не хочет никого губить, а не может дозволить заразу, потому что у них пятьсот человек. И я стал просить потребовать сюда Колюшку, чтобы ему прочитать при них наставление. Он сейчас пуговку нажал и приказал:
— Позвать Скороходова из седьмого класса! И давай по комнате ходить, как в расстройстве, и волосы ерошить. Красный весь сделался, воды отпил. А я притих и стою. А часы только — чи-чи… Только бы скорей кончилось все… Потом отдышался и опять:
— Груб он и дерзок! Не внушают ему дома!.. Надо обязательно внушать и следить!.. С батюшкой спорит на уроках… А в церковь он ходит?
И тут я сказал, чтобы его защитить, неправду.
— Как же, — говорю, — ваше превосходительство! Каждый праздник, я слежу.
Только плечами пожал и фыркнул. Подошел к окну и стал смотреть. Тихо стало. Только все — чи-чи… А тут как раз и входит мой.
Остановился у шкапа, руку за пояс засунул, бледный, и губы поджаты, даже на ногу отвалился и смотрит вбок. Директор оглянул его и приказал куртку оправить и стать как следует.
Оправился он, надо правду сказать, вразвалку, небрежительно. И так жутко мне стало. Посмотрел он на меня и точно усмехнулся.
Директор ему и говорит:
— Вот, и отец на вас жалуется!.. — А я, правду сказать, не жаловался. — Расстраиваете родителей… Он тоже удивляется вашему поведению… Стойте прямо, когда с вами говорят!..
Так резко крикнул, меня испугал. А тот плечом так дернулся, как дома, когда выговор ему задашь. То есть ни-чего не боится.
— Какое же мое поведение особенное? — даже дерзко так спросил. — Меня назвали…
А тот ему моментально:
— Молчать! — как крикнет.
Что поделаешь! Стиснул рот и замолчал.
— Ваше дело слушать, а не возражать! Я все знаю! А Колюшка опять:
— Меня раньше оскорбили… А тот ему слова не дает сказать:
— Молчать! Я вас выучу, как говорить с начальством! При вашем отце я говорю вам в первый-последний раз: сейчас пойдете в класс, и я приду и… — Учителя он назвал, забыл я фамилию. — И вы попросите прощение за глупую дерзость.
Я стал делать ему глазами и умолять, но он не внял.
— Нет, — говорит, — я не могу просить прощения… Он меня оскорбил первый… Это несправедливо… Так меня в жар бросило. А директор так к нему и подскочил.
— Ка-ак? Вы, мальчишка, осмелились!.. Грубиян! Ни за что считаете, что училище заботилось о вас! Дали вам образование! Должны считать за счастье!..
А тот дернулся и бац:
— Почему же за счастье? — И так насмешливо поглядел, как на меня.
А у директора даже голос сорвался, как он крикнул:
— Не рассуждать! С швейцаром говорите? Я выучу разговаривать!.. Мальчишка, грубиян!..
Я стою как на огне, а ему хоть бы что! Позеленел весь и так и режет начисто:
— И вы на меня не кричите! Я вам тоже не швейцар! Ну, тогда директор прямо из себя вышел, даже очки сорвал. Надо правду сказать, так было дерзко со стороны Колюшки, что даже невероятно. Ведь начальство — и так говорить! И директор велел ему идти вон:
— Вон уйдите! Я вас из училища выгоню!.. А тот даже взвизгнул:
— Можете! Выгоняйте! Не буду извиняться! Не буду! И ушел. Я к директору, а он и на меня руками. Весь красный, воротник руками теребит, задыхается. А я стал просить:
— Ваше превосходительство… помилуйте… У нас расстройство… не в себе он, мучается…
А он совсем ослаб и уже тихо:
— Нет, нет… Берите его… мы его вон… исключим… Вон, вон! Не могу… Никаких прощений… Довольно!.. И ушел. Я за ним, а он дверью хлопнул. И остался я один…
Попрекал меня Колюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда… Не становился я на колени, нет, неправда… Я их просил, очень просил вникнуть, а они так вот рукой сделали и вышли. И никого не было, как я просил вникнуть. А на колени я не становился… Я тогда как бы соображение потерял… Да… Так вот шкапы стояли, а так вот они, и я к ним приблизился… и стал очень просить… Я, может быть, даже руку к ним протянул, это верно, но чтобы на колени… нет, этого не было, не было… Они вышли очень поспешно, а меня шатнуло, и я локтем раздавил стекло в шкапу…
И вдруг передо мной встал какой-то высокий в мундире с пуговицами, перышко в зубах держал… Глаза такие злобные, и так гордо сказал:
— По поручению директора объявляю, что Скороходов Николай будет исключен.
Повернулся на каблуках и пошел с перышком. А тут мне швейцар и показывает на шкап:
— Уж вы заплатите, а то с нас взыщут… И заплатил я ему за стекло полтинник. Он мне шубу подал и пожалел даже. Спросил меня:
— У вас сынка исключают? У нас очень строго. А вы идите по карточке этой, — и карточку мне в руку сунул, — у них такое же училище, и они у нас раньше учились… Могу рекомендовать… У них двести рублей только… А может, и скинут, если попросить…
А как вышел я, ничего не видя, во дворе слышу:
— Папаша! погодите!
А это Колюшка с бокового хода, с книжками. Бежит, пальто на ходу надевает, и книжки у него рассыпались прямо в снег. Помог я ему собрать, а он гребет их со снегом, мнет, листки выпали, остались так.
— Не надо теперь… не надо… Но я подобрал их и сунул ему в карман. И снег шел, такой снег… Пошли двором… Смотрю я на Колюшку, что он так тихо идет. А он назад кинулся, где книжки рассыпал… Стал искать опять, ничего не нашел… Опять пошли к воротам. И уж не смотрю на него, а стараюсь по тропке идти, кругом снегу намело.
— Ну, что же… все равно… Говорит, а сам нос чешет.
— Ничего… я сразу сдам… все равно… И замолчал. И я ничего не мог сказать: слова не было такого. Иду, он рядом. Дошли до ворот. Тут он оглянулся, посмотрел на училище… и так горлом сделал: гу… И лицо у него было… Щурился он, чтобы не заплакать… И снег нам в лицо прямо был, густой снег. И так глухо сказал:
— Несправедливо меня… они…
Выкрикнул. И заплакал, махнул рукой.
— Все равно… ничего…
Дошли до угла, а я все не могу говорить. И повернул я в переулок, чтобы в ресторан идти. Не мог я домой идти. Там Луша…
— Папаша, вы куда? Насилу я выговорил:
— Куда?.. в ресторан пойду… И разошлись. Одумался я, пришло мне в голову тут, что ему обязательно домой надо. И обернулся я, чтобы наказать ему, чтобы домой он шел, а его уж не видно. Такой снег валил, такой снег… свету не видать…
IX
вот какое мне испытание выпало! А за что? Что я, не исполнял своей службы и обязанностей? Разговорился я как-то с Иван Афанасьичем — старичок у нас на дворе жил, учитель из уездного училища, в отставке от службы. Так он и про себя рассказывал мне очень много горького. И вот скажу, как ни тяжело мне было, а легче как-то стало на сердце: другим еще тяжелей бывает! У него сын как вышел в люди и поступил булгахтером на фабрику на две тысячи, так его загнал прямо в щель. Так и сказал:
— Вы, папаша, живете на моем иждивении, потому что ваша пенсия только на квартиру хватает…
И всю пенсию его стал забирать за стол и квартиру отдавал ему носить свои старые брюки. А поместил его в коридоре на сундуке. А как старичок пожелал уехать в комнатку ко мне и жить на свой страх на пенсию, не допустил.