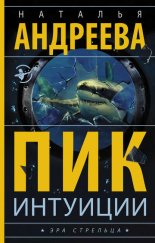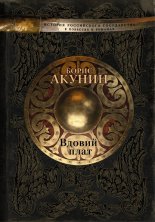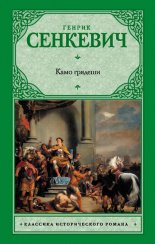Женщина французского лейтенанта Фаулз Джон

1
Томас Харди. Загадка
- На запад лишь
- В даль морскую
- Твой взгляд устремлен,
- В ненастье и тишь,
- Тайны взыскуя,
- Похожей на сон;
- Так ты стоишь
- С давних времен,
- Ног под собой не чуя.
Хуже восточного ветра в заливе Лайм ничего не бывает – этот залив отхватил самый большой кусок от нижней части ноги, которую Англия выпростала в юго-западном направлении, – и любой зевака выдвинул бы не одну серьезную гипотезу по поводу парочки, которая прохаживалась по набережной Лайм-Риджиса, маленького древнего эпонима этого огрызка, на редкость ветреным и пронизывающим утром позднего марта 1867 года.
Мыс Кобб приучал постоянных наблюдателей к своему виду на протяжении по меньшей мере семи столетий и для жителей Лайма был всего-навсего древней серой стеной в виде длинной лапы, принимающей на себя морские вызовы. А поскольку он расположен вдалеке от главного городка – такой крошечный Пирей по отношению к микроскопическим Афинам, – они почти перестали смотреть в его сторону. За все эти годы им пришлось изрядно раскошелиться на ремонт, чем до известной степени объяснялась их некоторая неприязнь. Но для не столь придирчивого взгляда стороннего налогоплательщика он из себя представлял красивейший морской вал на южном побережье Великобритании. И не столько потому, что, как говорится в путеводителях, от него веет семисотлетней английской историей, или что именно отсюда отплывал флот навстречу Армаде, или что на берег неподалеку отсюда высадился Монмут…[1] а просто это великолепный образчик народного искусства.
Примитивный, но достаточно сложный; слоноподобный и при этом изящный; тонкие изгибы и формы, как у Генри Мура или Микеланджело; весь из чистой прозрачной соли, само олицетворение массы. Я преувеличиваю? Возможно. Но меня легко проверить, поскольку Кобб почти не изменился со времени моего описания, в отличие от Лайма, поэтому, если развернуться лицом к берегу, проверка будет выглядеть некорректной.
А вот если бы вы развернулись к берегу, то есть в сторону севера, в 1867 году, как это сделал в тот день мужчина, вашему взору открылся бы очень гармоничный вид. Живописное скопление десятка домов и пристроившаяся у основания мола скромная лодочная мастерская, где, подобно арке, на стапели вздымалась грудная клетка парусного судна. В полумиле к востоку, среди покатых лугов, виднелись соломенные и черепичные крыши Лайма, городка, пережившего свой расцвет в Средние века и с тех пор постепенно приходившего в упадок. К западу мрачные серые утесы, получившие у местных название Бдительной гряды, отвесно торчали над галечным берегом, на который Монмут сошел когда-то в помрачении рассудка. За грядой, еще дальше от моря, толпились другие утесы, замаскированные густыми лесами. Так что Кобб представлялся последним оплотом дикого, постепенно разрушаемого берега. Это тоже легко проверить. Ни тогда, ни сейчас в этой стороне не просматривалось ни одного жилого дома, если не считать прибрежных хижин.
Местный шпион, а таковой присутствовал, мог бы сделать вывод, что эти двое – приезжие, люди со вкусом, пожелавшие насладиться видами, невзирая на ветродуй. Однако телескоп с сильным увеличением позволил бы ему предположить, что одиночество вдвоем интересует их куда больше, чем морская архитектура, и он наверняка отметил бы, что, судя по их внешнему виду, они принадлежат к высшей касте.
Молодая дама была одета по последнему писку моды с учетом того, что в 1867 году подул новый ветер: женщины восстали против кринолина и больших шляп. Телескоп позволял увидеть пурпурную юбку, вызывающе узкую и достаточно короткую, так как из-под нее и сочно-зеленой накидки выглядывали белые щиколотки в черных ботинках, деликатно цокавших по камням, убранный под сеточку шиньон венчала нескромная шляпка с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, а сбоку изящный пучок перышек цапли – шляпный стиль, какой местные дамы не рискнут себе позволить по меньшей мере еще год. А высокий джентльмен в безукоризненном светло-сером костюме и с цилиндром в свободной руке радикально укоротил бакенбарды, что арбитры английской мужской моды еще год или два назад расценили бы как некоторую вульгарность, присущую разве что иностранцу. Даже сегодня цвета одежды этой дамы многие сочли бы смелыми, но надо учесть, что мир тогда с удивлением открывал для себя анилиновые красители, и женский пол, компенсируя всевозможные запреты, требовал от наряда не столько скромности, сколько блеска.
Но кто по-настоящему озадачил бы вооруженного телескопом наблюдателя, так это еще одна фигура. Она стояла в самой дальней точке сурового изогнутого мола, опираясь на ствол торчащей вверх старинной пушки, издали напоминавшей швартовую тумбу. Она была во всем черном. Ветер развевал ее одежды, но она, не шевелясь, все глядела, глядела в море, больше похожая на живой мемориал утопленникам, мифологическую фигуру, чем на неотъемлемую часть заурядного провинциального дня.
2
В том году (1851) население Великобритании составляло 8 155 000 женщин старше десяти лет и 7 600 000 мужчин. Из чего следует, что если общепринятая судьба викторианской девушки заключалась в том, чтобы стать женой и матерью, то она должна была столкнуться с нехваткой женихов.
Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века
Народная песня «Провожая Сильвию»
- Серебряный парус раскину,
- Уйду от родимой земли;
- Фальшивой слезой сверкнете за мной,
- Когда я исчезну вдали.
– Моя дорогая Тина, мы уже воздали должное Нептуну. Он нас простит, если мы сейчас повернемся к нему спиной.
– Вы не очень-то галантны.
– Простите, вы это к чему?
– Мне казалось, что вы желаете продлить возможность подержать меня за руку, и вдруг подобная бесцеремонность.
– Вы стали такой чувствительной.
– Мы же не в Лондоне.
– У Северного полюса, если не ошибаюсь.
– Я хочу дойти до самого конца.
Мужчина с выражением отчаяния на лице, как будто материковая часть теперь для него навсегда закрыта, снова развернулся, и пара продолжила свой променад по молу.
– А еще я хочу знать, что произошло между вами и папа в прошлый четверг.
– Ваша тетушка уже вытянула из меня все подробности этого приятного вечера.
Девушка остановилась и заглянула ему в глаза.
– Чарльз! Чарльз, вы можете быть сухим как палка со всеми вокруг. Но только не со мной.
– Дорогая, но как нам тогда склеиться в священном браке?
– А свои шуточки вы придержите для одноклубников. – Она повлекла его за собой. – Я получила письмо.
– А-а. Были у меня такие опасения. От мама?
– Я знаю, что-то произошло… за портвейном.
Они молча прошли несколько шагов, прежде чем он решил ответить. На мгновение показалось, что Чарльз намеревался взять серьезный тон, но передумал.
– Признаюсь, у меня с вашим достойным отцом вышел небольшой философский спор.
– Весьма дурно с вашей стороны.
– Я старался быть предельно честным.
– И что же вы обсуждали?
– Ваш отец высказал мнение, что мистера Дарвина следовало бы выставить в зоологическом саду. В клетке для обезьян. Я постарался привести научные аргументы в пользу позиции Дарвина, но безуспешно.Et voil tout[2].
– Как вы могли? Зная папины взгляды!
– Я был предельно уважителен.
– То есть предельно некорректны.
– Он действительно сказал, что не отдаст свою дочь за человека, который считает ее деда обезьяной. Но, я думаю, по зрелом размышлении он вспомнит, что в моем случае речь идет о титулованной обезьяне.
Она бросила на него быстрый взгляд и, не сбавляя шага, отвернулась, слегка склонив голову набок; этим характрным жестом она обычно выражала свою озабоченность, в данную же минуту это относилось к главному, в ее представлении, препятствию на пути к их помолвке. При том что ее отец нажил огромное состояние, ее дед был простым драпировщиком, тогда как дед Чарльза был баронетом. Он улыбнулся и свободной рукой слегка прижал женскую ручку в перчатке, державшую его под локоть.
– Дорогая, мы уже разобрались. Вы испытываете страх перед отцом – это совершенно нормально. Но женюсь я не на нем. И вы забываете, что я ученый. Я как-никак написал монографию. А если вы будете вот так улыбаться, то я посвящу все свое время окаменелостям, а не вам.
– Я не расположена вас ревновать к окаменелостям. – Она взяла искусную паузу. – Вы по ним ступаете по меньшей мере уже целую минуту и даже не удосужились заметить.
Он кинул взгляд себе под ноги и стремительно опустился на колени. В Коббе здесь и там обнаруживаются ископаемые останки.
– Господи, вы только гляньте.Certhidium portlandicum. Это же оолит из Портленда.
– В чьих каменоломнях я вас похороню навечно, если вы сию же минуту не встанете.
Он с улыбкой подчинился.
– Это я привела вас сюда, а вы не цените. Смотрите. – Она подвела его к краю вала, где плоские камни, врезающиеся в стену, служили своего рода грубыми ступенями к прогулочной дорожке ниже уровнем. – С этих самых ступенек Джейн Остин столкнула Луизу Масгроув в «Доводах рассудка».
– Как романтично.
– Джентльмены были романтиками… тогда.
– А нынче стали учеными? Ну что, рискнем спуститься?
– Когда пойдем назад.
Они продолжили путь. Только сейчас он заметил – или, по крайней мере, осознал – половую принадлежность фигуры на конце мола.
– Мать честная. Я думал, это рыбак, а ведь это женщина!
Эрнестина обратила в ту сторону свои красивые серые глаза, вот только она была близорука и потому различала лишь темный силуэт.
– Молодая?
– Отсюда не разберешь.
– Кажется, я догадываюсь. Это, вероятно, Трагедия, бедняжка.
– Трагедия?
– Ее прозвище. Одно из многих.
– А другие?
– Рыбаки дали ей грубое имя.
– Тина, дорогая, вы можете мне смело…
– Они ее называют… женщиной французского лейтенанта.
– Да уж. Она такой изгой, что приходится целыми днями стоять на пирсе?
– Она… немного не в себе. Давайте повернем назад. Я не хочу к ней приближаться.
Они остановились. Он вглядывался в черную фигуру.
– Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?
– Мужчина, которого она…
– Полюбила?
– Хуже.
– Он ее бросил? Остался ребенок?
– Кажется, ребенка нет. Всё сплетни.
– Но что она здесь делает?
– Говорят, ждет его возвращения.
– И… за ней никто не присматривает?
– Она служит у старой миссис Поултни. Но во время наших визитов я ее ни разу не видела. Хотя она там живет. Давайте вернемся, я вас прошу. Мы с ней не знакомы.
Он улыбнулся.
– Если она на вас набросится, я вас защищу, и вы убедитесь, что я не лишен галантности. Идемте.
Они приблизились к фигуре возле пушечного ствола. Женщина держала свою шляпку в руке, а ее волосы были плотно заткнуты назад под воротник довольно странного черного жакета, больше похожего на мужскую охотничью куртку, чем на деталь женского туалета, если говорить о моде последних сорока лет. Хотя она тоже не носила кринолина, было очевидно, что это никак не связано с последними лондонскими веяниями, а просто по забывчивости. Чарльз громко произнес какую-то банальность, тем самым давая женщине понять, что она больше не одна, однако та не отреагировала. Они подошли к точке, откуда был виден ее профиль и взгляд, нацеленный, как винтовка, к горизонту. Из-за сильного порыва ветра Чарльзу пришлось поддержать Эрнестину за талию, а незнакомка еще сильнее вцепилась в пушечный ствол. Сам не зная зачем, возможно чтобы показать своей подруге, как гоняют гусей, он шагнул вперед, как только ветер немного стих.
– Госпожа, мы тревожимся за вашу безопасность. Если ветер усилится…
Она повернулась и посмотрела на него или, как ему показалось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты как таковые, сколько то, чего он совсем не ждал, – в ту эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию: это лицо принадлежало мысу Кобб, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым. Но это было незабываемое, трагическое лицо. Из него струилась печаль, такая же чистая, естественная и непреходящая, как вода в лесном ключе. Ни наигрыша, ни ханжества, ни истерии, ни маски и, главное, никаких признаков безумия. Безумными скорее выглядели пустое море и пустой горизонт – не дававшими повода для печали; как будто явление весны естественно само по себе, исключая пустыню.
Впоследствии Чарльз снова и снова уподоблял этот взгляд копью, имея в виду не только предмет, но и производимый им эффект. На короткое мгновение он ощутил себя вероломным врагом, пронзенным и по заслугам низвергнутым.
Женщина ничего не ответила. Ее взгляд задержался на нем не больше чем на две-три секунды, а затем она вновь обратила его к югу. Эрнестина схватила его за рукав, и он, пожав плечами, повернулся к ней с улыбкой. Когда они уже покидали мол, Чарльз сказал:
– Зря вы мне сообщили эти низменные подробности. Вот в чем беда провинциальной жизни. Все про всех известно, и не остается никакой тайны. Никакой романтики.
В ответ она его подколола:
– Вы же ученый, вы презираете романы.
3
Но еще важнее другое соображение, что все главнейшие черты организации любого живого существа определяются наследственностью; отсюда многие черты строения не связаны в настоящее время непосредственно с современным образом жизни, хотя каждое создание, несомненно, хорошо приспособлено к занимаемому им месту в природе.
Чарльз Дарвин. Происхождение видов (1859)
Из всех десятилетий нашей истории человек мудрый предпочел бы провести свою молодость в 1850-х.
Дж. М. Янг. Портрет века
После обеда в гостинице «Белый лев» Чарльз разглядывал себя в зеркале. Его блуждающие мысли с трудом поддаются описанию. Они крутились вокруг малопонятных вещей, связанных со смутным ощущением собственного поражения, не имеющим прямого отношения к неожиданной встрече в Коббе. Чарльз перебирал в уме всякие мелочи из разговора за обедом с тетушкой Трантер, когда он сознательно уходил от каких-то тем: в полной ли мере его интерес к палеонтологии раскрывает его природные способности; сумеет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так, как он понимает ее; не испытывает ли он чувство бесцельности от одной мысли, что впереди тягучий дождливый день. Не будем забывать, на дворе у нас 1867 год. Ему еще нет тридцати трех. И жизнь ставит перед ним бесконечные вопросы.
Чарльз, видевший себя молодым ученым, вероятно, не так сильно удивился бы, узнав новости из будущего о самолете, реактивном двигателе, телевизоре и радаре; но вот что его точно обескуражило бы, так это совсем другое отношение ко времени. Страшной бедой нашей эпохи считается его нехватка. Наши чувства – поскольку это не вопрос бескорыстной любви к науке и уж точно не особая мудрость – порождают вопрос: почему мы посвящаем столько изобретательности и немалые общественные деньги тому, чтобы ускорить разные процессы? Как будто наша конечная цель – не приблизиться к более совершенному человечеству, а уподобиться молнии. А вот для Чарльза и людей его круга темп человеческого существования твердо определялся словомадажио. Проблема заключалась не в том, чтобы вместить в отпущенное тебе время все, что ты вознамерился сделать, а в том, чтобы это как-то растянуть под длинной колоннадой нерастраченного досуга.
В наши дни одним из самых распространенных симптомов богатства являются всякие неврозы; а в ту эпоху главным его симптомом была безмятежная скука. Это правда, что волна революций 1848 года и память о ныне забытых чартистах тогда стояли за спиной современников зловещей тенью, однако для многих, в том числе для Чарльза, самым существенным в этих отдаленных перекатах было то, что они не привели к взрыву. Шестидесятые были безоговорочно тучными годами, и благоденствие, свалившееся на класс ремесленников и даже рабочих, сделало вероятность революции, по крайней мере в Великобритании, практически немыслимой. Само собой разумеется, Чарльз не имел ни малейшего представления о том, что в это самое время в библиотеке Британского музея один бородатый немецкий еврей тихо работал и что его труды в этих величественных стенах принесут столь яркий красный плод. Если бы вы описали Чарльзу сей фрукт или то, как вскоре его станут поглощать все без разбора, он бы вам не поверил, хотя всего через каких-нибудь шесть месяцев после этого мартовского дня 1867 года в Гамбурге выйдет первый том «Капитала».
Но было еще множество личных причин, по которым Чарльз не годился на удобную роль пессимиста. Его дед, баронет, попал во вторую из двух больших категорий английского поместного эсквайра: любители кларета, они же охотники на лис, они же ученые – собиратели всего, что рождено под солнцем. В основном он собирал книги, но в зрелые годы бросил деньги и, главное, терпение семьи на раскопки безобидных холмиков, покрывавших, наподобие прыщей, три тысячи акров его земли в Уилтшире. Кромлехи и менгиры, кварцевые вкрапления и могилы эпохи неолита – все это было предметом его педантичных поисков. А его старший сын, вступив в наследство, с такой же педантичностью выносил сумками все трофеи из дома. Небеса его за это покарали (или вознаградили): он так и не завел семью. Зато младший сын старика, отец Чарльза, получил всего в достатке – и земли, и денег.
В его жизни случилась лишь одна трагедия: смерть в родах молодой жены и мертворожденный ребенок, не ставший сестрой годовалого Чарльза. Но эту скорбь он проглотил. Он дал своему сыну если не настоящую привязанность, то по крайней мере целую команду домашних учителей и мастеров муштры, а сына он любил чуть меньше, чем себя. Он продал свою долю земли и толково вложил деньги в акции железных дорог… и бестолково – в азартные игры (за утешением он ходил не к Всевышнему, а в «Альмак»[3]); короче, жил так, словно родился в 1702-м, а не в 1802-м, то есть жил в свое удовольствие… и умер, в общем-то, от того же в 1856-м. Чарльз был единственным наследником, и не только сильно пострадавшей отцовской собственности (в конце концов, баккара отыгралась на железнодорожном буме), но со временем и солидного дядиного состояния. Впрочем, в 1867 году дядюшка, несмотря на то что хорошо запал на кларет, не обнаруживал никаких признаков скоротечной жизни.
Чарльз любил дядю, и тот отвечал ему взаимностью. Но это не всегда отражалось в их отношениях. Он частенько соглашался, когда дядя приглашал его поохотиться на куропаток и фазанов, а вот от охоты на лис отказывался наотрез. Ему не было дела до того, что мясо жертв несъедобно, а вот безнаказанность охотников вызывала у него отвращение. К тому же он испытывал неестественное пристрастие к ходьбе, но не к езде верхом, а пешие прогулки считались неподходящим времяпрепровождением для истинного джентльмена, за исключением разве только швейцарских Альп. В принципе он не имел ничего против лошади как таковой, однако невозможность наблюдать за всем не спеша, с близкого расстояния вызывала у него, прирожденного натуралиста, резкое отрицание. Но судьба была к нему благосклонна. Как-то осенью, много лет назад, он выстрелил в необычную птицу, убегавшую с пшеничного поля, не единственного в дядином владении. Поняв, какую редкую особь он лишил жизни, Чарльз испытал смутную досаду, ведь это была одна из последних дроф на равнине Салисбери. Зато дядя был в восторге. Из нее набили чучело, и отныне она на всех таращилась своими глазками-бусинками, этакая индюшка с примесью негритянской крови, из стеклянной клетки в гостиной дома в Уинсайетте.
Дядя докучал заезжим мелкопоместным дворянам рассказами о том, как все произошло, и всякий раз, когда ему взбредало в голову лишить племянника наследства – при этом он делался пунцовым, так как недвижимость по определению переходила по мужской линии, – дядя вспоминал, с какой сердечностью он по-родственному смотрел на бессмертный трофей племянника. Да, у того были свои недостатки. Он не всегда писал дядюшке раз в неделю. А приезжая в Уинсайетт, с любовью, достойной лучшего применения, проводил полдня в библиотеке, куда сам хозяин заходил крайне редко, если вообще когда-нибудь заглядывал.
Но числились за ним грехи и посерьезнее. В Кембридже, добросовестно проштудировав классиков и признав «Тридцать девять статей»[4], он (в отличие от большинства молодых людей того времени) ступил на путь познания. Однако на втором курсе он попал в переплет и туманной лондонской ночью познал нагую девушку. Из пухленьких рук простой кокни он кинулся в объятья Церкви, а днем позже привел в ужас отца известием о том, что желает принять духовный сан. На кризис такого масштаба существовал только один ответ: нечестивый юноша был отправлен в Париж. Там его запятнанная девственность очень быстро почернела до неузнаваемости, как и его планы обручиться с Церковью, на что и рассчитывал отец. Чарльз ясно увидел, кто стоял за Оксфордским движением[5] – римский католицизм propria terra[6]. Он отказался растрачивать протестную, но комфортную английскую душу – доля иронии на долю условности – на ладан и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он проштудировал десяток религиозных теорий (voyant trop pour nier, et trop pen pour s’assurer[7]) и в результате вышел из воды здоровым агностиком[8]. Своего божка он обнаружил в Природе, а не в Библии. Родись он на сто лет раньше, был бы деистом или, возможно, пантеистом. За компанию он ходил на утреннюю воскресную службу, но в одиночку выбирался крайне редко.
В 1856-м, проведя в «столице греха» полгода, он вернулся в Англию. Через три месяца умер его отец. Большой дом в Белгравии был сдан в аренду, а Чарльз поселился в скромных апартаментах в Кенсингтоне, более подходящих для молодого холостяка. О нем заботились слуга, повар и две служанки – более чем скромно для человека с его связями и состоянием. Но ему там было хорошо, и еще он много путешествовал. Одно или два эссе, посвященных этим странствиям, он отдал в модные журналы. Предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о девяти месяцах, проведенных в Португалии, но Чарльз усматривал в авторстве что-то не совсем достойное, и к тому же это потребовало бы серьезного труда и долгой концентрации внимания. Он немного поиграл с самой идеей – и отказался. Вообще игра с идеями сделалась его главным занятием на третьем десятке.
Медленно дрейфуя в потоке викторианского времени, он, в сущности, не был таким уж легкомысленным. Случайная встреча с человеком, знавшим о маниакальном увлечении его деда, открыла ему глаза: это только в их семье бесконечная муштра, которую старик устраивал ничего не понимающим местным мужичкам, брошенным на какие-то раскопки, была предметом шуток. Другие его знакомые вспоминали сэра Чарльза Смитсона как пионера-археолога, изучавшего Британию до римского вторжения, а отдельные предметы из его утраченной коллекции с благодарностью приютил Британский музей. И постепенно Чарльз осознал, что по своему темпераменту он ближе к деду, чем его родные сыновья. В последние три года он все больше увлекался палеонтологией, новой областью его интересов. Он стал посещатьconversazioni[9] Геологического общества. Дядя смотрел на племянника, покидающего Уинсайетт с молотками и сумкой для сбора камней, с неодобрением; в его представлении поместному джентльмену пристало иметь при себе только хлыст и охотничью винтовку, но по крайней мере это был шаг вперед, если вспомнить чертовы книги в чертовой библиотеке.
Однако еще больше дядю расстраивал в племяннике другой изъян. Желтые ленты и нарциссы, символы Либеральной партии, были для Уинсайетта как красная тряпка для быка. Старик, лазурнейший тори, имел свой интерес. Но Чарльз вежливо отклонял все попытки сделать из него поборника Парламента. Он заявлял о своей политической неангажированности. Втайне же восхищался Гладстоном, который в их родном городке считался злейшим предателем, чье имя даже не упоминалось. Таким образом, не проявив уважения к семье и продемонстрировав социальную праздность, он сам себе перекрыл возможности естественного карьерного роста.
Боюсь, что праздность была его отличительной особенностью. Как многие современники, Чарльз ощущал, что былая ответственность за свои действия уступает место все возрастающему самомнению; новую Британию двигает вперед стремление быть уважаемой вместо прежнего желания делать добро ради добра. Он понимал, что слишком придирчив. Но как можно писать историю, когда у тебя за спиной стоит Маколей[10]? Сочинять прозу и стихи в центре галактики, состоящей из величайших талантов в английской литературе? Быть креативным ученым при живых Лайелле[11] и Дарвине? Быть государственным деятелем, когда Дизраэли и Гладстон, будучи на разных полюсах, заняли все свободное пространство?
Как видите, Чарльз поставил для себя высокую планку. Праздные умники делают так всегда, чтобы оправдать перед своим умом свою же праздность. Короче говоря, он позаимствовал байроническую тоску, но был лишен двух важнейших качеств Байрона: гениальности и любвеобильности.
Но хотя смерть можно отодвинуть, в чем не сомневаются матери с дочками на выданье, рано или поздно она милостиво наносит нам визит. При том что у Чарльза не было широких перспектив, он оставался интересным молодым человеком. Заграничные путешествия, увы, несколько сняли с него патину человека, напрочь лишенного чувства юмора (это качество с викторианской прямотой называлось благонравием, честностью и прочими словами, уводящими от сути), что требовалось от истинного английского джентльмена того времени. В его поведении присутствовал налет цинизма, верный признак внутреннего морального разложения, вот только при его появлении в обществе мамаши тут же начинали его разглядывать, папаши похлопывали его по спине, а девицы принимались нервно хихикать. Чарльзу нравились красивые девушки, и он был не прочь подыграть им и их честолюбивым родителям. В результате он снискал репутацию человека осторожного и холодного; вполне заслуженная награда для того, кто в тридцать лет владел этим искусством не хуже лесного хорька: обнюхав приманку, он ловко ускользал от хорошо завуалированных матримониальных капканов, расставленных у него на пути.
Дядя частенько выводил его на эти разговоры, а Чарльз отшучивался: сами-то пользуетесь гранулированным порошком. Старик принимался ворчать:
– Я еще не встретил подходящую женщину.
– Глупости. Вы по-настоящему и не искали.
– Неправда. Когда я был твоего возраста…
– Вы жили ради своих гончих и охоты на куропаток.
Старик мрачно глядел в стакан с кларетом. Он не особенно жалел о том, что не женат, но горевал, что у него нет детей, которым можно покупать пони и оружие. Вот так уйдет, не оставив никакого следа.
– Я был слеп. Слеп.
– Дорогой дядюшка, не переживайте. У меня отличное зрение, и я высматривал подходящую девушку, но увы.
4
Каролин Нортон. Леди из Ля Гарай (1863)
- Что сделано, останется в веках!
- Тех ждет удача,
- Кто выполнил любовную задачу.
- Он мир покинул, сознавая ясно,
- Что прожил не напрасно.
Большинство британских семей среднего и высшего класса жили над выгребной ямой…
Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века
Большой дом эпохи регентства, принадлежавший миссис Поултни и элегантно подтверждавший ее социальный статус, возвышался на одном из обрывистых холмов на задворках набережной Лайм-Риджис. А вот кухня в подвале с ее функциональными недостатками по сегодняшним меркам явно не выдерживала критики. Хотя обитатели этого дома в 1867 году недвусмысленно дали бы понять, кто является их тираном, все-таки настоящим монстром, глядя из нашего века, вне всякого сомнения, была кухонная плита во всю стену огромного и плохо освещенного помещения. Она состояла из трех печей, которые надо было два раза в день растапливать и два раза в день чистить, чтобы жизнь в доме текла гладко, и не дай бог огоньку потухнуть. Как бы ни припекало летнее солнце, как бы юго-западный ветер ни разгонял над участком монструозные черные облака дыма из трубы, от которых перехватывало дыхание, немилосердные печи надо было кормить. А во что превратились стены! Они взывали: покрасьте же нас в беленький цвет! Но они оставались свинцово-зелеными, словно от разлития желчи после отравления мышьяком, – о чем даже не подозревали простые обитатели, не говоря уже о жившем на верхнем этаже тиране. Хорошо еще, что в кухне было влажно – монстр выводил наружу дым с топленым салом. И все оседало смертной черной пылью.
Старшиной в этой стигийской казарме была миссис Фэйрли, худенькая, маленькая, всегда ходившая в черном, и не столько как вдова, сколько по настроению. Возможно, ее обостренная меланхолия подогревалась видом бесконечного потока простых смертных, наводнявших ее кухню: дворецкие, посыльные, садовники, конюхи, горничные верхних покоев, горничные нижних покоев… они отнимали так много времени и сил, а потом исчезали. Как недостойно и трусливо с их стороны! Когда тебе приходится вставать в шесть и работать с половины седьмого до одиннадцати, а потом с одиннадцати тридцати до четырех тридцати, а потом с пяти до десяти вечера, и так каждый день, по сто часов в неделю, от твоих запасов милосердия и отваги мало что остается.
Легендарный итог того, что испытывают слуги, подвел дворецкий, после которого сменились еще четверо, при расставании с миссис Поултни: «Мадам, лучше я проживу остаток дней в приюте для бедных, чем еще неделю под этой крышей». Некоторые усомнились бы в том, что кто-то в принципе мог так дерзить грозной хозяйке, но когда этот человек спустился вниз с вещами и процитировал себя, они с пониманием отнеслись к тому, что он испытал такие чувства.
Каким образом миссис Фэйрли (вот уж неподходящая фамилия[12]) так долго выносила свою хозяйку, оставалось для всех загадкой. Возможно, при ином раскладе она сама стала бы такой миссис Поултни. Ее удерживала зависть, а также мрачное злопыхательство по поводу бед, регулярно обрушивающихся на этот дом. Короче, обе дамы были потенциальными садистками и не без тайного удовольствия терпели друг друга.
У миссис Поултни были две навязчивые идеи – или две стороны одной идеи. Грязь (хотя она делала своего рода исключение для кухни, так как там находилась только прислуга) и Аморальность. Ни то ни другое не ускользало от ее бдительного ока.
Подобно разжиревшему стервятнику, она без устали кружила с неуемным наслаждением и, потворствуя первой навязчивой идее, проявляла невероятное шестое чувство в отношении пыли, отпечатков пальцев, недостаточно накрахмаленного белья, запахов, пятен, поломок и прочих бед, коим подвержено всякое жилище. Садовника рассчитывали за появление в доме с перепачканными землей руками; дворецкого – за винное пятнышко на одежде; неряху служанку – за моток шерсти, оказавшийся под кроватью.
Но, самое ужасное, даже за пределами собственного дома она не признавала каких-либо ограничений своей власти. Отсутствие на воскресной церковной службе, как утренней, так и вечерней, воспринималось ею как безоговорочное доказательство крайней моральной распущенности. Не дай бог увидеть служанку прогуливающейся с молодым человеком в редкий для нее свободный день – раз в месяц, со скрипом. И не дай бог влюбленному молодому человеку тайно подобраться к «дому Марлборо», где ему назначили свидание; сад был нашпигован человеческими капканами – «человеческими» в том смысле, что поджидавшие его челюсти, хоть и лишенные зубов, запросто могли сломать ему ногу. Эти железные охранники были у миссис Поултни в самом большом фаворе. Вот от кого она никогда не избавлялась.
В гестапо для нее точно нашлось бы местечко. Она умела так допрашивать, что самая твердая девица через пять минут ударялась в слезы. Она была, на свой лад, олицетворением самых вызывающе грубых черт восходящей Британской империи. Ее единственным представлением о законе было сознание своей правоты, а ее единственным представлением о правительстве была безжалостная бомбардировка дерзкого населения.
При этом среди равных себе, в очень узком кругу, она славилась своей щедростью. А поставь вы под сомнение эту репутацию, ваши оппоненты привели бы в ответ неотразимый аргумент: разве добрая, милейшая миссис Поултни не взяла в дом женщину французского лейтенанта? Надо ли добавлять, что добрая, милейшая леди в те дни знала ее под другим, вполне греческим именем.
Эта примечательная история случилась весной 1866-го, ровно за год до описываемых мной событий, и имела отношение к страшной тайне миссис Поултни. А тайна-то – проще не бывает. Она верила в ад.
В то время викарием Лайма был сравнительно свободомыслящий, с теологической точки зрения, мужчина, но при этом он хорошо знал, с какой стороны намазывается маслом его пасторский хлеб. Он вполне устраивал местную паству, традиционно принадлежавшую к низкой церкви[13]. Его проповеди отличались пылким красноречием, а сама церковь обходилась без распятий, икон, украшательств и прочих признаков римской раковой болезни. Когда миссис Поултни объявила ему свои теории грядущей жизни, он воздержался от дискуссии, ибо достаточно скромному священнику не пристало вступать в спор с богатыми прихожанами. Ее кошелек был настолько же открыт для него, насколько был закрыт для ее прислуги, состоявшей из тринадцати человек. Прошлой зимой (уже четвертый год в викторианской Великобритании свирепствовала холера) миссис Поултни приболела, и викарий посещал ее так же часто, как доктора, которые решительно заверяли ее в том, что она страдает от обычного желудочного расстройства, а вовсе не от страшной восточной заразы.
Миссис Поултни была женщиной неглупой. Она отличалась проницательностью в практических вопросах, а ее судьба, как и все, что относилось к личному комфорту, имела сугубо практическое значение. Если она себе представляла Бога, то с лицом герцога Веллингтона и с характером бывалого адвоката – к этой когорте она испытывала особое уважение. Лежа в своей спальне, она пыталась разобраться в непростой математической задачке, которая неотвязно ее преследовала: оценивает ли Господь благотворительность по тому, сколько ты дал, или сколько мог бы дать? Тут она располагала более точными цифрами, чем викарий. Жертвуя церкви приличные суммы, она знала, что они недотягивают до предписанной десятины, с коей должен расставаться серьезный претендент на попадание в рай. Она, конечно, скорректировала свое завещание в сторону более сбалансированных расходов после ее смерти, однако не факт, что Всевышний будет присутствовать во время чтения этого документа. А кроме того, так случилось, что, пока она болела, миссис Фэйрли, читавшая ей перед сном Библию, выбрала притчу о вдовьей лепте[14]. Эта притча, всегда казавшаяся миссис Поултни жутко несправедливой, лежала в ее сердце несравнимо дольше, чем бациллы энтерита в ее кишечнике. Однажды во время болезни она воспользовалась заботливым визитом викария и осторожно устроила проверку собственной совести. Его первой реакцией было отмахнуться от ее душевных переживаний.
– Дорогая мадам, вы твердо стоите на скале. Создатель всевидящ и премудр. Не нам сомневаться в Его милосердии или в Его справедливости.
– Но если Он меня спросит, чиста ли моя совесть?
Викарий улыбнулся.
– Вы ответите, что она охвачена тревогой. И Он, чье сострадание не знает границ, отпустит вам…
– А если нет?
– Дорогая миссис Поултни, за такие речи мне придется сделать вам реприманд. Не нам обсуждать Его решения.
Повисло молчание. Для миссис Поултни викарий как бы раздваивался. Один был не ровня ей в социальном отношении, и от нее зависело, насколько богат его стол и достаточно ли денег на церковные нужды и на исполнение нелитургических обязанностей среди бедных; а другой был представителем Бога, пред коим, выражаясь метафорически, ей следовало преклонить колена. Вот почему ее поведение часто выглядело чудновато и непоследовательно. Тоde haut en bas, то de bas en haut[15], а порой ей удавалось соединить их в одной фразе.
– Если бы бедный Фредерик был жив. Он бы мне дал нужный совет.
– Несомненно. И этот совет не отличался бы от моего, можете быть уверены. Я знаю, он был христианином. А то, что я вам говорю, есть прочная христианская доктрина.
– Это было мне предупреждение. И наказание.
Викарий строго на нее посмотрел.
– Поосторожнее, госпожа, поосторожнее. Это прерогатива Создателя, и не нам туда вторгаться.
Она решила переменить тему. Интересно, как все викарии мира обоснуют раннюю смерть ее мужа? Это осталось между ней и Богом загадкой, подобной черному опалу, и он то сиял грозным предзнаменованием, то казался суммой, которую она уже оплатила в счет будущего покаяния.
– Я жертвовала. Но я не совершала добрых дел.
– Жертвовать – это и есть доброе дело.
– Мне далеко до леди Коттон.
Столь неожиданное снижение в мирскую плоскость викария не удивило. Миссис Поултни уже не раз давала ему понять, как сильно она уступает этой даме в своеобразной гонке набожных. Леди Коттон, жившая в нескольких милях от Лайма, славилась своим рвением по части благодеяний. Она ходила на исповедь, возглавляла миссионерское общество, открыла приют для падших женщин… правда, там установили такое суровое покаяние, что большинство выгодоприобретателей в этом «обществе Магдалины» при первой возможности пробирались обратно в яму плотского греха – вот только миссис Поултни знала об этом не больше, чем о вульгарном подтексте прозвища «Трагедия»[16].
Викарий прокашлялся.
– Леди Коттон является примером для всех нас. – Сам того не зная, он подлил масла в огонь.
– Я должна прийти на исповедь.
– Прекрасно.
– Просто я потом так расстраиваюсь. – Поддержки от викария не последовало. – Это дурно, я знаю.
– Ну-ну.
– Да. Очень дурно.
Во время затянувшейся паузы викарий подумал об ужине, до которого оставался еще час, а миссис Поултни – о своем дурномыслии. А потом заговорила с непривычной для себя робостью, найдя компромиссное решение проблемы:
– Если вам известна благородная дама, столкнувшаяся с неблагоприятными обстоятельствами…
– Я не вполне понимаю, к чему вы клоните.
– Я хочу взять компаньонку. Мне самой сейчас трудно писать. К тому же миссис Фэйрли скверно читает вслух. Если найдется подходящая женщина, я готова предоставить ей жилье.
– Что ж, воля ваша. Я наведу справки.
Миссис Поултни слегка поежилась от того, что так бесцеремонно припала на грудь служителю христианской веры.
– Ее моральный облик должен быть безупречен. Я пекусь о своей прислуге.
– Разумеется, госпожа, разумеется.
Викарий поднялся.
– И желательно без родни. От родственников подопечной часто одни хлопоты.
– Я вам порекомендую, не сомневайтесь, только подходящую кандидатуру. – Он сжал ей ладонь и направился к двери.
– И еще, мистер Форсайт. Чтобы она была не слишком юной.
Он отвесил поклон и покинул комнату. Уже спустившись до середины лестницы, он вдруг остановился. Кое-что вспомнил. Подумал. И испытал некое чувство, возможно, не столь уж далекое от злорадства на почве затяжного лицемерия – или, уж точно, недостаточной откровенности с его стороны – в разговоре с облаченной в бомбазин миссис Поултни. В общем, какой-то порыв заставил его развернуться и снова подняться в гостиную. Он остановился на пороге.
– Я вспомнил о подходящей кандидатуре. Ее зовут Сара Вудраф.
5
Альфред Теннисон. In Memoriam (1850)
- Что тут сказать? Когда бы Смерть
- Несла всему уничтоженье,
- То и Любовь была бы тленье
- Иль тягостная круговерть
- Влечений грубых и пустых —
- Так в лунных чащах на полянах
- Толчется сброд сатиров пьяных,
- Пресытясь на пирах своих[17].
Молодые люди все рвались увидеть Лайм.
Джейн Остин. Доводы рассудка
У Эрнестины лицо идеально соответствовало возрасту: овальное, с маленьким подбородком, нежное, как фиалка. Вы и сейчас можете его увидеть в рисунках великолепных иллюстраторов того времени: Физа, Джона Лича. Ее серые глаза и бледность кожи только подчеркивали изящество всего остального. При первом знакомстве она красиво потупляла взор, словно готовая упасть в обморок, если джентльмен осмелится к ней обратиться. Но легкий изгиб век и такой же изгиб в уголках губ – продолжая сравнение, почти незаметный, как запах февральской фиалки – перечеркивали, вкрадчиво, но вполне очевидно, ее готовность безоговорочно подчиниться Мужчине, этому земному богу. Ортодоксальный викторианец, возможно, с неодобрением отнесся бы к этой неуловимой отсылке к Бекки Шарп, но что касается Чарльза, то он находил ее неотразимой. Она была так похожа на маленьких чопорных куколок, всяких Джорджин, Викторий, Альбертин, Матильд и прочих, сидевших на балах под надежной охраной… ан нет.
Когда Чарльз покинул дом тетушки Трантер на Брод-стрит, чтобы пройти примерно сто метров до своей гостиницы, а потом подняться в свой номер и с серьезным видом – все влюбленные слабы умом, не так ли? – удостовериться перед зеркалом, какое у него красивое лицо, Эрнестина, извинившись перед тетушкой, ушла к себе, чтобы проводить взглядом суженого из-за кружевных занавесок. Это была единственная комната в доме, где она сносно себя чувствовала.
Отдав должное его походке и в еще большей степени тому, как он приподнял цилиндр перед их служанкой, возвращавшейся после выполнения поручения… ивозненавидев его за это, поскольку девушка могла похвастаться живыми глазками дорсетской крестьянки и заманчивым румянцем, а Чарльзу было строжайшим образом запрещено обращать свой взор на женщин моложе шестидесяти, – к счастью, тетушка не попала под запрет, имея лишний год в запасе, – Эрнестина отошла от окна. Комната была обставлена с учетом ее вкусовых предпочтений, подчеркнуто французских: мебель такая же громоздкая, как принято у англичан, но с легкой позолотой и малость поизящнее. А так дом непреклонно, массивно и безоговорочно был выдержан в стиле двадцатипятилетней давности – такой музей предметов, созданных в высокомерном отрицании всего декадентского, легкого и изящного, что могло бы ассоциироваться с памятью или моралью одиозного Георга Четвертого по прозвищу Принни[18].
Тетушку Трантер невозможно было не любить; сама мысль о том, чтобы сердиться на это невинно улыбающееся и воркующее – да-да, воркующее – существо, казалась абсурдной. Она обладала оптимизмом успешных старых служанок. Одиночество озлобляет – или учит независимости. Тетушка Трантер научилась доставлять радость себе, а закончила тем, что доставляла радость окружающим.
Эрнестина же умудрялась сердиться на тетушку по разным поводам: отказ ужинать в пять часов, похоронная мебель во всем доме, повышенная озабоченность собственной персоной (она не понимала, что жених и невеста желают посидеть одни или погулять вдвоем) и, самое главное, требование, чтобы Эрнестина жила в Лайме.
Бедняжке пришлось пройти через страдания, известные с незапамятных времен единственному ребенку в семье – тяжелый, давящий балдахин родительской заботы. В раннем детстве даже легкое покашливание заканчивалось вызовом врачей; в период половой зрелости по первой ее прихоти появлялись декораторы и портнихи; а стоило ей накукситься, и папу с мамой еще долго мучили угрызения совести. Все это было еще полбеды, пока дело касалось платьев и стенных драпировок, но была одна тема, когда ееbouderies[19] и жалобы не могли возыметь никакого действия. Это касалось ее здоровья. Родители не сомневались в том, что у нее чахотка. Обнаружив влажность в подвале, они переезжали в другой дом, а после двухдневного дождя перебирались в другой район. Ее осмотрела половина докторов на Харли-стрит и ничего не нашла. Она никогда ничем серьезным не болела. Ни летаргии, ни хронических слабостей. Она могла бы – если бы ей, конечно, разрешили – протанцевать всю ночь, а утром еще поиграть в волан как ни в чем не бывало. Но шансов поколебать дрожащих над ней родителей у нее было не больше, чем у младенца сдвинуть гору. Если бы они могли заглянуть в будущее! Эрнестина пережила всех своих современников. Она родилась в 1848 году, а умерла в день, когда Гитлер оккупировал Польшу.
Неотъемлемой составляющей столь необязательного режима стало ее ежегодное пребывание в доме родной сестры ее матери в Лайме. Обычно она сюда приезжала для смены обстановки, а в этот раз ее отправили пораньше – набраться сил перед свадьбой. Хотя бриз с Ла-Манша, очевидно, был ей полезен, каждый раз она садилась в экипаж, чтобы ехать в Лайм, с тоской арестанта, отправленного в Сибирь. Местное общество было таким же современным, как тетушкина громоздкая мебель красного дерева, а если говорить о развлечениях, то для девушки, избалованной светским Лондоном, это было хуже, чем ничего. Так что их связь с тетушкой напоминала скорее отношения между пылкой английской Джульеттой и страдающей плоскостопием няней, чем родственные. Если бы прошлой зимой на эту сцену, к счастью, не вышел Ромео, пообещавший скрасить ее тюремное одиночество, она бы взбунтовалась… по крайней мере, сама была в этом почти уверена. Сила воли у Эрнестины явно превосходила пределы допустимого – с учетом эпохи. Но, по счастью, она очень уважала условности. С Чарльзом ее роднили – и это сыграло не последнюю роль в их быстром сближении – юмор и самоирония. Без них она превратилась бы в жутко испорченного ребенка. Так она частенько отзывалась о самой себе («Ты жутко испорченный ребенок»), что во многом ее оправдывало.
В тот день, стоя перед зеркалом, она расстегнула платье и осталась в сорочке и нижней юбке. Несколько секунд она занималась нарциссизмом. Шея и плечи выгодно подчеркивали ее лицо. Она действительно была хороша собой, редкая красавица. И, словно в доказательство этого, она распустила волосы – жест отчасти греховный, как она догадывалась, но такой же необходимый, как горячая ванна или теплая постель в зимнюю ночь. На воистину греховную секунду она вообразила себя порочной женщиной – танцовщицей, актрисой. А затем, если бы вы за ней наблюдали, то увидели бы нечто весьма любопытное. Вдруг она перестала поворачиваться то одним боком, то другим, изучая собственный профиль, бросила короткий взгляд к потолку, пошевелила губами и, поспешно открыв платяной шкаф, облачилась в пеньюар.
Совершая свои пируэты, она поймала в зеркале уголок кровати, и в голове промелькнула сексуальная мысль, фантазия, что-то вроде Лаокоона, обвитого обнаженными женскими конечностями. В совокуплении ее пугало не только собственное глубокое невежество, но еще и окружающая сей акт аура боли и насилия, все это перечеркивало и мягкость жестов, и целомудренность дозволенных нежностей, что так привлекало ее в Чарльзе. Один или два раза она видела совокупляющихся животных, и эта картина насилия надолго врезалась в ее память.
В результате она выработала своего рода внутренний приказ, непроизносимые вслух слова «Я не должна» на случай любых телесных проявлений – сексуальных, менструальных, детородных, когда ее посещали подобные мысли. Да, можно отгонять волков от жилища, но они продолжают завывать в ночи. Эрнестина желала мужа, и конкретно Чарльза, желала детей, но цена, которую придется за все это заплатить, как она себе смутно представляла, казалась ей чрезмерной.
Она периодически удивлялась, почему Господь разрешил эту животную версию Долга, омрачающую невинное желание. Многие женщины того времени считали так же, как и многие мужчины, и нет ничего удивительного в том, что долг стал ключевой концепцией в нашем понимании викторианской эпохи – и, если на то пошло, обескураживающим понятием в наше время[20].
Усмирив волков, Эрнестина подошла к туалетному столику, открыла ключом выдвижной ящичек и достала свой дневник в черном сафьяновом переплете с золотым замочком. Из другого ящичка она извлекла потайной ключик, которым открыла дневник. Она сразу обратилась к последней странице, куда в день обручения с Чарльзом она вписала месяцы и дни, остающиеся до свадьбы. Два месяца уже были аккуратно вычеркнуты, оставалось еще примерно девяносто дат. Эрнестина отделила от переплета инкрустированный слоновой костью карандаш и вычеркнула 26 марта. Хотя до полуночи оставалось еще девять часов, она по обыкновению позволила себе этот невинный обман. Затем она обратилась к началу дневника, то есть не совсем к началу, поскольку это был рождественский подарок. Где-то после пятнадцати страниц, исписанных мелким почерком, обнаружились пустые страницы с вложенной веточкой жасмина. Пару секунд она ее разглядывала, а затем наклонилась и понюхала. Прядка волос упала на страницу. Она закрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти ни с чем не сравнимый день, когда казалось, что она умрет от счастья, слезы текли безостановочно, что-то непередаваемое…
Но тут она услышала шаги тетушки Трантер на лестнице, спешно убрала дневник в ящичек и начала расчесывать свои воздушные каштановые волосы.
6
Альфред Теннисон. Мод (1855)
- Ах, Мод, молочно-белый фавн,
- Какая из тебя жена!
Когда викарий вернулся с этим известием, на лице миссис Поултни отразилась озадаченность. А с дамами вроде нее безуспешные обращения к знаниям чаще всего приводят к успешному неодобрению. Ее лицо прекрасно выражало это чувство: глаза уж точно не были «приютом безмолвной молитвы», как сказано у Теннисона, а щеки – каждая как второй подбородок – сдавили губы в заслуженном отвержении всего, что угрожало ее двум жизненным принципам: 1) «цивилизация – это мыло» (я позаимствовал саркастическую формулу Трейчке[21]) и 2) «уважение – это то, что не оскорбляет моих чувств». Сейчас она была похожа на белого пекинеса, а точнее, на чучело пекинеса, поскольку прятала на груди мешочек с камфарой в качестве профилактики от холеры, так что от нее всегда попахивало шариками от моли.
– Я такой не знаю.
Викарий, получивший щелчок по носу, про себя подумал, что было бы, если бы добрый самарянин встретил не несчастного прохожего, а миссис Поултни.
– Ничего удивительного. Девочка-то из Чарнмута.
– Девочка?
– Сейчас женщина лет тридцати. Или чуть больше. Не хочу гадать. – Викарий уже понимал, что начал свою рекомендацию не лучшим образом. – Но случай весьма печальный. Она, безусловно, заслуживает вашего благодеяния.
– Она получила образование?
– Да. В качестве гувернантки. И уже успела поработать.
– А чем занимается сейчас?
– Насколько мне известно, безработная.
– Почему?
– Это долгая история.
– Хотелось бы ее выслушать, прежде чем идти дальше.
Пришлось викарию снова сесть и рассказать ей все, что он знал, или часть того, что знал (в своем отважном стремлении спасти душу миссис Поултни викарий готов был поставить под удар свою собственную) о Саре Вудраф.
– Отец девочки снимал жилье в доме лорда Меритона, недалеко от Биминстера. Простой фермер, но человек высоких принципов и весьма уважаемый в округе. Он поступил мудро, дав ей отличное образование, что трудно было ожидать.
– Он умер?
– Несколько лет назад. Девушка стала гувернанткой в семье капитана Джона Талбота в Чармуте.
– Он ей даст рекомендательное письмо?
– Дорогая миссис Поултни, если я правильно понял наш предыдущий разговор, речь идет о благотворительном деянии, а не о приеме на работу.
Она подтвердила коротким кивком, и большего извинения от нее ожидать не приходилось.
– Без сомнения, такое письмо может быть получено, – продолжил он. – Она покинула его дом по собственному желанию. Дело было так. Вы же помните, как французский барк – кажется, он приплыл из Сен-Мало – прибило к берегу в Стоунбэрроу во время жуткого шторма в прошлом декабре? И вы наверняка помните, что трех членов команды спасли жители Чармута. Два из них – простые моряки. А третий, как я понимаю, морской лейтенант. Ему раздробило ногу, но он уцепился за лонжерон, и волны вынесли его на берег. Вы, конечно, про все это читали.
– Очень может быть. Вообще-то я не люблю французов.
– Капитан Талбот, сам морской офицер, милостиво препоручил домашним заботу о… об иностранце. Тот не говорил по-английски. Так что мисс Вудраф пригласили переводить и выполнять его просьбы.